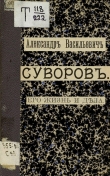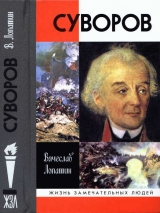
Текст книги "Суворов"
Автор книги: Вячеслав Лопатин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 37 страниц)
Жубер прибыл на смену Моро, прибыл прямо из Парижа, сразу после своей свадьбы. Современники высоко ценили полководческое дарование ровесника и ближайшего сподвижника Бонапарта. Сам Суворов называет его генералом, «доверенность войск имевшим и храбростию славившимся». Жубер поклялся разбить «кровожадного Аттилу» и вернуться триумфатором. Его армия, доносил Суворов, расположилась «на хребтах высоких, утесистых близлежащих гор» и имела «всевозможные выгоды оборонительной позиции», делавшей «всякое покушение на нее неприступным». Русский полководец попытался выманить неприятеля на равнину, но это удалось лишь частично. И тогда союзная армия ранним утром начала атаку правым флангом – австрийскими частями. В первой же схватке Жубер был смертельно ранен. Принявший командование Моро в течение всего жаркого дня выдерживал атаки русских войск в центре. Особенно отличился Багратион.
«Когда в центр войски его (противника. – В. Л.) были собраны, правый фланг его обессилился», – говорилось в реляции победителя. Австрийский генерал Мелас по приказу Суворова атаковал правый фланг французов, заходя им в тыл. «Неприятель был повсюду опрокинут; замешательство его в центре и на левом крыле (союзной армии. – В. Л.) было свыше всякого выражения; он выгнан был из выгоднейшей своей позиции, потерял всю свою артиллерию и обращен в бегство… Все соединенные войски… гнали его, брали в плен, разили за восемь верст и далее от Нови. Таким образом продолжалось 16 часов сражение упорнейшее, кровопролитнейшее и, в летописях мира, по выгодному положению неприятеля, единственное. Мрак ночи покрыл позор врагов».
Потери французов составили более двадцати тысяч человек (из них до семи тысяч убитыми) – почти половину армии, тогда как русские потеряли 348 человек убитыми и более 1500 ранеными, австрийцы – 900 человек убитыми и 3200 ранеными.
Имя освободителя Италии от ига французов гремело в Европе. В ознаменование выдающихся заслуг Суворова император Павел даровал ему титул князя Италийского. В особом приказе повелевалось «в благодарность подвигов Князя Италийского Графа Суворова-Рымникского гвардии и всем Российским войскам, даже и в присутствии Государя, отдавать ему все воинские почести подобно отдаваемым особе Его Императорского Величества».
Победы русского полководца могли принести Европе мир. Но успехи Суворова потрясли не только его противников. По словам одного британского дипломата, глава австрийского кабинета Тутуг «с большим страхом следил за успехами Суворова, чем за успехами своих врагов».
Габсбурги зарились на итальянские владения, а «владычице морей» не улыбалась перспектива увидеть Мальту (стратегически важную базу в Средиземном море) в руках российского императора, принявшего по просьбе мальтийских рыцарей титул Великого магистра – главы этого старинного духовно-рыцарского ордена иоаннитов (госпитальеров). Орден Святого Иоанна был основан еще в 1099 году крестоносцами в Иерусалиме. Выбитые арабами из Палестины рыцари обосновались на Кипре, затем под натиском турок на Родосе и, наконец, с 1530 года на Мальте. Орден был крупной военно-политической силой, имел отделения во многих европейских странах, славился героической борьбой против османов. В 1798 году Великий магистр ордена сдал Мальту генералу Бонапарту, направлявшемуся с десантной армией в Египет. 2 ноября российский император, снисходя к просьбам рыцарей, возложил на себя звание Великого магистра. Этими нехитрыми приемами дельцы большой европейской политики гарантировали горячее участие Павла I в антифранцузской коалиции.
Россия, лишь при Петре Великом ставшая полноправной участницей «европейского концерта», после побед Суворова оказалась в роли главной вершительницы судеб континента. К такому повороту ни Австрия, ни Англия не были готовы. Политики, еще недавно панически боявшиеся французских армий во главе с молодыми и талантливыми полководцами, решили, что опасность позади и русских надо под благовидным предлогом отодвинуть в сторону.
Суворовские планы – наступлением на Геную и Ниццу с полным изгнанием французов из Северной Италии подготовить кампанию по овладению Парижем – были грубо отвергнуты. Через голову командующего император Франц предписал своему генералу Клейнау прекратить наступление и обратить внимание на Флоренцию и Рим.
Вместо восстановления пьемонтской администрации австрийцы устанавливали оккупационный режим. Королю Карлу было запрещено возвращаться в свою столицу Турин, куда его пригласил Суворов. Вспомогательную десятитысячную пьемонтскую армию, на которую так рассчитывал Суворов, набрать не удалось. Вена разрешила сформировать только шесть батальонов под командованием австрийских офицеров, но обманутые пьемонтцы отказывались служить новым оккупантам.
Шестнадцатого августа Суворов получил от императора Франца II первый приказ о переброске русской части союзной итальянской армии в Швейцарию. В ходе переговоров в Петербурге англичанам и австрийцам удалось убедить Павла в необходимости сосредоточить все русские войска в Швейцарии и уже оттуда наступать на Францию.
Суворов пытался противостоять этому ошибочному стратегическому решению. Он указывал на бездействие австрийской армии в Швейцарии: эрцгерцог Карл, имея численное превосходство над французами, не сумел выбить их и снять постоянную угрозу Северной Италии. Полководец доказывал необходимость «покорения крепости Кони и совершенного поражения неприятеля в графстве Ницском и в Савое», чтобы обезопасить освобожденные земли Италии с северо-запада. На операцию требовалось не менее двух месяцев. Кампания 1799 года на этом заканчивалась. К этому времени швейцарские дороги становились непроходимыми для армии, следовательно, переброска русских войск из Италии делалась невозможной. На будущий год, согласно плану Суворова, война должна была закончиться наступлением на Францию с юга и востока и взятием Парижа. В ответ фельдмаршал получил ошеломляющее известие: эрцгерцог Карл спешно покидает свои позиции в Швейцарии, передавая их прибывающим русским войскам (корпус Римского-Корсакова), в помощь которому австрийцы оставляют незначительные силы.
Вывод русского полководца однозначен: «Печальные следствия для Германии и Италии, неизбежные с этой переменой, должны быть очевидны для опытного военачальника». Так говорится в его письме эрцгерцогу от 18 августа с просьбой не спешить «с исполнением хотя бы даже уже отданного повеления, выполнение которого было бы в полном противоречии с великими намерениями, а в лучшем случае может привести к замешательству, хотя бы и незначительному, в достижении общего блага». «Полагаясь совершенно на прозорливость и доброту Вашего сердца, – дипломатично писал Суворов союзнику, – остаюсь спокоен в рассуждении всякого преждевременного шага, и, больше того, надеюсь даже получить приятное известие, что Швейцария обязана восстановлением прежней свободы и своим спасением Вашим новым знаменитым победам».
Но на самом деле он не мог оставаться спокойным, видя пагубность политики австрийского кабинета. Суворов предупреждает о грозящей опасности английского представителя при союзных войсках в Швейцарии Викгама (письмо от 19 августа), старается получить от императора Павла санкцию на задержку русских войск в Италии (донесение от 20 августа). Зная о влиянии на государя Ростопчина, полководец открывает ему свои сокровенные планы успешного ведения войны: «Намерение мое было, взымая к себе от Корсакова 10 000, по кончании утвердить границу и изготовить вступление всеми силами во Францию чрез Дофине, где, верно, до Лиона нам уже яко преданы были, а ныне нечто остыли поступками Венского кабинета с Королем Сардинским».
Пригрозив отставкой, Александр Васильевич буквально вырвал у царя рескрипт Разумовскому – тому предлагалось добиться аудиенции у Франца II и объявить ему: если козни его кабинета будут продолжаться, Суворов имеет повеление собрать все русские войска в одном месте и действовать по своему усмотрению, а Россия немедленно прекратит помощь Австрии. Но посол отказался выполнить повеление государя и даже написал Суворову, что не сомневается в одобрении фельдмаршалом его действий, которые якобы предотвратили обострение отношений между союзниками.
Не лучше действовал в Лондоне Семен Романович Воронцов. При его участии англо-русские переговоры завершились секретным соглашением, по которому Россия посылала эскадру с десантным корпусом для освобождения Нидерландов – исключительно в интересах Англии, стремившейся обезопасить себя со стороны образованной в 1795 году на этой территории Батавской республики, сателлита Франции, располагавшего сильным флотом. Вместо усиления суворовских войск, действовавших на главном направлении, затевалась новая, не предусмотренная ранее операция.
Узнав об этом, австрийское руководство получило дополнительный стимул к тому, чтобы выдвинуть армию эрцгерцога Карла ближе к новому театру военных действий, рассчитывая вернуть под свою власть бельгийские провинции («австрийские Нидерланды»), захваченные Францией.
Суворов был противником десантов, обреченных, как правило, на неудачу, и советовал прибегнуть к этим вспомогательным операциям лишь тогда, когда главные силы союзников будут угрожать Парижу. Его предостережения оказались пророческими: англо-русский десант потерпел сокрушительное поражение. Но политики были уверены в успехе. Этот оптимизм внушили им победы Суворова. В самый канун выступления его армии в Швейцарский поход Воронцов, поддавшись общему настроению, продолжал упиваться победами над французами в Италии. «Какое счастье для Европы, какая слава для России, что к командованию был призван этот великий человек! – пишет он брату, графу Александру Романовичу – Вы не можете себе представить, как им восторгаются здесь. Он стал идолом нации наравне с Нельсоном. Их здоровье пьют ежедневно и во дворцах, и в трактирах, и в хижинах». Посол проглядел интриги английского руководства, бывшего едва ли не главным инициатором переброски русской армии из Италии в Швейцарию.
Не лучше своего лондонского друга действовал граф Ростопчин. Руководитель внешнеполитического ведомства России уже почувствовал тревогу, но ничего не сделал, чтобы помешать переброске суворовской армии в Альпы. «Судя по ходу дел и зная, как Государь недоволен Венским двором, я сильно опасаюсь, что в одно прекрасное утро пропадут без следа все эти успехи, эти прекрасные подвиги и радостные надежды. Через несколько лет французы, пожалуй, опять придут хозяйничать в Италию, а до того времени страна эта сделается добычею Австрийского дома, который отнимет у Итальянских Государей всё, что ему будет угодно», – сказано в письме Ростопчина Воронцову от 25 августа. Самому Суворову, снова писавшему о своей вынужденной отставке, летит утешение:
«Государь намерен спасти Европу, всё равно, от Французов или Цесарцев, а лутче сказать, от Тугута… Если бы Государь оставил теперь Союзные Державы, то Австрия принуждена себя найдет заключить сепаратный мир, на который Франция охотно согласится с тем, чтоб чрез несколько лет начать снова свои завоевания, и в то время ничто не спасет Италию и Немецкую землю от неизбежной погибели.
Но куда денутся плоды великих дел ваших: упование народов на помощь Государя нашего и дух бодрости, оживотворивший те земли, кои Вы избавили от ига Французов? Но, естьли увенчав спасительно дело сие, возстановлен будет престол Царский во Франции, тогда Европа будет спасена, и спасена бескорыстием и твердостию Российского Императора и великими делами Князя Италийского.
Оканчиваю тем, что молю Вас – останьтесь и побеждайте. Повторение просьбы Вашей итти в отставку нанесет страшные следствия для общего блага».
Суворову нужны были не прогнозы и мольбы, а реальное противостояние козням союзников, обрекавших Европу на новые войны. Вместо этого государь утешал Суворова словами, которые вскоре приобретут гротесковый смысл. «Римский Император, Мой брат, – говорилось в рескрипте Павла от 25 августа, – намерен, когда Вы, оставя Италию, перейдете командовать в Швейцарию, вознаградить Вас орденом Марии Терезии Большого креста (высшая награда, даваемая императором Священной Римской империи германской нации за исключительные заслуги на военном поприще. – В. Л.). Я о сем Вас предупреждаю заранее для предохранения, зная, что радость непомерная имеет опасные следствия!»
Добившись согласия Павла на переброску армии Суворова в Швейцарию, Тугут устами своего императора обещал подсластить горькую пилюлю. Сам Павел Петрович также получал великолепный подарок: в Петербург отправлялся эрцгерцог Иосиф, чтобы обвенчаться с великой княжной Александрой Павловной. В свиту жениха был включен член гофкригсрата князь Дитрихштейн, креатура Тугута, один из авторов плана поспешного вывода из Швейцарии австрийских войск и замены их войсками Корсакова и Суворова. Павел, гордый своей миссией спасителя Европы, готовился к брачной церемонии, фактически бросив Суворова на произвол судьбы.
«Хотя в свете ничего не боюсь, – предупреждал Воронцова Суворов, – скажу: в опасности от перевеса Массены мало пособят мои войска отсюда, и поздно… Массена не будет нас ожидать и устремится на Корсакова, потом на Конде».
Двадцать седьмого августа главнокомандующий союзной итальянской армией в прощальном приказе поблагодарил австрийских генералов, офицеров и солдат, вместе с которыми было одержано столько побед: «Желаю уверить всю армию в моем неограниченном к ней уважении, уверить, что не нахожу слов, чтобы выразить вполне, сколько я доволен ими и сколько сожалею о разлуке с таким благоустроенным и неустрашимым войском. Никогда не забуду храбрых австрийцев, которые почтили меня своею доверенностию и любовью; воинов победоносных, соделавших и меня победителем».
Суворов лично с большой сердечностью простился с австрийскими генералами, которые, как отметил в своем донесении Е. Б. Фукс, расставались с ним не без тайной боязни за будущее. Жители Пьемонта провожали русских с сожалением и печалью.
РУССКИЙ ШТЫК ПРОБИЛСЯ СКВОЗЬ АЛЬПЫ
На следующий день русская армия двинулась в поход. Но после всего лишь одного дневного перехода ей пришлось возвращаться назад. Французский гарнизон, блокированный в крепости Тортона, должен был, согласно договоренностям, сдаться утром 31 августа, если не придет выручка. Как только французы узнали об уходе русских войск, они двинулись к Тортоне. Австрийцы, оставшись одни, встревожились не на шутку. Возвращение Суворова заставило неприятеля ретироваться, и 31 августа Тортона капитулировала. В плен попали 49 штаб– и обер-офицеров и 1045 нижних чинов, было взято 62 пушки, 14 мортир, 2700 ружей, 270 пудов пороху, множество снарядов и продовольствие на два месяца. Это была последняя победа Суворова в Италии. Но два дня были потеряны.
Ускоренными маршами фельдмаршал вел свои войска в Таверно. «Я пришел сюда 4/15 числа, следовательно, сдержал мое слово, – донес он императору Францу. – Но здесь не нашел я ни одного мула и даже не имею никаких известий о том, когда прибудут они. Таким образом, поспешность нашего похода осталась бесплодною; решительные выгоды быстроты и стремительности нападения потеряны для предстоящих важных действий».
Для объединения сил с корпусами Римского-Корсакова, Готце и Линкена против армии Массена Суворов избрал трудный, но кратчайший путь через перевал Сен-Готард к Люцерну Обещанные австрийцами 1500 мулов были нужны для подъема провианта, боеприпасов и перевозки горных пушек по альпийским дорогам. Свою артиллерию и армейские обозы он отправил безопасным, но более длинным путем. Не получив мулов, армия была вынуждена использовать под вьюки запасных казачьих лошадей и только 9 сентября продолжила поход. Шесть дней было потеряно.
Суворов держал Корсакова и Готце в курсе своего продвижения, рекомендуя им действовать сообразно со складывающейся обстановкой: «Никакое препятствие не считать слишком большим, никакое сопротивление – слишком значительным. Мы должны быть убеждены в том, что только решительность и стремительный натиск могут решить дело… малейшее промедление дает противнику средства оказать сопротивление, а нам создает новые трудности, которые увеличиваются в связи с трудностями доставки провианта в этой стране без дорог».
Швейцарский поход Суворова досконально изучен историками. Подчеркнем его главные особенности. Согласно разработанному совместно с австрийцами плану корпус Римского-Корсакова и вспомогательные австрийские корпуса Готце и Линкена должны были при подходе Суворова начать наступление и совместными усилиями разгромить французскую армию генерала Массена. Самая трудная задача выпадала на долю суворовских войск. Им предстояло взять почти неприступные горные позиции противника.
Сочетая фронтальные атаки с обходами по горным кручам, войска Суворова 13 сентября штурмовали перевал Сен-Готард, 14-го прорвались через Урнзернский тоннель и форсировали с боем Чертов мост, демонстрируя в горных условиях выдающееся боевое мастерство.
В селении Альтдорф Суворова ждал сюрприз: прямой дороги на Швиц вдоль Л юцернского озера не было. На озере господствовали французы. Прокладывавшие маршрут австрийские офицеры во главе с подполковником генерал-квартирмейстерской службы Францем фон Вейротером «ошиблись» в расчетах.
Миллионы зрителей советского фильма «Суворов» запомнили Вейротера как умного и коварного шпиона, выдававшего французам планы русского главнокомандующего. Когда попался с поличным его сообщник, подполковник сдал его, чтобы замести следы, и австрийский офицер был расстрелян.
В 1985 году, работая над комментариями к письмам Суворова, я обратил внимание на послужной список Вейротера и был поражен открывшимися данными. Римский-Корсаков в своих записках утверждает, что идея похода через Сен-Готард принадлежала австрийцам: «Суворов поначалу был за более надежный маршрут через Сплуген. Фельдмаршал сам впоследствии признавался, что введен был в ошибку советами австрийцев. Он говорил, что вся диспозиция была составлена одним австрийским офицером, при нем состоявшим». Скорее всего, именно Вейротер отвечал за разработку маршрута движения войск через Сен-Готард, Чертов мост, Альтдорф, Швиц на Цюрих.
Тяжелейшее положение, в котором оказалась армия Суворова, – лишь один из эпизодов, «украшающих» послужной список Вейротера. В 1796 году армия Вурмзера, в которой Вейротер занимал должность генерал-квартирмейстера штаба, следовательно, отвечал за планирование операций, была разгромлена Бонапартом в Северной Италии. В 1800-м план наступления армии эрцгерцога Иоанна, разработанный его начальником штаба полковником Вейротером, привел к разгрому австрийцев при Гогенлиндене. В 1805-м сложное маневрирование русско-австрийской армии под Аустерлицем закончилось катастрофой…
Все эти неудачи невозможно объяснить педантизмом кабинетного стратега, не понимавшего сути военного искусства. Беспристрастный исследователь вправе поставить вопрос о прямом пособничестве Вейротера врагу. Небольшая деталь дополняет общую картину: именно Вейротер вел переговоры о поставке мулов в Таверно. Задержка на шесть суток оказалась роковой.
В Альтдорфе Суворов должен был принять решение, каким образом достичь Швица и выполнить обещание, данное Готце и Корсакову. Полководец выбирает кратчайший маршрут – через хребет Росшток по охотничьей тропе, указанной местными жителями.
И по сей день этот путь носит имя Суворова. Ни одной армии мира не доводилось проходить подобными дорогами. «Где пройдет олень, там пройдет и русский солдат! Вперед, чудо-богатыри! – подбадривал своих воинов фельдмаршал, постоянно напоминая: – Корсаков ждет. Без нас его войска в опасности!»
Участник похода граф Павел Тизенгаузен вспоминал:
«Наш путь вел нас прямо из Альтдорфа в высокие горы, где дорога, точнее, пешая тропа, скоро стала настолько узкой, что ни о каком боевом порядке думать не приходилось. Каждый искал, как ему наилучшим образом идти дальше, избегая опасности сорваться в пропасть. Однако многим не удалось ее избежать, а некоторым это стоило жизни: дорога была покатой и из-за выпавшего в горах снега влажной и ненадежной. Продвигаться вперед можно было лишь медленно, длинными колоннами, верхом не ехал никто, и мы, офицеры, должны были сами вести своих лошадей под уздцы. Нагруженные провиантом казачьи лошади попадали в пропасть. Это же произошло со многими мулами с их вьючными седлами…
Так медленно мы и шли вперед, добравшись с наступлением ночи до последней высокой горы на пути в долину Муттена (реки Муотта. – В. Л.) в кантоне Швиц. В темноте только часть войска смогла спуститься вниз, что на крутом спуске было сопряжено с опасностью, и едва ли не половина наших сил с генералом Розенбергом осталась на ночь стоять биваком на горе на пронизывающем горном холоде. В темноте огни их лагеря, если смотреть из долины, являли собой прекрасный вид».
Армия совершила новый подвиг. Авангард Багратиона, затем главные силы спустились в Муттенскую долину, вытянувшуюся с запада на восток. Небольшие отряды неприятеля, не ожидавшие русских, были разбиты и пленены. До Швица оставался один бросок. А там недалеко и цель похода – Цюрих.
Неожиданно в Главную квартиру, расположившуюся в женском монастыре Святого Иосифа, приходит страшная весть: Массена, воспользовавшись уходом эрцгерцога Карла, 14 (25) сентября (в день, когда Суворов прорвался через Чертов мост!) нанес тяжелое поражение корпусу Римского-Корсакова при Цюрихе. Потеряв часть артиллерии и обозы, корпус отступил за Рейн. Командовавший австрийским корпусом храбрый швейцарец Готце, мечтавший об освобождении своей родины и готовившийся к боевому сотрудничеству с Суворовым, в самом начале сражения вместе со штабом попал в засаду и погиб, а корпус, лишившись командования, понес большие потери и отступил. Поспешно отступил и второй австрийский корпус.
Суворовская армия (около двадцати тысяч человек) была заперта в Муттенской долине превосходящими силами неприятеля. Уже после похода полководец дал оценку действиям австрийского руководства, не допускающую никаких кривотолков: «Меня прогоняют в Швейцарию, чтобы там уничтожить». Это не преувеличение. Вопреки настойчивым предупреждениям Суворова, император Франц потребовал ускорить марш в Швейцарию. Эрцгерцог Карл поспешно увел свои главные силы, оставив Корсакову незначительное прикрытие. Сорвав поставку мулов и грузов, австрийцы задержали поход на шесть дней, вынудив русских взять минимальный запас продовольствия и боеприпасов. Сведения о маршруте, предоставленные Суворову Вейротером, разошлись с действительным состоянием театра военных действий. Австрийская разведка не сумела обнаружить подготовку наступления французов, и Корсаков и Готце были застигнуты врасплох. Ближайшие к Суворову вспомогательные австрийские корпуса Линкена и Елачича при первых известиях о поражении соседей поспешно отошли, позволив неприятелю надежно перекрыть выходы из Муттенской долины.
18 (29) сентября в трапезной монастыря Святого Иосифа собрался военный совет. Пришедший первым Багратион увидел фельдмаршала в мундире при всех орденах. Не заметив князя, Суворов взволнованно ходил по трапезной и разговаривал сам с собой: «Парады… разводы… большое к себе уважение: обернется – шляпы долой! Помилуй Господи! Да, и это нужно, да вовремя, а нужнее-то знать вести войну, знать местность, уметь расчесть, не дать себя в обман, уметь бить… А битому быть – не мудрено! Погубить столько тысяч и каких! В один день!» Багратион незаметно ушел и дождался прихода остальных участников совета. Кроме него, собрались генерал-майор Николай Каменский, генерал-майоры Якуб Барановский, Дмитрий Кашкин, Михаил Милорадович, генерал-лейтенанты Максим Ребиндер, Иван Ферстер, Яков Повало-Швейковский, генерал от инфантерии Андрей Розенберг, генерал от кавалерии Вильгельм Дерфельден и великий князь Константин Павлович. Австрийцев на совет не пригласили.
Через несколько лет Багратион рассказал своему адъютанту Якову Старкову об этом совете. Приводим текст речи Суворова в пересказе Старкова:
«Корсаков разбит и прогнан за Рейн! Готце пропал без вести и корпус его рассеян! Елачич и Линкен ушли! Весь план наш расстроен!
Теперь мы среди гор, окружены неприятелем превосходным в силах. Что предпринять нам? Идти назад постыдно. Никогда еще не отступал я. Идти вперед к Швицу – невозможно. У Массены свыше 60 тысяч, у нас же нет и 20. К тому же мы без провианта, без патронов, без артиллерии… Мы окружены врагом сильным, возгордившимся победою, победою, устроенною коварною изменою! Нашему Великому Царю изменил кто же? Верный союзник России – Кабинет великой, могучей Австрии, или, что всё равно, правитель дел ея, министр Тугут с его Гофкригсратом…
Нет! Это уже не измена, а явное предательство, чистое, без глупости, разумное, рассчитанное предательство нас, столько крови своей проливших за спасение Австрии!
Помощи нам ждать не от кого… Мы на краю гибели!..
Теперь одна остается надежда на Бога да на храбрость и самоотвержение моих войск! Мы Русские! С нами Бог!
Спасите честь России и Государя! Спасите сына нашего Императора!»
Герой, прославленный победами, сознавал всю тяжесть ответственности, которая легла на его плечи. Дело шло не только о его собственной безупречной и славной службе, о судьбе доверенных ему тысячах русских жизней – на карту были поставлены честь России и судьба русской военной школы. Багратион признавался, что речь Суворова была речью «великого военного оратора» и произвела на участников совета потрясающее впечатление. Все горели желанием сразиться с врагами, сколько бы их ни было.
На советах первый голос подавали младшие в чине. На этот раз, вопреки традиции и с согласия всех, ответил старший – Вильгельм Христофорович Дерфельден. «Отец наш Александр Васильевич, – сказал убеленный сединами, заслуженный воин, – мы теперь знаем, что нам предстоит. Веди нас, отец, как думаешь, делай, как знаешь. Мы твои, отец, мы русские!»
Все поклялись победить или умереть. Слезы блестели на глазах у Суворова. «Мы, русские, всё одолеем!» – таким напутствием полководец закончил военный совет. Воля главнокомандующего была доведена до каждого офицера и солдата.
Вскоре после смерти Суворова в книгах о нем появился рассказ о том, как перед переходом через Сен-Готард солдаты ужаснулись при виде высоких скал, покрытых снегом, и не хотели идти далее. Узнав об этом, Суворов прибыл в авангард и велел своим воинам рыть ему могилу, сказав: «Оставьте здесь своего генерала: вы не дети мои, я не отец вам более». Потрясенные солдаты просили прощения, клялись не посрамить своего вождя и кинулись на врага. Этот рассказ лег в основу одного из самых драматичных эпизодов фильма «Суворов». Действие было перенесено с Сен-Готарда к Чертову мосту, казавшемуся неприступным и взятому героическим штурмом. Полководец вдохновенно призывает чудо-богатырей к новым подвигам, и на этой высокой ноте фильм завершается.
Сохранилась рукопись одного из участников Альпийского похода поручика Григоровича, который на склоне лет (ему было уже за семьдесят), прочитав в книге Н. Полевого о ропоте солдат, дал отповедь бойкому журналисту: «Полевой говорит, что Фельдмаршал, узнав о возникающем волнении, немедленно велел выстроить полки, а которые, не именует… В наших полках ропота не было, Фельдмаршал не выходил к нам что-нибудь говорить, и о сем мнимом происшествии ни от кого не слыхал, тут и сам был и ничего не видел». Григорович ссылается на Дерфельдена, у которого по пути из Швейцарии в Россию он служил дежурным офицером. Генерал часто беседовал с ним, вспоминая боевые походы, но «никогда о ропоте солдат в альпийских горах не говорил». Ветеран подчеркивает, что не слыхал ничего подобного и от своих подчиненных, будучи командиром роты, в которой служили более шестидесяти участников похода, находившиеся на всём его протяжении в авангарде. «…Полевой всех их обесславил и тем сделал обиду нескольким тысячам своих граждан-солдат пред всем государством нашим, пред миллионами потомков наших и перед всем светом. Я доношу своим соотечественникам, чтоб не верили историку, что он написал о ропоте солдат и о протчих происшествиях. Они ни в чем не виноваты».
Это подтверждает и Старков. Действительно, при подъеме на Сен-Готард авангарда под командованием Багратиона произошла остановка, но причиной была ссора российского майора (русского немца) с австрийским свитским офицером из-за политики венского кабинета. Когда прибыл Суворов (вместе с Дерфельденом), Багратион был уже в передовых частях. Адъютант Багратиона рассказывает:
«Гренадеры сводных баталионов Калемина, Ломоносова и Дендригина, опершись на ружья, стояли с пасмурными лицами перед горою… Александр Васильевич, подъехав к ним, соскочил с лошади и, взглянув на них, строгим тоном спрашивал: "Зачем стали?" И вслед за сим говорил: "Разве не хотите идти?"
И гренадеры в один голос закричали: "Помилуй, отец! Кто не хочет? Да спаси нас Господь Бог от этого! Впереди стали, и нам, отец ты наш, идти нельзя, некуда".
В это время Князь Петр Иванович Багратион приехал с горы от передовых и донес Александру Васильевичу, что вся эта остановка произошла от ссоры майора его полка с Австрийским офицером, и рассказал обо всём, как было. Этому последнему был сделан строжайший выговор; а майор за пылкость свою был арестован до первого боя с врагом, – и только!
И на этой-то основе, как изволите видеть, господа историки соткали ложь, неправду чистую».
В 1806 году Старков по просьбе Багратиона начал читать ему свои уже составленные записки об Итальянском и Швейцарском походах. «Когда я дошел до входа войск наших в Альпийские горы, коснулся и того, что наши ратники будто бы не хотели идти. Князь Петр Иванович бросил курить трубку и, не давая мне времени дочитать, с сердцем спросил:
– От кого вы слышали эту безбожную ложь? От кого слышали? Говорите, сударь!
– Выслушайте, Князь, всё до конца. Увидеть изволите, что это только вступление, молва, происшедшая от неизвестных людей. А вот и опровержение этой лжи.
И я прочел всё, что слышал от многих, бывших при том самовидцами, и поверял слышанное, расспрашивая в 1805 году оставшихся в живых, из служивших в 6-м егерском полку господ офицеров и стариков-ратников.
– Так, да не совсем так, а похоже, – и рассказал мне всё то, что я выше написал».
Свидетельства ветеранов заслуживают доверия. Любовь войск к Суворову была неимоверной. Духовное единство армии с ее вождем стало основой подвига, который без преувеличения должно назвать чудом.