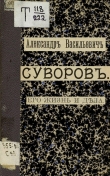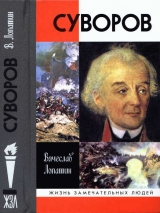
Текст книги "Суворов"
Автор книги: Вячеслав Лопатин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 37 страниц)
А четыре месяца спустя после сражения, 1 февраля 1788 года, Александр Васильевич подробно и красочно рассказал о нем старому боевому товарищу Петру Абрамовичу Текелли-Поповичу.
С австрийским сербом Текелли, перешедшим на русскую службу еще в 1747 году, они познакомились на прусской войне. Служба свела их вместе в 1773 году в армии Румянцева на Дунае. В один день оба были пожалованы в полные генералы. В октябре 1787-го Текелли, командовавший войсками на Кубани и Северном Кавказе, совершил успешный поход против горцев. Сторонники Турции во главе с Шейхмансуром надолго затихли. Петр Абрамович по представлению Потемкина был награжден орденом Святого Владимира 1-й степени.
Рассказ о Кинбурнском сражении в письме к Текелли несравненно ярче, живее и картиннее, чем официальная реляция:
«Высокопревосходительный брат!
Желаю Вас потешить некоторым кратким описанием нашей здешней прошлой Кинбурнской баталии. Накануне Покрова с полден неверные с их флота бомбардировали нас жесточае прежнего, до темноты ночи. С рассвета, на праздник за полдни, несказанно того жесточае били солдат, рвали палатки и разбивали стены и жилье. Я не отвечал ни одним выстрелом. Мы были спокойно в литургии: дал я им выгружаться без малейшего препятства. Они сильно обрылись. После полден варвары зделали умовение и отправляли их молитву пред нашими очами. Часа три пополудни они шли, от замка в версте, на слабое его место от Черного моря. Очаковская хоронга и передовые под закрытым тамо берегом приступили уже шагов на 200. Тогда дан сигнал баталии! С лежащих на косе полигонов залпом из всех пушек, пехота выступила быстро из ворот, казаки из-за крепости. Басурман сильно поразили штыками и копьями кололи их до их ложементов. Тут они храбро сразились. При жестокой пальбе нам надлежало брать их один за другим и идти чрез рвы, валы и рогатки чем далее, тем теснее. Неверные их с великою храбростию защищали. Отличный Орловский полк весьма оредел. Вторая линия вступила в бой сквозь первую линию».
Хотя отборному пятитысячному десанту противника Суворов мог противопоставить лишь около двух тысяч пехоты и конницы, он был уверен в превосходстве своих войск и твердо руководил боем. Но массированный артиллерийский огонь с турецких судов оказался столь губительным, что необстрелянные солдаты его отряда не выдерживали и отступали. Суворов продолжает рассказ:
«Уже мои осилили половину ложементов – и ослабли. Пальба с обеих сторон была смешана с холодным ружьем. Я велел ударить двум легкоконным эскадронам. Турки бросились на саблях, они сломили и нас всех опрокинули, отобрали от нас свои ложементы назад. Я остался в передних рядах. Лошадь моя уведена; я начал уставать; два варвара на збойных (пойманных. – В. Л.) лошадях – прямо на меня. Сколоты казаками; ни единого человека при себе не имел. Мушкетер Ярославского полку Новиков возле меня теряет свою голову; я ему вскричал; он пропорол турчина штыком, его товарища – застрелил, бросился один на тридцать человек. Все побежали, и наши исправились, вступили и паки в бой».
На самом деле спасителем Суворова оказался гренадер Шлиссельбургского пехотного полка Степан Новиков. Главнокомандующий Потемкин вызвал героя к себе в ставку и лично наградил серебряной медалью на георгиевской ленте с надписью «Кинбурн». В замечательной суворовской солдатской памятке «Наука побеждать» подвиг Степана Новикова, правда без упоминания имени, приводится как пример мастерского владения штыком. Новиков дослужился до прапорщика и в начале 1812 года хлопотал перед московским начальством о пенсии.
Поле сражения под Кинбурном несколько раз переходило из рук в руки. Бросив в бой свой последний резерв пехоты и подошедшие два кавалерийских полка, Суворов решил исход сражения. Спастись удалось менее чем десятой части десанта. Полководец пишет:
«Мы побежали на них и одержали несколько ложементов. Но в сих двух сражениях лутчий штаб-офицер убит; кроме подполковника Маркова, протчие все переранены. Г[енерал]-М[айор] Рек ранен. С их флота они стреляли на нас из пятисот пушек бомбами, ядрами и каркасами, а особливо картечами пробивали наши крылья насквозь, полувыстрелом; пехота наша уже выстрелила все ящики. Их пули были больше двойные. Тако возле меня прострелена шея Манееву, из моих штабных. Я получил картечу в бок, потерял дух и был от смерти полногтя. Головы наши летали. Пехота отступила в крепость; мы потеряли пушки; они их, при моих глазах, отвозили. Бог дал мне крепость, я не сомневался, при одной пушке на толпу ударил казак Турченков [и] его товарищ Рекунов – в дротики. Я вскричал; их передних казаки заворотили. Солнце было низко. Из замка прибыло ко мне 400 наихрабрейшей пехоты; вдоль лимана приспевшая легкоконная бригада вломилась в их средину; пехота справа, казаки слева, от Черного моря, – сжали варваров. Смерть летала над главами поганых!Больше версты побоище было тесно и длинно; мы их сперли к водам. Они, как тигры, бросались на нас и наших коней, на саблях, и многих переранили. Отчаяние их продолжалось близ часу. Уже бусурман знатная часть была в воде. Мы передовых ко оной стеснили. Им оставалось места меньше ½ версты; опять они в рубку, и то было их последнее стремление. Прострелена моя рука. Я истекаю кровью. Есаул Кутейников мне перевязал рану своим галстуком с шеи. Я омыл на месте рану в Черном море. Эстакад их в воде нашему войску показался городком. Осталось нашим только достреливать варваров вконец. Едва мы не все наши пули разстреляли, картузов осталось только три. Близ полуночи я кончил истребление. Вы спросите меня, почтенный Герой! чего ради я их всех не докончил? – Судите мою усталь, мои раны. Остерегался я, чтоб в обморок не впасть. Божиею милостию довольным быть надлежало. Не было у меня товарищей, возвратился я в замок. Прибыл Генерал-Маиор Исленьев с пятью эс[кадронами] драгун. В руке рана суха; я держал узду правою рукою. Имел большой голод, как кому бывает перед смертию, и помалу к еде потерял позыв. Безпамятство наступило и, хотя был на ногах, оно продолжалось больше месяца. Реляции не мог полной написать и поныне многое не помню. Нашего общего благодетеля, Князь Григорья Александровича скоро увидел я здесь живо с радостными слезами… Вы спросите меня о нашем уроне? Правда, сперва с легко ранеными был он к тысяче; ныне осталось к излечению человек 30-ть. Сколько увечных, избитых и умерших от ран? Всего, милостию Божиею, только около 250, в том числе майоры Булгаков и Вилимсон, один офицер. Кавалерами: подполковник Марков, полковник Орлов, подполковник Исаев; из капитанов в секунд-майоры и кавалеры – ротмистр Шуханов [и] Калантаев. 6-й крест оставлен лейтенанту Ломбарду, что в полону, – ежели жив. В пехоту и конницу и казакам по 6 медалей – как Кагульские – храбрейшим, коих избирали в корпусах все между собою, но притом Высочайшия Георгия ленты. Князь Григорий Александрович пожаловал мужественнейшим по 5 рублей, вторым – по 2 р[убля], драгунам, кои, за сильным маршем, поспели при конце сражения, – 1 рублю. Сверх того свыше: рядовым по 1-му, унтер-офицерам – по 2-а. Отличившимся произвождение было чрезвычайное; Г[енерал]-М[айору] Реку из 4-го в 3-й класс и 4000 денег».
Первого октября 1907 года, в 120-ю годовщину Кинбурнского сражения, был торжественно открыт памятник Суворову. Одесский скульптор Б.А. Эдуарде изобразил полководца в полный рост. Левой рукой он зажимает полученную под сердцем рану, правой указывает на неприятеля. Вся фигура дышит неукротимой энергией и мужеством. Памятник задумывался для Кинбурна, где ранее стоял бронзовый бюст Суворова, похищенный англичанами во время Крымской войны. Но Кинбурнская крепость уже утратила свое значение и не восстанавливалась, а сама коса представляла собой пустынное место. Поэтому памятник, посвященный знаменитой победе Суворова, было решено установить в Очакове.
Кинбурнская победа досталась нелегко. По горячим следам тяжело раненный Александр Васильевич высказал Потемкину горькую правду: турецкие суда почти безнаказанно расстреливали его солдат. Лиманская эскадра контр-адмирала Мордвинова ничего не сделала. Исключение составил мичман Джулиано Ломбард, мальтиец на русской службе. Героические действия его галеры «Десна» (командир был произведен Потемкиным в лейтенанты), а также точные выстрелы суворовских артиллеристов заставили турецкий флот отойти. Но главным фактором победы стала стремительная атака подошедшего резерва. Великодушный победитель просил главнокомандующего простить «грешников».
Только 4 октября Мордвинов с большим опозданием попытался напасть на турецкий флот, однако противник, укрывшись под стенами Очакова, не понес потерь. Зато плавучая батарея капитан-лейтенанта Веревкина ветром и течением была унесена в море и выброшена на турецкий берег. Среди попавших в плен моряков оказался храбрец Ломбард, напросившийся идти волонтером.
Потемкин сразу оценил выдающуюся роль Суворова в кинбурнской победе. В личном письме победителю от 5 октября он отметил: «Александр Васильевич! Из полторы тысячи один человек только порядочным образом удовлетворил своей должности». Эту же оценку главнокомандующий подтвердил в ордере от 22 октября:
«Ваше Превосходительство совершенным поражением и истреблением турков, дерзнувших на Кинбурн, умножа заслуги ваши пред Монархинею и Отечеством, подтвердили справедливость тех заключений, которые всегда имела Россия о военных Ваших достоинствах.
Ваше бдение и неустрашимость, споспешествуемые храбростию сотрудников ваших, доставили нам сию сколь славную, столь и неприятелю чувствительную победу.
Признавая труды ваши, опасности и важность зделанного туркам удара, чрез сие изъявляю Вам мою искреннюю благодарность и поручаю засвидетельствовать оную также и всему войску, участвовавшему в сем деле».
В письме к Текелли победитель скромно умолчал о полученной им награде. На ней следует остановиться особо. Потемкин 6 октября донес императрице:
«Получа здесь 4-е число рапорт Александра Васильевича о сильном сражении под Кинбурном, не мог я тот час отправить к Вам, матушка Всемилостивейшая Государыня, курьера, ибо донесение его было столь кратко, что я никаких обстоятельств дознать не мог.
Вчерашнего же числа получил полную реляцию, которой по слабости после труда и ран прежде он написать не мог. Дело было столь жарко и отчаянно от турков произведено, что сему еще примеру не бывало. И естли б Бог не помог, полетел бы и Кинбурн, ведя за собою худые следствия.
Должно отдать справедливость усердию и храбрости Александра Васильевича. Он, будучи ранен, не отъехал до конца и тем спас всех. Пришло всё в конфузию и бежали разстроенные с места, неся на плечах турок. Кто же остановил? Гранодер Шлиссельбургского полку примером и поощрениями словесными. К нему пристали бегущие, и всё поворотилось. Сломили неприятеля, и конница ударила, отбили свои пушки и кололи без пощады даже так, что сам Генерал-Аншеф не мог уже упросить спасти ему хотя трех живых».
Получив это донесение, Екатерина призналась своему окружению: «Александр Васильевич поставил нас на колени, но жаль, что его, старика, ранили». Поздравляя Суворова с победой, императрица писала: «Чувствительны Нам раны Ваши. Мы Бога молим, да излечит наискорее сии уязвления, претерпенные при защите веры Православной и предел Империи, и возстановит оными болящего к обретению вящих успехов». Но в выборе награды победителю государыня заколебалась. «Ему же самому думаю дать деньги – тысяч десяток, либо вещь, буде ты чего лутче не придумаешь», – писала она Потемкину. В конце письма сделана приписка: «Пришло мне было на ум, не послать ли к Суворову ленту Андреевскую, но тут паки консидерация (условность) та, что старее его Князь Юрья Долгоруков, Каменский, Меллер и другие – не имеют. Егорья Большого [креста] – еще более консидерации меня удерживают послать. И так, никак не могу ни на что решиться, а пишу к тебе и прошу твоего дружеского совета, понеже ты еси воистину советодатель мой добросовестный». Условности старшинства, на которые часто сетовал Суворов, должны были учитываться и верховной властью.
Пересылая рескрипт государыни, Потемкин 2 ноября заверил Суворова в скором получении достойной награды: «Друг мой сердешный, Александр Васильевич. Я полагал сам к Вам быть с извещением о Милости Высочайшей, с какою принята была победа неприятеля под Кинбурном, но ожидание к себе Генерала Цесарского тому воспрепятствовало. Препровождаю теперь к Вам письмо Ея Величества, столь милостливыми выражениями наполненное, и при том [спешу] Вас уведомить, что вскоре получите знаки отличной Монаршей милости… Будьте уверены, что я поставляю себе достоинством отдавать Вам справедливость, и, конечно, не доведу Вас, чтоб сожалели быть под моим начальством».
Не избалованный признанием своих заслуг Суворов был потрясен. 5 ноября в порыве счастья из-под его пера рождаются строки: «Такого писания от Высочайшего Престола я никогда ни у кого не видывал. Судите ж, Светлейший Князь! мое простонравие; как же мне не утешаться милостьми Вашей Светлости! Ключ таинства моей души всегда будет в Ваших руках».
Светлейший князь сдержал слово. 1 ноября, подробно описав императрице сражение, он еще раз подчеркнул значение победы для хода войны и дал высшую оценку победителю:
«Кто, матушка, может иметь такую львиную храбрость. Генерал-Аншеф, получивший все отличности, какие заслужить можно, на шестидесятом году служит с такой горячностию, как двадцатипятилетний, которому еще надобно зделать свою репутацию…
Всё описав, я ожидаю от правосудия Вашего наградить сего достойного и почтенного старика. Кто больше его заслужил отличность?! Я не хочу делать сравнения, дабы исчислением имян не унизить достоинство Св. Андрея; сколько таких, в коих нет ни веры, ни верности. И сколько таких, в коих ни службы, ни храбрости. Награждение орденом достойного – ордену честь. Я начинаю с себя – отдайте ему мой…
Он отозвался предварительно, что ни деревень, ни денег не желает и почтет таким награждением себя обиженным… Важность его службы мне близко видна. Вы уверены, матушка, что я непристрастен в одобрениях, хотя бы то друг или злодей мне был. Сердце мое не носит пятна зависти или мщения».
Нет никаких свидетельств того, что Суворов отказался от денежных сумм или деревень. Просто князь Григорий Александрович как никто другой читал в душе своего «друга сердешного»: высший орден империи значил для старого воина больше любых материальных благ.
Императрица вняла уверениям Потемкина. «Я, видя из твоих писем подробно службу Александра Васильевича Суворова, решилась к нему послать за веру и верность Св. Андрея», – говорится в письме Екатерины от 9 ноября.
Главнокомандующий поздравил Суворова. В его письме из Херсона от 24 ноября читаем: «За Богом молитва, а за Государем служба не пропадает. Поздравляю Вас, мой друг сердешной, в числе Андреевских кавалеров. Хотел было я сам к тебе привезти орден, но много дел в других частях меня удержали. Я всё сделал, что от меня зависело. Прошу для меня о употреблении всех возможных способов к сбережению людей… А теперь от избытка сердца с радостию поздравляю… Дай Боже тебе здоровья, а обо мне уже нельзя тебе не верить, что твой истинный друг Князь Потемкин Таврический. Пиши, Бога ради, ко мне смело, что тебе надобно».
Ответ Суворова, написанный 26 ноября, замечателен: «Светлейший Князь, мой Отец! Великая душа Вашей Светлости освещает мне путь к вящщей Императорской службе. Мудрое Ваше повелительство ведет меня к твердому блюдению должностей обеим Богам… Цалую ваше письмо и жертвую Вам жизнию моею и по конец дней». Никому и никогда этот страстный человек не делал таких признаний!

Письмо Потемкина Суворову от 20 августа 1787 года
Наступило зимнее затишье. «При поздравлении тебя, любезный друг, с Новым годом желаю тебе паче всего здоровьеца и всех благ столько, сколько я тебе хочу, – пишет ему 1 января Потемкин и прибавляет важную новость: – Сей час получил я из Вены известие, что Цесарские войска делали покушение на Белград: им хотелось его схватить, но не удалося. Война открылася».
КАМПАНИЯ 1788 ГОДА
Суворов быстро оправился от тяжелых ран. «Я теперь только что поворотился, выездил близ пяти сот верст верхом в шесть дней, а не ночью, – пишет он дочери. – Прости, мой друг Наташа, я чаю, ты знаешь, что мне моя матушка Государыня пожаловала Андреевскую ленту „За веру и верность“».
Он готовился к новым боям, обучая вверенную ему пехоту штыковому бою, а кавалерию – сабельной атаке.
Первое большое сражение закончилось победой, но оно показало недостаточную стойкость войск. Через десять дней после Кинбурна Суворов поделился с главнокомандующим мыслями о способах усиления армии. Чтобы успешно сражаться с хорошо подготовленным неприятелем, утверждал он, нужны мужественные, знающие свое дело офицеры, спартанцы, а не сибариты. Он резко критикует привилегированную часть офицерского корпуса – гвардейцев, называет их преторианцами, льстецами, прекраснодушными болтунами и предлагает с целью обеспечения офицерами растущей во время войны армии приостановить действие указа о вольности дворянства. В трудный для Отечества час никто не может прятаться за спины других. Все должны служить!
Столь резкий и откровенный тон письма озадачил составителей четырехтомного собрания суворовских документов, издававшихся в 1949—1953 годах. Публикаторы сделали пометку: «Письмо написано неустановленному лицу, очевидно В.С. Попову». Однако судя по обращению «любезный шевалье» оно было адресовано О.М. де Рибасу – дежурному бригадиру Потемкина, приезжавшему по его поручению в Кинбурн сразу после сражения, – и, конечно, предназначалось самому главнокомандующему Оно и находится среди писем и донесений Суворова Потемкину, а следовательно, дошло до адресата.
Мы не знаем, что ответил главнокомандующий. Но строки его приказов созвучны мыслям, знакомым нам по суворовским наставлениям войскам. В приказе от 18 декабря 1787 года сказано:
«Из опытов известно, что полковые командиры обучают часто движениям, редко годным к употреблению на деле, пренебрегая самые нужныя; и для того я сим предписываю, чтобы обучали следующему: марш должен быть шагом простым и свободным, чтобы не утруждаясь, больше вперед подвигаться… Как на войне с турками построение в каре испытано выгоднейшим, то и следует обучать формировать оный из всякого положения. Наипаче употребить старание обучать солдат скорому заряду и верному прикладу…
В заключение всего я требую, дабы обучать людей с терпением и ясно толковать способы к лучшему исполнению. Господа полковые командиры долг имеют испытать наперед самих обер– и унтер-офицеров, достаточно ли они сами в знании. Унтер-офицерам и капралам отнюдь не позволять наказывать побоями…
Отличать прилежных и доброго поведения солдат, отчего родится похвальное честолюбие, а с сим и храбрость…
В коннице также исполнять, что ей может быть свойственно. Выстроение фронтов и обороты производить быстро, а паче атаку, коей удар должен быть во всей силе; сидеть на лошади крепко с свободностию, какую казаки имеют, а не поманежному принужденно…
Артиллеристов обучать ежедневно примерно и с порохом, егерей преимущественно обучать стрелять в цель…
Всякое принуждение, как-то вытяжки в стоянии, крепкие удары в приемах ружейных должны быть истреблены; но вводить бодрый вид при свободном держании корпуса, наблюдать опрятность, столь нужную к сохранению здоровья, содержать в чистоте амуниции платья и обуви, доставлять добрую пищу и лудить почасту котлы.
Таковыми попечениями полковой командир может отличиться, и буду я на сие взирать, а не на вредное щегольство, удручающее дело».
Как видим, главнокомандующий и его лучший боевой генерал в вопросах обучения войск, отношения к солдату, ведения боевых действий были единомышленниками.
Потемкин держал Суворова в курсе всех важнейших новостей, делился с ним планами предстоящей кампании. Суворов чувствовал, что находится у главнокомандующего на особом счету. 25 февраля 1788 года он пишет: «Вашей Светлости милостивое письмо от 13 ч. сего месяца получил. Будьте, батюшка, здоровы для нас и веселы. Чем больше Вы до меня милостивы, тем паче я боюсь проступитца по общему несовершенству.
С аулами поступлю точно по велению Вашей Светлости. Верный кош произведет здесь благочестивый парад и повеселитца…»
Он большей частью живет в Кинбурне, учит свои войска, готовится к новым боям. В минуты отдыха вспоминает о дочери, радуется ее успехам в учебе, мечтает о встрече с ней: «Милая моя Суворочка!.. Ты меня так им утешила, что я по обычаю моему от утехи заплакал. Кто-то тебя, мой друг, учит такому красному слогу, что я завидую, чтоб ты меня не перещеголяла… О! ай да Суворочка, как же у нас много полевого салату, птиц, жаворонков, стерлядей, воробьев, полевых цветков! Морские волны бьют в берега, как у вас в крепости из пушек. От нас в Очакове слышно, как собачки лают, как петухи поют. Куда бы я, матушка, посмотрел теперь тебя в белом платье! Как-то ты растешь! Как увидимся, не забудь мне разсказать какую приятную историю о твоих великих мужах в древности. Поклонись от меня сестрицам. Благословение Божие с тобою!»
Зимой—весной 1788 года армия Потемкина прирастала подходившими пополнениями. Готовилась осадная артиллерия, делались запасы пороха, ядер, бомб. Особое внимание главнокомандующий уделял строительству гребных судов, и Суворову вскоре пришлось заняться новым для него делом – созданием гребных флотилий на Днепровско– Бугском лимане.
«Суда готовить приказал я гребные с крайнею поспешностию, – уведомляет Потемкин Суворова письмом от 2 марта. – В Кременчуге у меня наподобие запорожских лодок будет 75, могущих носить и большие пушки. Как скоро Днепр пройдет, то и они пойдут. Естли бы сие строилося в Адмиралтействе, то бы никогда их не дождалися».
Суворов разделял мнение своего начальника о Херсонском адмиралтействе, которое возглавлял контр-адмирал Николай Семенович Мордвинов. Вот строки из его письма Мордвинову от 23—24 октября 1787 года: «Не приемли всуе имя Господа. Ваше Превосходительство 3-й раз покорно прошу о спуске на здешний берег Ярославского пехотного полка, которого обозы уже сюда переправляютца… Милостивый Государь мой, я служил флоту всем сухопутным войском из Херсона, оставляя там почти одни нужные караулы и в жестокости войны ограничивая себя здесь известным моим малочислием. Вы по службе делаете толь слабое воздаяние».
Александр Васильевич иронично именовал неповоротливых моряков «херсонской академией». Для его отношений с Мордвиновым характерен эпизод, приведенный в поздних воспоминаниях дочери адмирала Надежды Николаевны: «Отец рассказывал, как раз он был озабочен во время турецкой войны.
Однажды он принес план Суворову и, разложив на стол, просил решения на счет каких-то распоряжений, но тот вместо ответа прыгал около стола и повторял: "Ку-ку-ри-ку", что он обыкновенно делал, когда не хотел отвечать. Отец, потеряв терпение, должен был уйти со своим планом и решить сам, как действовать без совета Суворова».
Главнокомандующий не мог простить Мордвинову его формального отношения к делу. Когда в конце августа минувшего года он приказал севастопольскому флоту выйти в первый боевой поход, Мордвинов, как старший морской начальник на Черном море, продублировал этот приказ командующему севастопольской эскадрой контр-адмиралу М.И. Войновичу, не решившись доложить Потемкину о приближении периода опасных осенних штормов. Флот попал в страшную бурю и едва не погиб: фрегат «Крым» затонул у крымских берегов, линейный корабль «Мария Магдалина» был отнесен к Босфору и захвачен турками, остальные корабли получили сильные повреждения.
Недовольный Мордвиновым и Войновичем Потемкин уже разглядел в скромном капитане бригадирского ранга Федоре Ушакове талант морского предводителя. В конце октября светлейший князь вызвал его в Херсон, но Мордвинов, воспользовавшись занятостью главнокомандующего, отослал Ушакова обратно в Севастополь, за что и получил выговор. Потемкин был вынужден воспользоваться услугами иностранных специалистов. Сначала он добивался приглашения опытного моряка голландца Яна Генриха ван Кинсбергена, но этот герой минувшей войны с турками и георгиевский кавалер не смог отправиться в Россию. Пришлось искать других моряков.
«В крайней прошу содержать тайне, – сообщает Потемкин Суворову, – гребными судами будет командовать князь Нассау под Вашим начальством. Он с превеликою охотою идет под Вашу команду Я бы давно его отправил, но даю время морским изготовиться для себя, а как будет готово, тогда ево пришлю». «Милостивый Государь! – отвечал 9 марта Суворов. – Я несказанно рад Князю Нассау, толь испытанному мужественному товарищу, что ему частью ревную».
На другой день Суворов, получив новое письмо, благодарил Потемкина за милость к нему и его племяннику князю Андрею Горчакову: Григорий Александрович добился у императрицы разрешения определить восемнадцатилетнего сержанта гвардии флигель-адъютантом к дяде.
Еще 13 февраля императрица писала Потемкину: «В американской войне имянитый аглинский подданный Пауль Жо-нес, который, служа Американским колониям, с весьма малыми силами зделался самим агличаном страшным, ныне желает войти в мою службу. Я, ни минуты не мешкав, приказала его принять и велю ему ехать прямо к Вам, не теряя времени. Сей человек весьма способен в неприятеле умножить страх и трепет. Его имя, чаю, Вам известно. Когда он к Вам приедет, то Вы сами луч[ш]е разберете, таков ли он, как об нем слух повсюду. Спешу тебе о сем сказать, понеже знаю, что тебе небезприятно будет иметь одною мордашкою более на Черном море». «Третьего дни приехал Князь Нассау, – отвечал Потемкин. – Наполнен ревности к службе. Просит неотступно самой опаснейшей комиссии, какая может представиться. Столь знаменитый американский Генерал Пауль Жонес, прославившийся самими дерзновенными предприятиями на море… лутче будет у нас, а то худо, коли пойдет к туркам». Итак, Джонс собирался в Россию, а принц Нассау уже был готов поступить под команду Суворова.
Следует сказать несколько слов об этих «мордашках», с которыми Суворову пришлось тесно общаться во время боев на Лимане в июне 1788 года.
Принц Карл Генрих Николай Оттон Нассау-Зиген, которому шел 43-й год, принадлежал к побочной линии известного владетельного дома в Германии – княжества Нассау. Дуэлянт и прожектер, принц с пятнадцати лет служил во французской армии. Участвовал в кругосветной морской экспедиции знаменитого Бугенвиля. Когда Франция и Испания выступили против Англии на стороне ее восставших колоний, Нассау руководил неудачной осадой с моря важнейшей британской крепости Гибралтар. Он имел чины генерал-лейтенанта испанской и французской армий. Поправив свои денежные дела женитьбой на богатой польке, Нассау взялся устроить сбыт польских товаров через Херсон и сумел войти в доверие к Потемкину, сопровождал князя во время путешествия Екатерины на юг и стал известен самой императрице. После начала войны принц выполнил несколько важных дипломатических поручений в Париже и Мадриде. Имея репутацию опытного морского командира, он был принят на русскую службу с чином контр-адмирала. 26 марта Потемкин назначил его начальником армейской гребной флотилии.
Шотландец Джон Поль Джонс, переселившись в североамериканские колонии Великобритании, занимался торговлей рыбой и имел небольшую рыболовецкую флотилию. В начале Войны за независимость он предложил свои услуги американскому конгрессу. Джонс со своими небольшими судами дерзко нападал на отдельные английские корабли, чем заслужил прозвища «пирата» и «врага» родины. Не имея патента капитана, он сильно рисковал – попадись он в руки англичан, те бы его повесили. Французская печать создала Джонсу репутацию выдающегося моряка. После войны он жил в Париже. Екатерина, зная о желании Потемкина заполучить предприимчивого командира для Черноморского флота, решила сделать ему «подарок». «Он у самих агличан слывется вторым морским человеком», – писала она светлейшему князю, не подозревая о том, что повторяет легенду, созданную французами. И с легкой руки российской императрицы американец, не командовавший даже фрегатом, заочно получил чин капитана генерал-майорского ранга, а 4 апреля, еще до приезда в Россию, был возведен в контр-адмиралы.
На юге дела шли своим чередом. 1 апреля любезным письмом по-французски Суворов приветствовал принца Нассау: «Я имел честь получить письмо Вашего Высочества… Не токмо квартира моя в Херсоне, но и все мои дома везде – Ваши. Дорожу славой иметь счастие служить на одном континенте со столь прославленной особой. Постараюсь своею искреннею преданностию стать во всякое время достойным Ваших милостей».
Командующему 3-й дивизией Екатеринославской армии (так именовалась должность Суворова) пришлось, помимо укомплектования и обучения своих войск, заниматься укомплектованием гребной флотилии принца. На ее суда определялись суворовские пехотинцы. Ему была подчинена и вторая гребная флотилия, куда послали бывших запорожцев, из которых Суворов сформировал по приказу Потемкина в феврале 1788 года отряд «верных казаков». Князь поначалу хотел назвать его «кошем верных запорожцев», но императрица поправила его. Кош во главе с опытным заслуженным воином Сидором Игнатьевичем Белым насчитывал около тысячи человек и представлял грозную силу.
Нассау и войсковой есаул Белый принялись сколачивать свои флотилии, учить новоявленных моряков маневрированию, взаимодействию, сигналам. Часто они просили Суворова подействовать на Мордвинова, не спешившего снабдить флотилии всем необходимым. Генерал всегда шел им навстречу. Он был воин до мозга костей и сразу же предложил Нассау:
«Принц! Покамест храните в тайне общую нашу задачу, как делаю я здесь: по мнению моему, в Херсонской академии по временам многие непотребства творятся. Слышал я, что г. Корсаков служит в егерях, кои вероятно будут на вашей эскадре. Я его знаю с детства, это мелкий плут, но в своем деле искусный. Не будете ли Вы добры лично испытать его по прилагаемым к сему пунктам, не отдавая ему моего письма… Полезно также узнать, какого он о сем будет мнения, и дать мне знать. Простите мою смелость и откровенность».
Инженер-подполковник Николай Иванович Корсаков, любимец Потемкина, строил Херсон, укреплял Кинбурнскую крепость. Он действительно добился перевода во флотилию Нассау и геройски сражался с турками в лимане. Хорошо знакомый с его родителями Суворов назвал Корсакова «мелким плутом», очевидно, в связи с его недавней женитьбой на родной сестре Мордвинова. Но он, безусловно, доверял знающему дело инженеру, о чем свидетельствует письмо с «прилагаемыми пунктами»: