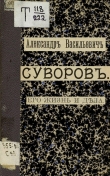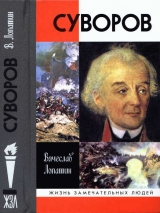
Текст книги "Суворов"
Автор книги: Вячеслав Лопатин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 37 страниц)
Варвара Ивановна с дочерью отправилась в Москву к матери. Сестра тещи Суворова графиня Екатерина Михайловна Румянцева писала мужу 25 июня: «Суворова жена приехала в Москву. Я ее не видала, а по письмам, что сестра ко мне писала, думаю, что они с мужем в худом положении. Правда ли это, что он так спился, что всякий час пьян?»
Графиня передает сплетни родственников, взявших в семейном конфликте сторону жены Александра Васильевича. Но в ее письме слышна и собственная боль. Прошло почти 20 лет, как граф Петр Александрович разъехался с супругой, оставив на ее руках троих сыновей, которым она дала воспитание и образование. Всем сердцем графиня Екатерина Михайловна сочувствовала племяннице и готова была во всем винить ее мужа.
Суворов очень тяжело переживал измену супруги. Чтобы заглушить душевные муки, он с головой ушел в неотложные дела: выводил войска из Крыма и Кубани, строго взыскивал с нерадивых подчиненных, у которых в мирное время умирали солдаты из-за плохо выбранных мест квартирования и нарушения элементарных санитарных норм, хлопотал перед Потемкиным о льготах и помощи выведенным христианам, обустраивавшимся на новых землях.
Седьмого июля 1779 года Потемкин уведомил Суворова о новом назначении: состоять при пограничной дивизии Новороссийской губернии, которой командовал сам светлейший князь.
К этому времени относится разбор суворовского прошения о разводе. Дело решалось в Славянской духовной консистории. «Обесчестен будучи беззаконным и поносным поведением второй половины, молчание было бы знаком моего в том соучастия, – говорится в страстном письме Суворова своему благодетелю. – Нет тут, Светлейший Князь! недоказательного. Иначе совесть моя, никогда не поврежденная, была бы мне в несправедливости изобличителем». Он просил Потемкина быть у высочайшего престола предстателем «к освобождению меня в вечность от уз бывшего… союза, коего и память имеет уже быть во мне истреблена», прибавляя, что только смерть может положить конец его злоключениям.
Ответом стал вызов в Петербург. 8 декабря 1779 года генерал-поручик присутствовал на званом обеде в Зимнем дворце. 20 декабря курьер Потемкина поскакал к московскому главнокомандующему М.Н. Волконскому.
Князь Михаил Никитич 31 декабря докладывал Потемкину: «Письмо Вашей Светлости… которым мне объявить изволили, что Ея Императорское Величество приказать изволили определить для воспитания дочь Александра Васильевича Суворова по прошению его в учрежденное общество для воспитания благородных девиц и чтоб я о сем высочайшем соизволении, матери ее объявя, оное дитя отправил с капитаном Корицким, что и исполнено».
Наташа Суворова была принята в Воспитательное общество (Институт благородных девиц), созданное в 1764 году по инициативе императрицы и Ивана Ивановича Бецкого в Смольном монастыре. Родители, помещая своих дочерей в Смольный, давали подписку не забирать их до окончания обучения. Это условие было важнейшим в программе Бецкого по воспитанию новых людей.
Дочь Суворова жила и училась вместе со своими подругами, но в списках выпускниц ее имя отсутствует. Для нее было сделано исключение. Считалось, что девочка живет у директрисы Смольного Софьи Ивановны Делафон. Присмотр за ней был поручен Петру Ивановичу Турчанинову, в семье которого Наташа часто гостила.
Двадцать четвертого декабря, когда порученец Суворова капитан Петр Корицкий собирался везти четырехлетнюю Наташу из Москвы в Петербург, императрица Екатерина во время аудиенции сняла со своего платья бриллиантовую звезду ордена Святого Александра Невского и приколола ее на грудь Суворова, тем самым воздав ему выдающуюся почесть. В тот же день он получил записку Потемкина: «Тако да просветится свет Ваш пред человеки, яко да видят добрые дела Ваши. Ея Императорское Величество жалует Вам сию звезду, а я Вас чистосердечно поздравляю».
Не без участия императрицы и Потемкина делались попытки помирить Суворова с женой. Но светлейший князь знал, что страстную натуру генерала может утешить только новое важное дело.
АСТРАХАНСКАЯ КОМАНДИРОВКА
Секретный ордер Потемкина от 11 января 1780 года предписывал: «Часто повторяемые дерзости ханов, владеющих по берегам Каспийского моря, решили, наконец, Ея Императорское Величество усмирить оных силою своего победоносного оружия. Усердная Ваша служба, искусство военное и успехи, всегда приобретаемые, побудили Монаршее благоволение избрать Вас исполнителем сего дела».
Намечаемая экспедиция должна была обеспечить торговлю с Востоком посредством создания на южном берегу Каспия «безопасного пристанища» – укрепленной торговой фактории, которую следовало приобрести у тамошнего владельца и надежно защитить. Требовалось разведать дороги, ведущие по побережью к Решту (главному городу Гилянской провинции Персии), чтобы согласовать действия сухопутных сил с флотилией. Особое внимание обращалось на «обстоятельства Персии, Грузии, Армении».
Видный поборник освобождения Армении от персидского ига архиепископ Иосиф Аргутинский 2 января 1780 года записал в дневнике: «Генерал-поручик Александр Васильевич Суворов приехал к нам на свидание и в течение двух часов… задавал много вопросов… о наших краях. Подробно расспрашивал о состоянии престола нашего Святого Эчмиадзина и сильно обнадеживал нас, что намерены восстановить наше государство. Выйдя от нас, он поехал к Светлейшему князю Григорию Александровичу Потемкину и передал ему всё сказанное нами о городах».
В инструкции Потемкина предлагалось вступить в дружеские сношения с грузинским царем Ираклием, искавшим покровительства России, а также с независимыми владетелями небольших прикаспийских ханств. Суворову поручались находившиеся в Астрахани сухопутные войска. Он должен был рассчитать маршрут военной экспедиции для освобождения Армении, численность сухопутных и морских сил и количество потребных для них артиллерии, амуниции, провианта и других припасов.
Отметим, что Суворов, отправляясь в Астрахань, направил архиепископу Славянскому и Херсонскому Никифору письмо с просьбой временно остановить его разводное дело, так как должен заботиться «о благоприведении к концу спасительного покаяния и очищения обличенного страшного греха». Вскоре к нему приехала супруга.
Прибыв на место, Александр Васильевич энергично принимается за дело. Он ведет обширную переписку с царем Картли-Кахетии Ираклием II и прикаспийскими ханами, одного из которых, воинственного и вероломного владетеля Гиляна Гедает-хана, пытается склонить на сторону России. Через свою агентуру, большую часть которой составляли выходцы из Армении, имевшие в тех местах обширные торговые связи, Суворов получает важную политическую, географическую и экономическую информацию о состоянии прикаспийских ханств, о положении в Персии, о междоусобной борьбе тамошних феодалов. На основании полученных данных генерал составляет подробные карты и описания мест, в которых должна разворачиваться вверенная ему экспедиция.
Судя по письмам Александра Васильевича, настроение у него хорошее. Он готовится к церковному примирению с женой, оправдывает проступок «Варюты» ее молодостью и неопытностью. «Сжальтесь над бедною Варварою Ивановною, которая мне дороже жизни моей», – пишет он 12 марта 1780 года Турчанинову.
Примирение состоялось на Страстной неделе, между 11 и 18 апреля 1780 года в церкви села Началова. «Суворов пошел в простом солдатском мундире и супруга его в самом простом также платье», – говорится в так называемой Астраханской летописи, которая была составлена по прошествии многих лет, поскольку Суворов именуется в ней графом, хотя этот титул он получил лишь в конце 1789 года. Этим объясняется и ошибка составителей, отнесших примирение к декабрю 1783-го, когда Александр Васильевич давно покинул Астрахань. Но сам рассказ заслуживает доверия: «Граф и Графиня позади диаконовского амвона и все приближенные, как мужеский, так и женский пол, стояли на коленях, обливаясь слезами… Граф встает и идет в алтарь к престолу, полагает три земных поклона, став на коленях, воздевает руки. Встав, прикладывается к престолу, упадает к протоиерею в ноги и говорит: "Прости меня с моею женою, разреши от томительства моей совести". Протоиерей (Василий Панфилов) выводит его из царских врат, ставит на прежнем месте на колена, жену Графа подымает с колен и ведет для прикладывания к местным образам, подводит к Графу, которая кланяется ему в ноги, также и Граф. Протопоп читает разрешительную молитву, и тот час начинается литургия, во время которой оба причастились Святых Тайн».
«Разрешением архипасторским обновил я брак, – поделился Суворов радостью со старым другом Иваном Алексеевичем Набоковым в письме, помеченном 3 мая 1780 года, – и супруга моя Варвара Ивановна свидетельствует Вам ее почтение. Но скверный клятвопреступник да будет казнен по строгости духовных и светских законов для потомственного примера и страшного образца, как бы я в моей душе ему то наказание ни умерял, чему разве, по знатном времени, полное раскаяние нечто пособить может».
На время Александр Васильевич обретает душевное равновесие. Но вскоре новые обстоятельства тревожат его: задуманная экспедиция откладывается. Причина была экстраординарная. Еще 22 января 1780 года, когда Суворов только собирался отбыть из Москвы в Астрахань, русский посол в Вене князь Дмитрий Михайлович Голицын сообщил государыне о приватном визите к нему императора Иосифа. Незаживающей раной для австрийцев была потеря Силезии, вероломно захваченной Фридрихом Прусским. Вот уже несколько лет Иосиф правил Австрией совместно с матерью, императрицей Марией Терезией, и, наконец, решился восстановить союз, разорванный Петром III. Император сообщил послу, что собирается весной наведаться в Галицию и готов заехать в Россию, чтобы повидаться с императрицей. Ответ последовал незамедлительно – 4 февраля Екатерина писала князю Голицыну, что в мае будет в Могилеве.
Свидание состоялось 24 мая. Заранее прибывший в Могилев Потемкин представил императрице «графа Фалькенштейна» (под этим именем путешествовал австрийский император). Переговоры продолжились в Царском Селе и Петербурге. 8 июля Иосиф покинул гостеприимную Северную Пальмиру. Дипломатический мир был взбудоражен: дело шло к заключению русско-австрийского союза.
«Я не ручаюсь за то, что будет завтра, – доносил в Лондон из Петербурга английский посланник Джеймс Гаррис. – Прусская партия здесь многочисленна, ловка, изощрилась в интригах и до того привыкла властвовать, что ее значение нелегко поколебать». «Прусской партии» покровительствовал глава Коллегии иностранных дел граф Н.И. Панин. Тем не менее Екатерине и Потемкину удалось добиться заветной цели – 18 мая 1781 года союзный русско-австрийский договор был заключен. В секретных статьях Австрия обязалась вступить в войну в случае нападения на Россию Турции, за это Россия должна была выставить войска против Пруссии, если бы последняя стала угрожать союзнице.
Договор развязывал руки для реализации планов России в Северном Причерноморье. Вместо запутанной политики на Западе (как правило, в интересах Пруссии) начался решительный поворот на Юг. Момент был выбран точно. Франция схватилась с Англией, выступив на стороне ее восставших североамериканских колоний. Испанцы пытались выбить англичан из Гибралтара – важнейшего стратегического пункта на торговых путях Европы с Азией. Голландцы стремились восстановить свои торговые позиции в Индии, где их теснили англичане. Провозгласив «политику вооруженного нейтралитета», Российская империя оказала существенную поддержку новому государству – Североамериканским Соединенным Штатам. Сама Россия приступила к завершению великой исторической задачи утверждения на берегах Черного моря. Закаспийская экспедиция утратила свою актуальность.
Александр Васильевич почувствовал эту перемену. Письма 1780—1781 годов Петру Ивановичу Турчанинову, статссекретарю императрицы по военным делам и близкому сотруднику Потемкина, можно назвать астраханским дневником Суворова. Они красноречиво передают его переживания:
«…Жарам и комарам чуть за месяц. Я чищу желудок миллефолиумом (тысячелистником. – В.Л.). Варюта моя подобно тому по-своему недомогает… Вашей и моей Наталье Александровне мир и благословение… Жду Ваших уведомлениев, как манну с небеси…
Мать ее (жены. – В. Л.) Княгиня Марья Михайловна скончалась 17 июня. Всемогущий Бог да примет ее в лоно Авраамле! Я ей положил сие таить до крайности. Где наш злочестивый …!
Портрет мой готов. [Полковник] Пиери сказывает, что он походит на Логина Ивановича Миллера (их общего астраханского знакомого. – В. Л.). Для того нижайше прошу, по доставлении к Вам, приказать на нем мое имя подписать…
Как я в зеркало не гляжусь, то и картины моей не видал, следующей при сем…»
«…Спросите вы, Милостивый Государь мой, чем я в бездействе упражняюсь? В грусти из моей кибитки исхожу на полеванье (охоту. – В. Л.), но к уединению: отвес меня тревожит. Сей, сходный на Нат[альи] Ал[ександровны] нрав, мрачится. Остатки волос седеют и с главы спадают. Читаю "Отче наш"…
Необходимо надлежало бы мне знать термин начала экспедиции… Сия есть не вредная делу откровенность, мне же весьма полезная. Отдаю протчее верховной власти…
По Оренбургскому] корпусу и Каз[анской] дивизии частыми моими предуведомлениями не прискучьте: ведомо, изтекают они от моего естественного чистого сердца, с коим я к Вам непоколебим.
Общая наша дочка была вчера именинница. Варюта проплакала…
Коли мой портрет толь неудачен, пусть Ваш удачнее будет, – иного посредства нет – Вам лутче щастье будет, и оспорите Варюту, которой кажетца, что она больше на Нат[алью[Ал[ександровну] походит».
Турчанинов передал Суворову просьбу императрицы прислать его портрет, обещая в ответ прислать портрет Наташи (примечательно, что Александр Васильевич почтительно именует маленькую дочку Натальей Александровной, а супругу – Варютой). Астраханский иконописец (Суворов называет его ризомарателем) выполнил заказ. Этот портрет сохранился. «Написан он очень сухо, живопись его жесткая, невысокого качества, – отмечает Андрей Валентинович Помарнацкий, выпустивший в 1963 году в издательстве Государственного Эрмитажа замечательную работу «Портреты Суворова». – Хорошо переданы такие характерные черты наружности полководца, как высоко приподнятые брови и тяжелые веки… Художник попытался изобразить на лице Суворова сардоническую улыбку, но… улыбка получилась застывшей деревянной… Яркая и своеобразная индивидуальность полководца совершенно не передана на этом портрете – Суворов на нем, действительно, похож на аккуратного немца-лекаря…»
В Астрахани у Суворова находилась особая канцелярия. До 1 сентября ей заведовал старший адъютант Алексеев, затем – секунд-майор Кексгольмского полка Иван Сырохнев. Но у него почти не было войск. Не случайно стали приходить мысли о недовольстве Потемкина его службой. «Ныне, чувствуя себя всеми забытым, – делится он с Турчаниновым, – не должен ли я давно сомневатца в колебленной милости ко мне моего покровителя, одного его имея и невинно лишась, что мне тогда делать, как стремитца к уединению, сему тихому пристанищу, и в нем остатки дней моих препроводить? Кроме примечательных слабостей телесных от долголетней нелицемерной моей службы, чувствую, что болезнь оная, пред сим лет шесть меня угнетавшая, снова ныне свой яд в меня поселяет».
Еще на Дунае он подхватил лихорадку, которая теперь напомнила о себе. Ему уже 50 лет, большая часть жизни позади. Александр Васильевич невольно возвращается мыслями к своим подвигам, оставшимся без награждения. Может быть, это его удел? Может быть, ему пора на покой? Но нет, нет и нет. Он готов служить «Великой Императрице» и Отечеству. Для душевного спокойствия ему нужно знать «время начала здешней экспедиции»: «Без того ничто меня от отчаяния не извлечет».
Под его пером рождаются историко-философские рассуждения о добродетели и общественном служении, о таланте и важности его поддержки сильными мира сего. Он приводит множество примеров из древней и новой истории, вспоминает Юлия Цезаря, Чингисхана и Тамерлана, знаменитых французских полководцев Конде и Тюренна, кардинала Мазарини, петровских генералов и адмиралов. Все эти примеры должны подтвердить главную мысль: талант редок, его не только важно отыскать, но и поддержать:
«Большое дарование в военном человеке есть щастие… Сей, ослиная голова, говорил на мое лицо: "Правит слепое щастье", – я говорю: "Юлий Цезарь правил щастьем"…
Великотаинственна та наука, которую [составляет умение] обладать в народе людьми доказанных заслуг… и во благое время уметь ими править, избирая их неошибочно по способностям и талантам. Часто розовые каблуки (так именовались придворные «короля-солнце» Людовика XIV. – В.Л.) преимуществовать будут над мозгом в голове, складная самохвальная басенка – над искусством, тонкая лесть – над простодушным журчанием зрелого духа».
Местное общество его раздражает: сплетни, суета, интриги. Гражданский губернатор И.В. Якоби оказался противником экспедиции. Сменивший его М.М. Жуков окружил себя подхалимами. Его супруга, дальняя родственница Потемкина, тоже хороша. «Варюта за 12 Губернаторше визитов не омилос-тивлена ею ни одним, – замечает Суворов. – Перестали они говорить между собою и кланятца».
Мастерски набросав картину местных нравов, он иронично сравнивает губернатора с вице-королем, правителем одной из колоний, и, описывая прием по случаю Михайловских праздников, замечает: «Грядет Виц-ре гордым шагом; престол его движется за ним. Вскричал я: "Не Мексика здесь!"». Губернатора, хотя он всего лишь действительный статский советник (IV класс по Табели о рангах, соответствовал чину генерал-майора), встречали музыкой, положенной полному генералу. «Вчера пополудни… гремит Вицреева карета… Музыка его, не удостоивши того меня, ревет полный поход. Я чуть не выбежал на рундук, щитая, не двуклассный ли кто? – иронизирует Суворов. – Такая тоска, голубчик, от… спесивой вони».
Свое присутствие на куртагах сам Александр Васильевич объясняет тем, что его «люди любят» и «приятели к себе… просят». Он вывозит в свет Варюту, веселится и танцует на праздниках, но при этом требует к себе и супруге заслуженного уважения: «Астрахань в Москву или в Петербург не переименована. И там недостойный бы я был раб Великой Монархини, естли б я пренебрежения сносил. Вы знаете, унижу ль я себя? Лутче голова долой, нежели что ни есть утратить моей чести: смертями 500-ми научился смерти не бояться. Верность и ревность моя к Высочайшей службе основана на моей чести».
И снова мысли о службе: «Но года два что я? Оставить службу рад, удалюсь мирских сует – говорю по чувствам: но, как одушевленный, – оставить службу грех!» Истинно грех, потому что он исповедует принцип «долг к Императорской службе столь обширен, что всякий другой долг в нем исчезает».
Больше всего генерал-поручика томила неопределенность с началом экспедиции. Прибывший в июне 1781 года командир Каспийской флотилии далматинец на русской службе граф Марк Иванович Войнович заявил, что сам «отопрет почивальню царя-девицы», то есть пойдет в Персию без Суворова. И действительно, флотилия отплыла из Астрахани и 27 июля 1781 года бросила якоря в Астрабадском заливе на юге Каспия. Вскоре пришло донесение Войновича: владетель Астрабадской провинции Персии Ага Мохаммед-хан дал согласие на постройку укрепленной фактории.
Суворов, хорошо изучивший повадки восточных правителей, предупредил Турчанинова о ненадежности успехов заезжего графа – и как в воду глядел: во время пира, устроенного местными властями в честь Войновича и его офицеров, все они были вероломно схвачены, закованы и брошены в тюрьму. От графа потребовали послать подчиненным приказ о срытии укреплений и возвращении экипажей на корабли. Когда это было выполнено, коварный Ага Мохаммед-хан с показной любезностью принял пленников и принес извинения за действия своих подчиненных, якобы неправильно понявших его волю. 2 января 1782 года Войнович и его спутники вернулись на корабли. Только через девять месяцев флотилия возвратилась в Астрахань. Экспедиция провалилась.
Еще летом Александр Васильевич попросил у Потемкина разрешения на приезд в столицу, однако, получив его, не поехал. В письмах Турчанинову он поделился своими планами: ему хотелось получить по примеру сослуживцев (того же Каменского) должность губернатора в Оренбурге или Астрахани, «но звание сие не обратилось бы в мой Губернаторский кафтан, который доходит мне променять на судьбу моего родителя… И ежели вообразительно я иногда чего желаю, то сие для публики».
Пятнадцатого декабря Суворов поставил перед главой Военной коллегии вопрос о своей дальнейшей службе:
«Вашу Светлость обыкновенным мои чистосердечием утруждаю: ибо сколько ни старался докладывать Вам чрез других – те мне ответствовали молчанием или двоесловием…
Слух здесь разнесся, что я более в здешней стороне быть не потребен. Свет работает случаю! Ежели так, то и оборот мой должен быть к Казанской дивизии, Светлейший Князь! В ней два полка… то не повелите ли, чтоб по последнему росписанию Государственной] Военной коллегии я командовал и Оренбургским корпусом… Коли сего не можно, то прикажите, Ваша Светлость, мне возвратитца в Полтаву к прежней моей команде…
Сверстники мои входят в правление Г[енерал]-Губернаторских должностей. Велика б была милость Вашей Светлости, естли б и мне таковую поручить изволили и естли она меня от Государевой военной службы не отвлечет. Сей последней я, себя посвятя, буду тем ревностнее ободренным к ежечасному употреблению в оной».
Ответ Потемкина помечен 31 декабря 1782 года: «Как уже не настоит больше нужды, дабы Ваше Превосходительство для порученной Вам комиссии далее в Астрахани оставаться изволили, ибо обстоятельства оного дела приняли другой вид, препровождая при сем Военной коллегии указ о отбытии Вашем в Казань».
Суворов формально уже два с лишним года значился начальником Казанской дивизии. В те времена дивизиями именовались военные округа. Всего их было двенадцать. Ими командовали генерал-фельдмаршалы граф К.Г. Разумовский, князь А.М. Голицын, граф П.А. Румянцев, граф 3. Г. Чернышев и генерал-аншефы князь Г.А. Потемкин, князь В.М. Долгоруков, граф Я.А. Брюс, князь Н.В. Репнин, граф И.С. Салтыков, Н.И. Салтыков. Одновременно они являлись генерал-губернаторами губерний, в которых размещались подчиненные им воинские формирования. Из трех десятков генерал-поручиков только Суворову да нижегородскому генерал-губернатору А.А. Ступишину было доверено командовать дивизией. И хотя Казанская дивизия являлась самой маленькой, Потемкин явно выделял Александра Васильевича из общего состава армейского генералитета.