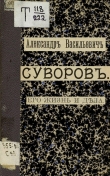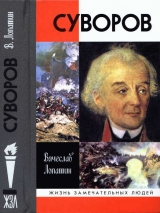
Текст книги "Суворов"
Автор книги: Вячеслав Лопатин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 37 страниц)
Тем же числом помечены ордер Суворову о необходимости дать остающимся вместо него генералам Дерфельдену и Голицыну наставления и личное письмо главнокомандующего «другу сердешному»:
«Измаил остается гнездом неприятеля. И хотя сообщение прервано чрез флотилию, но всё он вяжет руки для предприятий дальних. Моя надежда на Бога и на Вашу храбрость. Поспеши, мой милостивый друг!
По моему ордеру к тебе присутствие там личное твое соединит все части. Много тамо равночинных Генералов, а из того выходит всегда некоторый род сейма нерешительного. Рибас будет Вам во всём на пользу и по предприимчивости и усердию; будешь доволен и Кутузовым. Огляди всё и распоряди, и, помоляся Богу, предпринимайте. Есть слабые места, лишь бы дружно шли. Князю Голицыну дай наставление. Когда Бог поможет, пойдем выше».
Под Измаилом находились известные в армии генералы, в том числе родственники князя – генерал-поручики Александр Николаевич Самойлов и Павел Сергеевич Потемкин. Но главнокомандующий выделяет предприимчивого Рибаса и Кутузова. «Будешь доволен и Кутузовым» – сколько веры в полководческий талант Михаила Илларионовича содержит эта короткая фраза!
Узнав о решении совета, главнокомандующий послал Суворову новые указания: «Прежде, нежели достигли мои ордера к господину Генерал-Аншефу Гудовичу, Генерал-Порутчику Потемкину и Генерал-Майору Де Рибасу о препоручении Вам команды над всеми войсками, у Дуная находящимися, и о произведении штурма на Измаил, они решились отступить. Я, получа сей час о том рапорт, предоставляю Вашему Сиятельству поступить тут по лучшему Вашему усмотрению: продолжением ли предприятий на Измаил или оставлением онаго».
Потемкин понимал, в каком трудном положении оказался Александр Васильевич: отходящие от крепости войска уже потеряли уверенность в успехе, а противник ободрился. Но он знал, каким выдающимся воином был его «друг сердешный», и, предоставляя ему полную свободу действий, верил в его полководческий талант и воинскую честь. «Ваше Сиятельство, будучи на месте и имея руки развязанные, не упустите, конечно, ничего того, что только к пользе службы и славе оружия может способствовать. Поспешите только дать знать о мерах, Вами приемлемых, и снабдить помянутых Генералов Вашими предписаниями», – заканчивает Потемкин.
И Суворов (в который раз!) доказал, что его имя не напрасно было овеяно славой. Его рапорт от 30 ноября 1790 года краток: «По ордеру Вашей Светлости от 25 ноября за № 1336, мною сего числа полученному, я к Измаилу отправился, дав повеление генералитету занять при Измаиле прежние их пункты, а господину Генерал-Порутчику Князю Голицыну предписал ведать здешний пункт Галац».
Биографы Суворова «не заметили», что назначение под Измаил для Суворова не явилось неожиданностью. Еще не получив извещения об отходе войск, полководец приказал генералам «занять при Измаиле прежние их пункты». 30 ноября, отдав Голицыну и Дерфельдену распоряжения относительно «наблюдения и обеспокоивания» турецких сил под Браиловом, он с небольшим казачьим конвоем поскакал к Измаилу. Суворов очень торопился и утром 2 декабря прибыл в расположение русских войск. 2 декабря он отписался Потемкину: «К Измаилу я сего числа прибыл. Ордер Вашей Светлости от 29-го за № 1757 о мероположении, что до Измаила, я имел честь получить и о последующем Вашей Светлости представлю».
Осмотрев крепость, он рапортовал на следующий день: «У господина Генерал-Порутчика Потемкина я застал план, который поверял: крепость без слабых мест. Сего числа приступлено к заготовлению осадных материалов, коих не было, для батарей, и будем старатца их совершить к следующему штурму дней чрез пять, в предосторожность возрастающей стужи и мерзлой земли. Шанцовый инструмент по мере умножен. Письмо Вашей Светлости к Сераскиру (турецкому главнокомандующему. – В. Л.) отправлю я за сутки до действия. Полевая артиллерия имеет снарядов только один комплект. Обещать нельзя, Божий гнев и милость зависят от его провидения. Генералитет и войски к службе ревностию пылают. Фанагорийский полк будет сюда». В этом письме весь Суворов: деятельный, решительный, честный. Его реакция на решение военного совета та же, что и у главнокомандующего: «…так безвременно отступить… почитается постыдно».
Надо было успеть построить насыпи для батарей, пока морозы не сковали землю, и подтянуть к крепости ударные части. Суворов с нетерпением ждал свой любимый Фанагорийский гренадерский полк.
От каждого слова его рапорта веет сдержанной решимостью: «Генералитет и войски к службе ревностию пылают!» Только день пробыл он под стенами Измаила, но уже успел поднять боевой дух подчиненных. Очевидцы свидетельствуют: при одном слухе о скором прибытии Суворова все сразу преобразились и были уверены, что крепость будет взята. Поразительный пример влияния полководца на ход военных действий!
Замечателен эпизод, записанный со слов молодого французского офицера герцога Армана Эммануэля Ришелье де Фронсака, напросившегося волонтером в армию, осадившую Измаил:
«Рано утром… в сопровождении русского офицера он отправился явиться к главнокомандующему. Было очень холодно, стоял морозный туман. Посреди лагеря Ришелье заметил несколько человек солдат вокруг совершенно голого человека, который скакал по траве и выделывал отчаянную гимнастику.
"Кто этот сумасшедший?" – спросил Ришелье своего спутника. – "Главнокомандующий граф Суворов", – сказали ему Суворов, заметив иностранца (на Ришелье был майорский мундир французских гусар), поманил его к себе.
– Вы француз, милостивый государь?
– Точно так, генерал.
– Ваше имя?
– Герцог де Фронсак.
– А, внук маршала Ришелье! Ну, хорошо! Что вы скажете о моем способе дышать воздухом? По-моему, ничего не может быть здоровее. Советую вам, молодой человек, делать то же. Это лучшее средство против ревматизма!
Суворов сделал еще два или три прыжка и убежал в палатку, оставив своего собеседника в крайнем изумлении».
В многочисленных описаниях осады и штурма Измаила приходится читать утверждения, совершенно искажающие роль Потемкина: якобы, обуреваемый сомнениями, он сам вряд ли верил в возможность взятия Измаила и своей второй депешей от 29 ноября, по сути, переложил на Суворова всю ответственность за исход сражения. Лучшим ответом им являются подлинные документы тех дней.
Ордер Потемкина Суворову № 1730 от 4 декабря 1790 года: «Когда уже корпусы заняли прежнее место, то и быть по прежнему повелению. Даруй Боже Вам счастье». Его письмо от того же числа: «Даруй Боже тебе, мой любезнейший друг, счастье и здоровье. Желаю от искреннего сердца. Снарядов нету ли поблизости? А я отсюда послал. Кажется, в Килии у Ивана Ивановича был запас. Прости! Твой вернейший друг Князь Потемкин-Таврический».
Рапорт Суворова Потемкину № 86 от 5 декабря: «Уже бы мы и вчера начали, естли б Фанагорийский полк сюда прибыл. О чем Вашей Светлости доношу». Рапорт № 90: «7-го числа пополудни в 2 часа, послан был к крепости трубач с письмом Вашей Светлости и моими, где означен срок суточный на ответ, что принято было учтиво».
Письмо Потемкина измаильскому командованию: «Приближа войска к Измаилу и окружа со всех сторон сей город, уже принял я решительные меры к покорению его… Но прежде, нежели употребятся сии пагубные средства, я, следуя милосердию… требую от вас добровольной отдачи города; в таком случае все жители и войска… отпустятся за Дунай с их имением. Но если будете вы продолжать бесполезное упорство, то с городом последует судьба Очакова и тогда кровь невинная жен и младенцев останется на вашем ответе. К исполнению сего назначен храбрый Генерал Граф Александр Суворов-Рымникский».
Имя Суворова значило для осажденных больше, чем известие о прибытии под стены крепости крупных подкреплений с многочисленной осадной артиллерией. После Фокшан и особенно Рымника турецкие военачальники выделили «То-пал-пашу» из числа русских военачальников. В письме Суворова, переданном парламентерами вместе с посланием главнокомандующего, говорилось: «Приступая к осаде и штурму Измаила российскими войсками, в знатном числе состоящими, но соблюдая долг человечества, дабы отвратить кровопролитие и жестокость, при том бываемую, даю знать чрез сие Вашему Превосходительству и почтенным Султанам и требую отдачи города без сопротивления. Тут будут показаны все возможные способы к выгодам Вашим и всех жителей, о чем и ожидаю от сего чрез 24 часа решительного от Вас уведомления… В противном же случае поздно будет пособить человечеству, когда не могут быть пощажены не только никто, но и самые женщины и невинные младенцы от раздраженного воинства, и за то никто, как Вы и все чиновники пред Богом ответ дать должны».
Девятого декабря Суворов собрал военный совет. Состав его был почти тот же, что и двумя неделями ранее. Но какая перемена! После того как был зачитан ответ сераскира Айдозлу Мегмет-паши с просьбой дать десять дней, чтобы связаться с верховным визирем, совет единодушно постановил: «Приближась к Измаилу, по диспозиции приступить к штурму неотлагательно, дабы не дать неприятелю время еще более укрепиться. И посему уже нет надобности относиться к его Светлости Главнокомандующему. Сераскиру в его требовании отказать. Обращение осады в блокаду исполнять не должно.
Отступление предосудительно победоносным Ея Императорскаго Величества войскам». Суворов сделал приписку: «По силе четвертой на десять главы воинского устава». В 14-й главе Воинского устава Петра I говорилось: «Генерал своею собственною волею ничего важного не начинает без имевшего наперед военного совета всего генералитета, в котором прочие генералы паче других советы подавать могут». Полководец счел необходимым опереться на ближайших соратников.
Под постановлением 13 подписей: бригадир Матвей Платов, бригадир Василий Орлов, бригадир Федор Вестфален, генерал-майор Николай Арсеньев, генерал-майор Сергей Львов, генерал-майор Иосиф де Рибас, генерал-майор Ласий, дежурный генерал-майор граф Илья Безбородко, генерал-майор Федор Мекноб, генерал-майор Борис Тищев, генерал-майор Михаила Голенищев-Кутузов, генерал-поручик Александр Самойлов, генерал-поручик Павел Потемкин. Отметим двоих – Кутузова и его героического сподвижника в борьбе с Наполеоном донца Платова.
Девятого декабря Суворов предпринял последнюю попытку предотвратить кровопролитие – направил послание сераскиру Айдозлу Мегмет-паше, командовавшему армией, укрывшейся за стенами Измаила: «Получа Вашего Превосходительства ответ, на требование согласиться никак не могу, а против моего обыкновения еще даю вам сроку сей день до будущего утра на размышление».
Диспозиция была готова: на штурм пойдут девять колонн. Были назначены колонновожатые, розданы фашины и лестницы. Начало – «два часа перед рассветом» по сигнальной ракете. Чтобы противник не разгадал раньше времени сигнала к штурму, надлежало «ракетами приучать басурман, пуская оные в каждую ночь во всех частях перед рассветом». Были кратко и точно определены задачи каждому участнику, выделены резервы. Особо указывалось: «Всему войску наистрожайше запрещается: взошед на вал, никому внутрь города не бросаться и быть в порядке строя на крепости, до повеления от начальства… Христиан и обезоруженных отнюдь не лишать жизни, разумея то же о всех женщинах и детях».
В донесении о штурме говорится:
«10-го числа, по восхождении солнца, с флотилии, с острова и с четырех батарей, на обеих крылах к берегу Дуная устроенных, открылась по крепости канонада и продолжалась беспрерывно до самых пор, как войски на приступ прияли путь свой. В тот день из крепости сначала ответствовано пушечною пальбою живо, но к полудни пальба умалилась, а к ночи вовсе пресеклась, и чрез всю ночь было молчание и токмо слышен был глухой шум, изъявляющий внутреннюю заботу и осторожность.
С 10-го на 11-е число в три часа пополуночи все войски выступили устроенными колоннами к назначенным им пунктам, а флотилия по Дунаю плыла к назначенным местам. А в пять часов с половиною все колонны с Сухова пути так и водою двинулись на приступ. Небо облечено было облаками и расстланный туман скрывал от неприятеля начальное наше движение. Но вдруг с приближением первой и второй колонн неприятель открыл пушечную картечами пальбу и ружейный огонь вокруг всего вала загорелся».
Одиннадцатого декабря Суворов отправил главнокомандующему победный рапорт: «Нет крепчей крепости, ни отчаяннее обороны, как Измаил, падший пред Высочайшим троном Ея Императорского Величества кровопролитным штурмом! Нижайше поздравляю Вашу Светлость». Никакое подробное описание штурма Измаила не дает лучшего представления о подвиге Суворова и руководимых им войск, чем эти скупые строчки донесения на небольшом листке бумаги, пожелтевшем словно от порохового дыма и гари пожарища. Взятие и по сей день поражает знатоков военного искусства. Это был переворот в военном деле: за девять суток подготовить и осуществить штурм сильной крепости, гарнизон которой значительно превосходил силы осаждавших!
«Век не увижу такого дела. Волосы дыбом становятся, – писал жене Кутузов, командовавший одной из девяти колонн, а после взятия Измаила назначенный Суворовым комендантом покоренной крепости. – Вчерашний день до вечера был я очень весел, видя себя живого и такой страшный город в наших руках. Ввечеру приехал домой, как в пустыню… Кого в лагере ни спрошу, либо умер, либо умирает. Сердце у меня облилось кровью, и залился слезами. К тому же столько хлопот, что за ранеными посмотреть не могу; надобно в порядок привести город, в котором однех турецких тел больше 15 тысяч… Корпуса собрать не могу, живых офицеров почти не осталось».
Суворов твердо держал в руках все нити командования сражением: вовремя поддерживал атакующих словом и делом, посылал резервы. Согласно преданию в критический момент штурма, когда, казалось, бойцы Кутузова не выдержат и отступят, пришел приказ о назначении их командира комендантом Измаила.
Защитники крепости дрались с отчаянием смертников. Большую их часть составляли войска, выпущенные при капитуляции других турецких крепостей. За повторную сдачу султан грозил им казнью. Этим и объясняются ожесточенность сражения и большие потери.
Сергей Иванович Мосолов, командовавший батальоном егерей, свидетельствует:
«В крепости было одного гарнизона 35 тысяч турок и татар… Оные собрались из 4-х главных крепостей, из Хотина, из Бендеры, из Аккермана, из Килии, и свой пятый гарнизон; и потому они держались крепко, что почти все побиты и поколоны были; штурм продолжался 8 часов и некоторые колонны взошли было в город, опять выгнаты были, я из своего батальона потерял 312 человек убитых и раненых, а штаб– и обер-офицеры или ранены, или убиты были, и я ранен был пулею на вылет в самой амбразуре в бровь, и в висок вышла, и, кабы трубач меня не сдернул с пушки, то бы на ней и голову отрубили турки. На рампар (вал. – В.Л.) я взошел первой, только предо мною по лестнице 3 егеря лезли, которых в той амбразуре турки изрубили; ров был так глубок, что 9 ар[шинная] лестница только могла достать до берму, а с берма (уступа между рвом и бруствером. – В.Л.) до амбразур другую мы наставляли. Тут много у нас солдат погибло, они всем нас били, чем хотели.
Как я очнулся от раны, то увидел себя только с двумя егерями и трубачом, протчие все были или перебиты или ранены на парапете; потом стал кричать, чтоб остальные офицеры сами лезли с егерями из рва вверх, придавал им смелости, что турки оставили бастион. Тогда ко мне влезли по лестницам порутчик Белокопытов и подпорутчик Лавров с егерями здоровыми, мы закричали ура и бросились во внутрь бастиона и овладели оным; но однако ж много егерей тут было изрублено и офицер один убит, а меня, хоть и перевязали платком, намочив слюнями землю, к ране приложил трубач… но всё кровь текла из головы. Ослабел и пошел лег на банкете (а потом рана сия засохла с слюнями и землею, и так вылечился, но глазом правым долго не мог видеть), а пушки белел обратить и внутрь по городу стрелять. И штурм продолжался еще после сего; то наши гонют, то турки наших рубят; более 4 часов внутри города и без строю. Окончилось тем, что Бог нам определил быть победителями. Нас всего было 17 тысяч регулярных да казаков 5 тысяч, с которыми щастливый и смелый Граф Суворов взял крепость Измаил. После боя Граф позволил нижним чинам в крепости брать всё, кто что нашел, три дни. Правду сказать, у нас не было уже почти хлеба, а потом сделались с хлебом и разными припасами довольны; нижние чины достали и червонцев много, так что шапками иные к маркитантам носили…»
Недавно отысканное в архиве письмо Василия Степановича Попова прекрасно передает боевой настрой русских чудо-богатырей. Посланный Потемкиным в Измаил, он сразу по прибытии известил своего друга Якова Ивановича Булгакова, посланника в Варшаве:
«Пал теперь гордый Измаил. Войска, в нем бывшие, дрались, как львы. Кроме русских, никто бы, конечно, не одолел их. Сердце содрогается, представляя ужасное кровопролитие сего бедственного для турков дня. До двадцати тысяч убитых! Человечество (так по-старинному называли гуманность. – В. Л.) молчало. Герои наши не злобою, не жадностию к крови, сколько мщением за братию свою разъяренные, не щадили никого. Казалось, что не будет пощады, но к вечеру и на другой день собрано их до шести тысяч с несколькими пашами… Наших легло, может быть, более двух тысяч, не считая раненых… С какою решительностью шли наши на дело, изволите усмотреть из следующего поступка черноморцев. Они постились целые сутки, исповедались и, надев белые рубашки, пустились на город. Конечно, они были твердо убеждены быть или в Измаиле, или в раю».
Измаильский штурм явился высшей точкой всей войны. «Не Измаил, но армия турецкая, состоящая в 30 с лишком тысячах, истреблена в укреплениях пространных», – доносил Потемкин в Петербург. «Измаильская эскалада города и крепости с корпусом в половине противу турецкого гарнизона, в оном находящемся, почитается за дело, едва ли еще где в гистории находящееся, и честь приносит неустрашимому Российскому воинству», – отвечала Екатерина.
Императрица не преувеличивала. Тайные и явные враги России, ее друзья и оробевшие союзники – все единодушно признавали: в Европе нет армии, способной на подобный подвиг. «Сия потеря Измаила произвела великий страх в задунайских пределах», – сообщал Суворов главнокомандующему известия, полученные через своих агентов. Стратегическая и политическая обстановка резко изменилась. Жители Валахии выражали бурную радость. Венгры предлагали императору Леопольду 80 тысяч войска для продолжения войны с Портой за лучшие условия мира. Английские, голландские и прусские дипломаты были в растерянности. Систовская конференция прервала свои заседания. В Турции царила паника. За произнесение слова «Измаил» людей хватали и ссылали на галеры. Султан казнил гонцов, посылаемых визирем с известием о катастрофе. Шериф Хасан-паша назвал виновниками кровопролития англичан и пруссаков. Вскоре по приказу султана он был застрелен в Шумле (современный Шумен в Болгарии) и его отрубленная голова выставлена на всеобщее обозрение.
С измаильским триумфом связан исторический миф, который просуществовал почти 200 лет. В петербургском периодическом издании «Дух журналов» в 1817 году были напечатаны несколько анекдотов о Суворове, в том числе один – о размолвке измаильского победителя с Потемкиным. В 1827 году Е. Б. Фукс повторил его в своей книге «Анекдоты князя Италийского, графа Суворова-Рымникского». Фридрих фон Смитт, чье сочинение на немецком языке «Суворов и падение Польши» вышло в 1830-х годах, подал эту байку как факт. Его примеру последовал Николай Полевой. С их легкой руки анекдот не только прижился, но и не подвергался сомнению. Вот как передавался он первым анонимным рассказчиком:
«По взятии Графом Суворовым Измаила Князь Потемкин ожидал победителя в Яссы. Желая сделать ему почетную встречу, Князь велел расставить по дороге нарочных сигнальщиков, а в зале, из которой видно было далее версты на дорогу, приказал смотреть Боуру, чтобы как скоро увидит едущего Графа, немедленно доложил бы Князю, ибо о выезде его из последней к Яссам станции дано уже было знать. Но Суворов, любивший всё делать по-своему, приехал в Яссы ночью и остановился у молдаванского капитан-исправника, запретивши ему строго говорить о приезде своем.
На другой же день, часу в десятом по утру, севши в молдаванский берлин (похожий на большую архиерейскую повозку), заложенный парою лошадей в шорах; кучер на козлах был молдаван же, в широком плаще с длинным бичом; а назади лакей капитан-исправника в жупане с широкими рукавами, и в таком великолепном экипаже поехал к Князю.
Дорогою никто из наблюдавших его не мог подумать, чтоб это был Суворов, а считали, что едет какая-нибудь важная духовная особа. Когда же въехал он к Князю во двор, то Боур, увидя из окошка, побежал к Князю доложить, что Суворов приехал. Князь немедленно вышел из комнат и пошел по лестнице, но не успел сойти три ступеньки, как Граф был уже наверху. Потемкин обнял его, и оба поцеловались. При Князе был один только г. Боур, а мы стояли все в дверях и смотрели.
Князь, будучи чрезвычайно весел, обнимая Графа, говорит ему: "Чем могу я вас наградить за ваши заслуги?" Граф поспешно отвечал: "Нет! Ваша Светлость! Я не купец и не торговаться с вами приехал. Меня наградить, кроме Бога и Всемилостивейшей Государыни, никто не может!"
Потемкин весь в лице переменился. Замолчал и вошел в залу, а за ним и Граф. Здесь подает ему Граф рапорт; Потемкин принимает оный с приметною холодностию; потом, походя по зале, не говоря ни слова, разошлись: Князь в свои комнаты, а Суворов уехал к своему молдавану; и в тот день более не видались».
Смитт, уверовавший в эту байку, возмущался: «Могущественный враг его умел воспрепятствовать всему, что могло быть благоприятным Суворову. И последний не был пожалован не только фельдмаршалом, но даже и генерал-адъютантом, чего он желал, чтобы постоянно иметь свободный доступ к императрице».
Без малейшей критики повторил анекдот и А.Ф. Петрушевский. Его не смутил факт, что никто из находившихся в ставке Потемкина генералов и офицеров не заметил такого из ряда вон выходящего события, как ссора Суворова с самим главнокомандующим. До публикации 1817 года никто о размолвке в Яссах не слыхал. Жизнеописатель полководца чувствовал неправдоподобность анекдота и всё же попытался объяснить выходку измаильского героя психологическим просчетом: Суворов совершил выдающийся подвиг, на который можно отважиться только раз в жизни, и приехал к Потемкину новым человеком, а тот остался верен прежнему дружескому тону, вот и случилась размолвка.
Советских авторов такое объяснение не устраивало. «Потемкин обомлел. Подобного тона он никак не ожидал, – читаем у самого растиражированного биографа Суворова К. Осипова. – Они молча ходили по залу; ни тот ни другой не могли найти слов. Наконец Суворов откланялся и вышел. Это была его последняя встреча с князем Таврическим… Пять минут независимого поведения дорого обошлись Суворову… Екатерининская эпоха еще раз зло посмеялась над ним. Суворову горше, чем когда бы то ни было, было суждено почувствовать, что недовольство фаворита значит для царицы больше, чем любые подвиги полководца… Суворов выехал в Петербург. Потемкинские эстафеты опередили его. Он был принят очень холодно». Абтор, видимо, даже не подозревал о том, что по приезде в столицу Александр Васильевич и Григорий Александрович не раз встречались на официальных приемах.
Анонимный анекдот является позднейшей выдумкой [19]19
Доказательства см.: Лопатин В.С. Потемкин и Суворов. М., 1992. (Прим. авт.)
[Закрыть]. Кстати, еще в 1841 году известный русский военный историк Александр Васильевич Висковатов в работе «Сведения о князе Потемкине» заметил: «Должно ли после сих слов и после всех знаков веры Потемкина в воинские дарования Суворова согласиться с преданием, что он завидовал Рымникскому и препятствовал ему получить должную награду? Прибавим к тому, что Суворов и не был обижен: важный в то время чин Подполковника Лейб-Гвардии Преображенского полка и выбитая в его честь золотая медаль были наградами, полученными им от Императрицы за Измаильский подвиг».
Полным вымыслом являются ссылки биографов Суворова на «эстафеты разгневанного временщика», которые якобы помешали герою получить фельдмаршальский жезл. Донесения, опередившие приезд измаильского победителя в столицу, были опубликованы в «Санкт-Петербургских ведомостях» вскоре после штурма крепости. «Не Измаил, но армия турецкая, состоящая в 30 с лишком тысячах, истреблена в укреплениях пространных, – говорилось в первом донесении Потемкина Екатерине. – Храбрый Генерал Граф Суворов-Рымникский избран был мною к сему предприятию». А вот отрывок из второго донесения: «Отдав справедливость исполнившим долг свой военачальникам, не могу я достойной прописать похвалы искусству, неустрашимости и добрым распоряжениям главного в сем деле вождя Графа Суворова-Рымникского. Его неустрашимость, бдение и прозорливость всюду содействовали сражающимся, всюду ободряли изнемогающих и, направляя удары, обращавшие вотще неприятельскую оборону, совершили славную сию победу». Таким образом, миф о размолвке Суворова с Потемкиным должен быть вычеркнут из биографии великого полководца.
Нельзя не остановиться на еще одной фальсификации. Западные историки выставляют Суворову очень строгий счет за Измаил, обвиняя его в чрезмерной жестокости. О кровавом штурме сразу же стала писать европейская пресса. Особенно усердствовали журналисты революционной Франции. В дни якобинского террора, унесшего жизни десятков тысяч французов, эти «разбойники пера» проклинали русского полководца за кровь «несчастных жертв», пролитую в Измаиле. Играя словами, они сравнивали Суворова с беспощадным султаном Марокко Мулаем Исмаилом ибн Шерифом (1672—1727), изгнавшим из страны европейцев.
В начале XIX века великий английский поэт лорд Байрон в своем сатирическом эпосе, поэме «Дон Жуан», описал «измаильскую эскаладу»:
Суворов появлялся здесь и там,
Смеясь, бранясь, муштруя, проверяя.
(Признаться вам – Суворова я сам
Без колебаний чудом называю!)
То прост, то горд, то ласков, то упрям.
То шуткою, то верой ободряя.
То арлекин, то Марс, то Мом,
Он гением блистал в бою любом.
Советские биографы полководца часто цитировали эти строки, стыдливо скрывая продолжение:
Суворов в этот день превосходил
Тимура и, пожалуй, Чингисхана:
Он созерцал горящий Измаил
И слушал вопли вражеского стана;
Царице он депешу сочинил
Рукой окровавленной, как ни странно —
Стихами: «Слава Богу, слава Вам! —
Писал он. – Крепость взята, и я там!»
Двустишье это, мнится мне, страшнее
Могучих слов «Мене, Мене, Текел!»,
Которые, от ужаса бледнея,
Избранник Даниил уразумел.
Но сам пророк великой Иудеи
Над бедствием смеяться не посмел.
А этот рифмоплет – Нерону пара! —
Еще острил при зареве пожара [20]20
Перевод Т. Гнедич.
[Закрыть].
Приведя библейский рассказ о страшной гибели Вавилона, предсказанной пророком Даниилом, и повторив ходячий анекдот о стихотворном донесении Суворова по случаю взятия турецкой крепости Туртукай, британский лорд отнес русского полководца к самым жестоким деятелям мировой истории. Суворов «не острил при зареве пожара». Его донесения шли не царице, а, как положено, главнокомандующему:
«Простите, сам не пишу: глаза от дыму болят. Легло наших героев сухопутных с флотскими за отечество до двух тысяч, а раненых больше. Варваров, получавших провиант, до 40 000, но числом менее того; в полону при разных пашах и чиновниках около трех, а всех душ до пяти тысяч. Протчие погибли… Трофей – больших и малых пушек ныне около 200 и знамен до 200, должно быть больше. Победоносное войско подносит Вашей Светлости городские ключи».
Казалось бы, грандиозная победа должна была ускорить окончание войны. Но вышло иначе: союзники султана заверили его, что, если Россия не заключит мир на условии сохранения статус-кво, против нее двинутся британский флот и прусская армия.
В период зимнего затишья Потемкин и Суворов отправились в Петербург. Там между ними и произошел конфликт, совершенно искаженный биографами великого полководца. И виноват в нем был измаильский победитель.