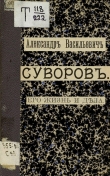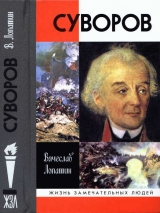
Текст книги "Суворов"
Автор книги: Вячеслав Лопатин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 37 страниц)
Суворов, приучая лошадей своей конницы к скоку во всю прыть, вместе с тем приучал их и к проницанию в середину стреляющего фронта, на который производится нападение. Но чтобы вернее достигнуть своей цели, он не прежде приступал к последнему маневру, как при окончании смотра или ученья, уверенный в памятливости лошадей о том построении и даже в том командном слове, которым прекращается зависимость их от седоков.
Для этого он спешивал половинное число конных войск и ставил их с ружьем, заряженным холостыми патронами, так, чтобы каждый стрелок находился от другого на таком расстоянии, какое нужно лошади для проскока между ними. Другую половину оставлял он на конях и, поставив каждого всадника против промежутка, назначенного предварительно для проскока в пехотном фронте, приказывал идти в атаку.
Пешие стреляли в то самое время, как всадники проскакивали во всю прыть сквозь стреляющий фронт. Проскочив, они тотчас слезали с лошадей, и этим заключался каждый смотр, маневр и ученье.
Посредством выбора времени для этого маневра лошади так приучались к выстрелам, пускаемым, можно сказать, в их морду, что вместо страха они при одном взгляде на построение против них спешившихся всадников с ружьми, предчувствуя конец трудам своим, начинали ржать и рвать вперед, чтобы скорее проскакать сквозь выстрелы и возвратиться на покой в свои коновязи или конюшни.
Но эти проскоки всадников сквозь ряды спешившихся солдат часто дорого стоили последним. Случалось, что от дыма ружейных выстрелов, от лишней торопливости всадников или от заноса некоторых своенравными лошадьми, не по одному, а по нескольку вдруг, они попадали в промежуток, назначенный для одного. Это причиняло увечье и даже смертоубийство в пехотном фронте. Вот отчего маневр был так неприятен тем, кому выпадал жребий играть роль пехоты.
Но эти несчастные случаи не сильны были отвратить Суворова от средства, признанного им за лучшее для приучения конницы к поражению пехоты. Когда доносили ему о числе жертв, затоптанных первою, он обыкновенно отвечал: "Бог с ними! Четыре, пять, десять человек убью; четыре, пять, десять тысяч выучу!"
И тем оканчивались все попытки доносящих отвлечь его от этого единственного способа довести конницу до предмета, для которого она единственно создана».
Блестящий гусарский офицер, бесстрашный партизан, побеждавший в 1812 году лихими налетами численно превосходящие наполеоновские отряды, Денис Давыдов точно передал суть суворовской системы обучения войск – его знаменитые сквозные атаки, ставшие одним из залогов выдающихся побед великого полководца.
На следующий день, наблюдая маневры, маленький Денис безуспешно пытался в облаках пыли разглядеть Суворова.
«Наскучив, наконец, бесплодным старанием хоть однажды взглянуть на героя, мы возвратились в лагерь, в надежде увидеть его при возвращении с маневров…
Около десяти часов утра всё зашумело вокруг нашей палатки, закричало: "Скачет! Скачет!"
Мы выбежали и увидели Суворова в ста саженях от нас, скачущего во всю прыть в лагерь и направляющегося мимо нашей палатки. Я помню, что сердце мое тогда упало, как после упадало оно при встрече с родными после долгой разлуки. Я был весь внимание, весь был любопытство и восторг, и как теперь вижу – толпу, составленную из четырех полковников из корпусного штаба, адъютантов и ординарцев, и впереди толпы Суворова на саврасом калмыцком коне, принадлежавшем моему отцу: в белой рубашке, в довольно узком полотняном нижнем платье, в сапогах вроде тоненьких ботфорт и в легкой, маленькой, солдатской каске… На нем не было ни ленты, ни крестов.
Это очень мне памятно, как и черты сухощавого лица его, покрытого морщинами; как и поднятые брови и несколько опущенные веки. Всё это, несмотря на детские лета, запечатлелось в моей памяти не менее его одежды. Вот отчего мне не нравится ни один из его бюстов, ни один из его портретов, кроме портрета, написанного в Вене во время проезда его в Италию… да бюста Гишара, изваянного по слепку с лица после его смерти. Портрет, искусно выгравированный Уткиным (добавим от себя, самый известный. – В. Л.), не похож: он без оригинального выражения его физиономии, спящ и безжизнен.
Когда он несся мимо нас, любимый адъютант его Тищенко, человек совсем необразованный, но которого он пред всеми выставлял за своего наставника и как будто слушался его наставлений, Тищенко закричал ему: "Граф! Что вы так скачете? Посмотрите, вот дети Василья Денисовича!"
"Где они? Где они?" – спросил он и, увидя нас, поворотил в нашу сторону, подскакал к нам и остановился. Мы подошли к нему ближе. Поздоровавшись с нами, он спросил у отца моего наши имена, подозвал нас к себе еще ближе, благословил нас весьма важно, протянул каждому из нас свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: "Любишь ли ты солдат, друг мой?"
Смелый и пылкий ребенок, я со всем пылом детского восторга мгновенно отвечал ему: "Я люблю графа Суворова; в нем всё – и солдаты, и победа, и слава!"
"О, помилуй Бог, какой удалой! – сказал он. – Это будет военный человек; я не умру, а он уже три сражения выиграет! А этот (указ на моего брата) пойдет по гражданской службе!"
С этим словом он вдруг поворотил лошадь, ударил ее нагайкой и поскакал к своей палатке».
В данном случае предсказание Суворова не сбылось: Евдоким Давыдов стал военным и получил восемь ран, а сам Денис не командовал «ни армиями, ни даже отдельными корпусами, следовательно, не выигрывал и не мог выигрывать сражений». Но слова великого человека, пишет мемуарист, имели что-то магическое: «Когда, спустя семь лет, подошло для обоих нас время службы, отцу моему предложили записать нас в Иностранную Коллегию, но я, полный слов героя, не хотел другого поприща, кроме военного. Брат мой, озадаченный, может быть, его предсказанием, покорился своей судьбе и, прежде чем поступил в военное звание, около году служил в Архиве Иностранных Дел юнкером».
Замечателен эпизод воспоминаний, связанный с разбором Суворовым маневров:
«В этот день все полковники и несколько штаб-офицеров у него обедали. Отец мой, возвратясь домой, рассказывал, что перед обедом Суворов толковал о маневре того дня и делал некоторые замечания. Как в этом маневре отец мой командовал второй линией, то Суворов, обратись к нему, спросил: "Отчего вы так тихо вели вторую линию во время третьей атаки первой линии? Я посылал вам приказание прибавить скоку, а вы всё продолжали тихо подвигаться!"
Такой вопрос из уст всякого начальника не забавен, а из уст Суворова был, можно сказать, поразителен. Отец мой известен был в обществе необыкновенным остроумием и присутствием духа в ответах. Он, не запнувшись, отвечал ему:
– Оттого, что я не видел в этом нужды, Ваше Сиятельство!
– А почему так?
– Потому что успех первой линии этого не требовал: она не переставала гнать неприятеля. Вторая линия нужна была только для смены первой, когда та устанет от погони. Вот почему я берег силу лошадей, которым надлежало впоследствии заменить выбившихся уже из сил.
– А если бы неприятель ободрился и опрокинул первую линию?
– Этого быть не могло: Ваше Сиятельство были с нею!
Суворов улыбнулся и замолчал. Известно, что он морщился и мигом обращался спиною в ответ на самую утонченную лесть и похвалу, исключая тех только, посредством кого разглашалась и укоренялась в общем мнении его непобедимость. Эту лесть и эти похвалы он любил, и любил страстно, – вероятно, не из тщеславия, а как нравственную подмогу и, так сказать, заблаговременную подготовку непобедимости».
Давыдов вспоминал, что на обед, данный его родителями Суворову, командирам участвовавших в маневрах полков и штаб-офицерам Полтавского полка, генерал-аншеф явился в легкоконном темно-синем мундире с тремя звездами; по белому жилету лежала лента Георгия 1-го класса; более орденов не было. Александр Васильевич расцеловал мать в обе щеки, вспомнил ее покойного отца генерал-поручика Щербинина, а мальчиков благословил, дал поцеловать свою руку и сказал: «Это мои знакомые».
За обеденным столом старый воин подшучивал над одной пожилой дамой и, «когда она, услышав его голос, оборачивалась на его сторону, он, подобно кадету-повесе, потуплял глаза в тарелку, не то обращал их к бутылке или стакану, показывая, будто занимается питьем или едою, а не ею…». Пробыв после обеда около часу «весьма разговорчивым, веселым и без малейших странностей», он отправился в лагерь и там вынес вердикт:
«Первый полк отличный.
Второй полк хорош.
Про третий ничего не скажу.
Четвертый никуда не годится».
Спустя несколько месяцев после мирных маневров конницы и насмешек над пожилой дамой на берегах Днепра, пишет Давыдов, Польша уже стояла вверх дном и курилась Прага, залитая кровью ее защитников.
«ШАГНУЛ И ЦАРСТВО ПОКОРИЛ»
Так образно, кратко и точно Державин в оде «На взятие Варшавы» выразил самую суть блестящей кампании Суворова – кампании, принесшей ему чин генерал-фельдмаршала и славу первого полководца Европы.
Война началась с катастрофы. В секретном донесении императрице, отправленном российским посланником и командующим войсками в Варшаве бароном Иосифом Андреевичем Игельстромом, говорилось:
«Сражение в Варшаве началось в пять часов по полуночи 6 апреля. Бунт во всех частях города единовременно возгорел; польские войска, во-первых, обняли цейхауз и замок королевский. Овладев цейхаузом, открыли его и выдали из оного пушки и множество разного оружия, коими вооружилась чернь.
Баталионы войск Вашего Императорского Величества в Варшаве в восьми частях города были расположены. Многочисленные толпы мятежников устремились вдруг на все те места, кои назначены были сборными для войск Вашего Императорского Величества при случае тревоги… Каждый баталион принужден был особенно сражаться на сборном месте, а соединение совсем было отрезано.
Продолжая сражение, я ласкал себя всё еще надеждою, что которому ни есть баталиону удастся подойти ко мне на подкрепление или что прусские войска, под самым городом стоявшие, преподадут мне оное. Но, не открыв себе ни с какой стороны пособия, решился, наконец, отвергнув несколько кратные со стороны мятежников между тем зделанные мне постыдные предложения положить ружье и отдаться пленным, пробиться чрез толпы бунтовщиков до края города.
Сие предприятие, сколько отчаянное, но столько же и необходимое, удалось мне: я прорвался за город и, соединяясь с прусскими войсками, вчерашнего дня вечером обще с ними дошел до Закрочина, где и остановился на нынешний день».
Прорваться удалось лишь пяти сотням человек. «Прочие все убиты и так изранены, что остались на месте. Что последовало с другими в Варшаве бывшими семью баталионами гренадер и егерей, пятью эскадронами Харьковского легкоконного полку и с орудиями полевой артиллерии, по краям города стоявшими, о том до сего часа не имею я достоверного сведения. Из посторонних между разговоров показаний ведаю лишь, что по жесточайшем же сопротивлении частию они побиты, частию в плен взяты…
Как же ныне открылось, что всем настоящим в Польше смятениям Король глава, то теперь безсомненно ожидать следует, что скоро и в Литве начнется революция, в коей по приглашению возмутителя Костюшки чрез манифесты и акт возстания… не только войска и дворянство, но и мещане, и поселяне будут участвовать и действовать все вообще военною рукою».
Генерал-аншеф Игельстром, заслуженный ветеран русской армии, опытный администратор проглядел близившийся взрыв. Теперь он предлагал немедленно двинуть в Польшу многочисленные войска.
Разгневанная Екатерина поручила командование силами, направляемыми в Польшу и Литву, Репнину. Едва князь Николай Васильевич принял новую должность, как ему пришло донесение:
«…Россиян в Вильне перерезали в ту самую ночь, то есть со вторника на среду Святой Недели… На 12 число в ночи граждане и литовские в Вильне бывшие войски напали на губвахту и на сонных россиян в квартирах и оных умерщвляли; захватили Гетмана Коссаковского и многих наших чиновников…
Войски наши, в Варшаве пребывающие, почти все перебиты, в плен захвачены и весьма малое количество оных осталось. Генералы Апраксин и Граф Зубов взяты под арест. Вся канцелярия Барона Осипа Андреевича Игельстрома взята и до миллиона суммы захвачено. Три племянника его убиты, а сам он неизвестно куды девался».
В хаосе событий верные сведения перемежались слухами. На самом деле генерал-поручик Степан Апраксин и генерал-майор Николай Зубов пробились из Варшавы вместе с Игельстромом. Старший брат фаворита добрался до Петербурга и привез государыне дурные вести.
После второго раздела Речи Посполитой в 1793 году Россия получила Правобережную Украину и значительную часть Белоруссии, Пруссия – польские земли в Померании. У власти оказались сторонники союза с Россией, которых поддержал и король Станислов Август, фактически отстраненный от власти еще в предшествующие годы.
Восстание тщательно готовилось, но началось стихийно с выступления 1 (12) марта кавалерийской бригады Мадалинского из числа польских войск, подлежавших расформированию. Бригаде удалось прорваться в Краков, куда из-за границы прибыл Тадеуш Костюшко, популярный генерал, прославившийся в Войне за независимость американских колоний под знаменами Джорджа Вашингтона. Заранее назначенный диктатором и главнокомандующим, Костюшко 13 (24) марта обнародовал в Кракове Акт восстания и принес присягу. Победа 24 марта (4 апреля) его отряда над незначительными русскими силами при Рацлавйце стала сигналом к всеобщему выступлению. Ночью 6(17) апреля в Варшаве ударили в колокола. Шла православная Страстная неделя, русские солдаты и офицеры молились в храмах. Началась беспощадная резня. Потери составили около половины варшавского гарнизона – более четырех тысяч человек убитыми и пленными. Было захвачено российское посольство. Вместе с военными в заточении оказались дипломаты. Обращение с ними было крайне суровым.
Когда же в Варшаве польские якобинцы подняли массы, на сторонников России был обрушен революционный террор. Возбужденные толпы требовали казни попавших в плен «москалей».
Восстание перекинулось в другие места. Поднялись дислоцированные на территориях Правобережной Украины и Белоруссии польские части (всего до пятнадцати тысяч человек), принятые на русскую службу и принесшие присягу Екатерине.
Лидеры восставших требовали возвращения территорий, утраченных в результате первого и второго разделов.
Осведомленный Петр Васильевич Завадовский, имевший значительный вес в правящих кругах, писал из Петербурга своему другу графу Александру Романовичу Воронцову: «По бумагам открылось достоверно, что бунтовщики полную связь имели с конвенциею Парижскою и получали помощь денежную. План улажен обширный, чтоб поднять Турков, Шведов и Датчан, но Костюшко по своим видам, не дожидаясь общего подвига, открыл ранее свое дело, надеясь на громаду повсюду в Польше равных себе злоумышленников».
Франция была крайне заинтересована в том, чтобы поляки отвлекли на себя силы европейских монархий. Французские армии под лозунгом «Мир хижинам, война дворцам» начали успешное контрнаступление, вскоре превратившееся в захват территорий соседних государств.Война поляков за национальную независимость стала для русских войной за национальную безопасность. Екатерина объявила поляков мятежниками. Общее руководство подавлением мятежа принял на себя исполняющий обязанности президента Военной коллегии граф Николай Иванович Салтыков.
Двадцать четвертого апреля Суворов получил рескрипт: «Граф Александр Васильевич! Известный Вам, конечно, бунтовщик Костюшко, взбунтовавший Польшу, в отношениях своих ко извергам, Франциею управляющим, и к Нам из верных рук доставленных, являет злейшее намерение повсюду рассеивать бунт во зло России». Суворову повелевалось поступить под командование Румянцева, возвращенного императрицей из отставки. Прославленному победителю турок, старому и больному, было поручено возглавить войска на Волыни, в Подолии и на юге России с задачей не допустить проникновений туда польских отрядов и быть готовым воевать с Портой. Десятого мая Суворов рапортовал фельдмаршалу: «Вступя паки под высокое предводительство Вашего Сиятельства, поручаю себя продолжению Вашей древней милости и пребуду до конца дней моих с глубочайшим почтением».
Сначала без единого выстрела он разоружил польские части в Брацлавской губернии (современная Винницкая область Украины). «Мы предупредили их несколькими днями или, скорее, одними сутками, – сообщил 4 июня Суворов своему другу Рибасу. – Покамест, елико возможно, хлопочите в Санкт-Петербурге, чтобы мне, лишь только покончу дело в Польше, возвратиться к Вам: сие на благо общества, ежели только интригующая партия не желает меня вновь ввергнуть в бездействие… Я очень доволен моим старым почтенным начальником». Очевидно, он беспокоился за Крым и пограничные с Турцией территории. Всем казалось, что двинутые в Польшу и Литву войска быстро справятся с мятежниками.
Императрица в рескрипте Румянцеву поблагодарила фельдмаршала, не покидавшего своего имения на Украине, за успешное «обезоружение большей части бывших польских войск», поручив «объявить Наше благоволение и Генералу Графу Суворову-Рымникскому за его труды и деятельность».
«Я провел несколько весьма приятных часов у Фельдмаршала, – сообщает Александр Васильевич Рибасу 24 июня. – Польша дана не ему, но Князю Репнину, и я таким образом остаюсь ни при чем. Мне не пишут из Санкт-Петербурга; впрочем, там довольны моею прогулкою, а Графом Иваном Салтыковым нет». Далее следует профессиональная оценка военных действий в Польше: «После поражения Костюшки пруссаки потребовали сдачи Кракова, который тотчас и сдался на волю победителей с гарнизоном, состоящим из 7000 человек. Несчастный Костюшко с небольшим числом своих окружен в тамошних лесах. Город сей отдан австрийцам, которые тремя корпусами общим числом 35 000 человек, большею частию венгерцев, не обнажая меча, проникли в 3 их воеводства… Варшава занята пруссаками».
Но слух о занятии Варшавы оказался ложным. Пожертвовав своим авангардом, Костюшко прорвался к Варшаве, вызвав искреннюю похвалу Суворова: «В мятежнике довольно искусства!»
После краткого свидания с Румянцевым в его имении Ташань, в 110 верстах от Киева, Суворов получил от него план варшавского предместья Праги.
Дела в Польше, несмотря на частные успехи ее противников, осложнялись. Мятежники увеличивали силы, привлекая под свои знамена крестьян обещанием освободить их от крепостной зависимости. «Косиньеры» (они вооружались самодельными копьями из древка и прикрепленного к нему лезвия косы) усилили «старые» (регулярные) войска. Поляки держали в руках инициативу, наносили неожиданные удары, дрались смело и упорно. Их предводители умело выбирали позиции, хорошо маневрировали в ходе сражений. Отлично действовала польская артиллерия.
Успешно дрались и французские войска: 14 (25) июня в генеральном сражении при Флерюсе они разбили австрийцев. Судьба Голландии, вступившей в ряды антифранцузской коалиции, была предрешена. Испанская армия также терпела неудачи. Газеты были полны слухами о раскрытых якобинских заговорах в Турине и других городах Италии. И хотя вожди якобинцев (Робеспьер и его ближайшие сторонники) 17/28 июля были гольотинированы, новые диктаторы не собирались отказываться от военных завоеваний.
Суворов, почтительно намекнувший Румянцеву о «томной праздности», в которой он пребывает «невинно после Измаила», и прибавивший, что «мог бы препособить окончанию дел в Польше и поспеть к строению крепостей», начинает тревожиться не на шутку. 15 июля летит письмо Хвостову в Петербург: «Одно мое слово – хочу служить! Здесь без дела, театр в Польше… Отрицаюсь от всех награждениев, себя забуду и напрягу их (силы. – В.Л.) для других… Я возьму терпение до сентября. Боже! И это тошно».
Проходит неделя. Новое письмо: «Долго ли мне не войти в мою сферу? В непрестанной мечте, паки я не в Польше, там бы я в сорок дней кончил!»
Через три дня он взывает к Румянцеву: «Ваше Сиятельство в писании Вашем осыпать изволите меня милостьми, но я всё на мели. Остается мне желать краткую мою жизнь кончить с честью! где бы то ни было, по званию моему, не инженером. Один Вы, Великий муж! мне паки бытие возвратить можете». В тот же день Суворов решает прибегнуть к последнему средству «Всемилостивейшая Государыня! – пишет он. – Вашего Императорского Величества всеподданнейше прошу всемилостивейше уволить меня волонтером к союзным войскам, как я много лет без воинской практики по моему званию».
Ответ не заставил себя ждать. «Граф Александр Васильевич! – писала 2 августа Екатерина. – Письмом Вашим от 24-го июля, полученным Мною сего утра, вы проситеся волонтером в Союзную Армию. На сие Вам объявляю, что ежечасно умножаются дела дома и вскоре можете иметь тут по желанию Вашему практику военную много. И так не отпускаю Вас поправить дел ученика Вашего, который за Рейн убирается по новейшим известиям, а ныне, как и всегда, почитаю Вас Отечеству нужным».
Седьмого августа Румянцев, ссылаясь на вести из Константинополя, подтвердил мнение Суворова о «удержании покоя и мира с сей стороны» и поручил ему двинуться к Бресту против поляков, чтобы «сделать сильный отворот сему дерзкому неприятелю и так скоро, как возможно». Письмо заканчивалось многозначительным напутствием: «Ваше Сиятельство были всегда ужасом поляков и турков, и Вы горите всякий раз равно нетерпением и ревностью, где только о службе речь есть… Ваше имя одно в предварительное обвещание о Вашем походе подействует в духе неприятеля и тамошних обывателей больше, нежели многие тысячи». В подкрепление Суворову выделялись два летучих отряда генералов И.И. Моркова и Ф.Ф. Буксгевдена.
Четырнадцатого августа полководец начал свой знаменитый марш, завершившийся взятием варшавского предместья Праги и положивший конец войне. План действий был давно обдуман. Сохранилась записка полководца, набросанная для себя.
«Невежды петербургские не могут давать правил Российскому Нестору (Румянцеву. – В. Л.); одни его повеления для меня святы, – пишет Суворов, подчеркивая нежелание слушать невнятные советы Салтыкова из Петербурга. – Союзники ездят на российской шее; Прусский король даже и варшавских мятежников обращает на Россиян, если то не из газет взято». (Австрийцы действовали крайне пассивно. Энергичная оборона Варшавы и восстание в захваченной Пруссией части Польши заставили прусского короля Фридриха Вильгельма II снять осаду, а затем отступить, бросив русский корпус Ферзена на произвол судьбы.) Именно ему, Суворову, предстояло нанести противнику решающие удары.
«Время драгоценнее всего, – продолжает Суворов. – Юлий Цезарь побеждал поспешностью. Я терплю до двух суток для провианта, запасаясь им знатно на всякий случай. Поспешать мне надлежит к стороне Бреста». Он обозначает цель похода, на что так и не отважился Репнин: «Там мне прибавить войска, итти к Праге, где отрезать субсистенцию из Литвы в Варшаву».
Суворов прекрасно знал театр войны, знал сильные и слабые стороны противника и на этом основывал свой план: его козырь – внезапность.
Польские военачальники, как и должно, учитывали возможность выступления против них непобедимого русского полководца. Но Костюшко, ободряя своих сторонников, заявил, что «Суворов будет занят» предстоящей войной с турками и «в Польше быть не сможет». Когда же стали доходить слухи о движении суворовского корпуса, никто не мог предположить такой быстроты его марша.
Он приказал взять в поход самый легкий обоз с провиантом на восемь дней. На столько же должно было хватить сухарей, которые несли в своих ранцах солдаты. Было приказано не брать зимнего платья, кроме плащей, быть в кителях. Подавая пример, первый солдат своего войска также оделся по-летнему и проделал поход до Бреста в белом кителе, укутываясь в холодные ночи в свой синий плащ. Экипажем генерал-аншефу служила кибитка, куда помещался весь его багаж.
В самом начале похода генерал-поручик Павел Сергеевич Потемкин, боевой товарищ по Измаилу, ставший заместителем Суворова в Польской кампании, разослал в войска приказ:
«Его Сиятельство Главнокомандующий здесь войсками Господин Генерал-Аншеф и Кавалер Граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский поручил мне управление корпуса и устроение порядка… Знаменитость предводительствующего войсками Его Сиятельства Графа Александра Васильевича всему свету известна, и войски под его руководством всегда и везде надежны в подвигах своих.
Правила на всякое приготовление и на случай сражения от Его Сиятельства Господина Главнокомандующего предписаны; должно оные затвердить всем господам штаб и обер-офицерам и внушить нижним чинам и рядовым, чтоб каждый знал твердо ему предписанное».
Это был заранее составленный Суворовым военный катехизис, вобравший в себя боевой опыт последних войн и содержавший положения будущей «Науки побеждать».
Войска шли, повторяя заветные слова своего вождя:
«Легко в ученье – тяжело в походе; тяжело в ученье – легко в походе…
Скоро, проворно, храбро во всех эволюциях стоять должен… Напрасно пули не терять, а беречь на три дни… чтоб для случая иметь две смерти: штык и пулю в дуле…
Шаг назад – смерть. Всякая стрельба кончается штыком…
На неприятеля начинать атаку с слабой стороны…
По военной пословице, сбитого неприятеля гони плетьми. Но при жестокой погоне нимало не давать времени ему оправляться и паки выстроиться. Тогда был бы опять равный бой…
Пехота, особливо кареями, должна быть приучена к пальбе весьма и цельному прикладу, к действию штыка, к быстрым движениям, чтоб, сколько можно, от кавалерии не отдаляться…
Производить экзерциции… кавалерия, приученная к крестной рубке, проезжает сквозь на саблях… линию кавалерии или спешенной, или пехоты, под пальбою сих последних, дабы кони приучены были к огню и дыму, как и к блеску холодного ружья, а седок к стремю и поводам».
Командующий носился верхом по расположениям войск, подбадривая уставших, проверяя знание своих наставлений, напоминая о прошлых победах. И, как всегда, звучали слова: «В поражениях сдающимся в полон давать пощаду… Обывателям ни малейшей обиды, налоги и озлобления не чинить. Война не на них, а на вооруженного неприятеля».
По пути к суворовскому корпусу присоединились еще два, силы возросли до пятнадцати тысяч человек. Среди присоединившихся войск находились как ветераны, хорошо знавшие боевые приемы своего полководца, так и новички. Им тоже приказано было учить военный катехизис. По воспоминаниям участника событий, все знали наставления Суворова не хуже, чем Отче наш.
За 20 дней суворовские войска прошли 530 верст!
Третьего сентября казачья полусотня атаковала под Дивином сторожевой отряд поляков в 200 человек, совершенно не ожидавших появления русских войск. Подкрепленные еще сотней товарищей казаки уничтожили противника. Пленные и жители показали, что в 35 верстах в Кобрине находится авангард корпуса генерала Сераковского, дислоцированного под Брестом.
Некоторые из соратников Суворова советовали ему провести разведку, он же приказал казачьему авангарду бригадира Ивана Исаева идти вперед. И внезапный удар 4 сентября снова решил дело.
Спустя два дня в сражении при Крупчицком монастыре близ Кобрина были разгромлены части из корпуса Сераковского, а еще через два дня под Брестом сокрушены его основные силы – более десяти тысяч человек. Остатки корпуса, собиравшегося наступать на восток, бежали к Варшаве. «Брестский корпус, уменьшенный при монастыре Крупчицком 3000-ми, сего числа кончен при Бресте, – донес Суворов фельдмаршалу. – Поляки дрались храбро, наши войска платили их отчаянность, не давая пощады… По сему происшествию и я почти в невероятности. Мы очень устали».
За пять дней одержаны четыре победы! Суворов блестяще реализовал свой принцип: «быстрота, глазомер и натиск». Имея численное превосходство, противник дрался упорно и умело, но уступил в честной борьбе лучшему полководцу своего времени. Первые два боя выиграли шедшие в авангарде казаки, в сражениях при Крупчицах и Бресте решающую роль сыграли обученные по суворовской системе сквозных атак Черниговский карабинерный и Переяславский легкоконный полки, те самые, о маневрах которых под руководством Суворова рассказывал Денис Давыдов.
Впечатление от поражений мятежников было потрясающим. Костюшко прискакал в Гродно, наспех осмотрел войска и умчался обратно в Варшаву Он сознавал, что в борьбу вступила новая грозная сила – Суворов.
Тот же смысл вложила в свой отзыв императрица Екатерина: «Я послала в Польшу две силы – армию и Суворова». В Петербурге ликовали. Победитель стал предметом восхищения. Все рассказывали о его удивительных причудах. Например, в походе он не указывал часа подъема, а сам будил войска криком петуха. И эта скрытность была залогом внезапности появления перед противником. Лаконизм высказываний Суворова порождал сравнение его с великим Цезарем. Передавали его приказ дежурному офицеру Федору Матюшинскому: «В час собираться, в два отправляться, в семь-восемь быть на месте. Крепок лагерь местом. Смотреть в оба. Сарматы (так издревле называли поляков. – В. Л.) близко».
В письме Рибасу, с которым у Суворова установились особо доверительные отношения, говорилось: «Ваше Превосходительство, Господин Адмирал, читайте: пришел, увидел, победил. Живу будто во сне. Да хранит Вас Господь, друг мой сердечный!»
Ходило по рукам стихотворное письмецо Александра Васильевича дочери:
Нам дали небеса
Двадцать четыре часа.
Потачки не даю моей судьбине,
А жертвую оным моей Монархине,
И чтоб окончить вдруг,
Сплю и ем, когда досуг.
Стихи, конечно, корявые, но от них так и веет энергией.
Доносить о своих победах Суворов был обязан Румянцеву, а тот уже слал гонцов в Петербург. Но писать частные письма не возбранялось, и Александр Васильевич писал Платону Зубову, зная, что фаворит передаст его слова самой государыне: «Ваше Сиятельство имею честь поздравить с здешними победами. Рекомендую в Вашу милость моих братцев и деток – оруженосцев Великой Екатерины! толико в них прославившихся». После унылых отзывов Репнина, готовившегося к переводу войск на зимние квартиры, это звучало победным гимном и давало надежду на скорый конец войны. Екатерина пожаловала победителю алмазный бант к шляпе и три отбитые у неприятеля пушки. Посланцев, привозивших победные известия, Румянцев повышал в чине, а князя Алексея Горчакова, племянника героя, сама императрица произвела из полковников в бригадиры.
Пересылая донесения Суворова в Петербург, Румянцев кратко и точно определил возможные следствия побед. «Начало отвечает совершенно всеобщим мнениям о несравненном Суворове, – писал он 14 сентября Зубову. – Боже изволи, чтобы дальнейшие следствия, кои главнейше от содействия иных корпусов Князя Николая Васильевича (Репнина. – В. Л.) зависят, имели те же или лучшие успехи и чтобы везде совершенное согласие господствовало».