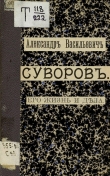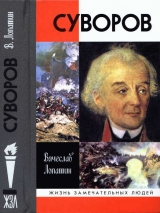
Текст книги "Суворов"
Автор книги: Вячеслав Лопатин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 37 страниц)
ВРЕМЯ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА
Пятнадцатого декабря новый император присылает Суворову милостивый рескрипт:
«Граф Александр Васильевич!
Не беспокойтесь по делу Вронского. Я велел комиссии рассмотреть, его же употребить. Что прежде было, того не воротить. Начнем сначала. Кто старое помянет, тому глаз вон, у иных и без того по одному глазу было (намек на Потемкина. – В.Л.).
Поздравляю с Новым годом и зову приехать к Москве, к коронации, естли тебе можно. Прощай, не забывай старых друзей.
Павел».
Упомянутое дело Вронского, связанное со злоупотреблениями провиантских чиновников в Варшаве, доставило Суворову много хлопот и вызвало его раздражение против Зубовых, не желавших помочь в его разрешении. Новый император сделал красивый жест. Главное заключено в приписке: «Приведи своих в мой порядок, пожалуй».
Суворов видел этот «порядок» двенадцатью годами ранее во время посещения Гатчины. Великий князь продемонстрировал ему свое воинство, одетое и вымуштрованное по прусскому образцу. И теперь этот засидевшийся в наследниках фанатичный поклонник прусской муштры, прусской формы, прусского шага предлагает ему – лучшему полководцу Европы – отказаться от всего, что было создано им вместе с Румянцевым и Потемкиным за последние четверть века!
«Нет вшивее пруссаков. Лаузер, или вшивень, назывался их плащ. В шильтгаузе (караульном помещении) и возле будки без заразы не пройдешь, а головной их вонью вам подарят обморок. Мы от гадины были чисты и первая докука ныне солдат – штиблеты: гной ногам… Карейные казармы, где ночью запираться будут, – тюрьма. Прежде [солдаты] делили провиант с обывателями, их питомцами…
Милосердие покрывает строгость, при строгости надобна милость, иначе строгость – тиранство. Я строг в удержании здоровья, истинного искусства, благонравия: милая солдатская строгость, а за сим общее братство. И во мне строгость по прихотям была бы тиранством. Гражданские доблести не заменят жестокость в войсках… Солдаты, сколько ни веселю – унылы и разводы скучны. Шаг мой уменьшен в три четверти, и тако на неприятеля вместо 40 – 30 верст…
Мою тактику прусские принимают, а старую протухлую оставляют; от сего французы их били…
Я – лутче Прусского покойного великого короля; я милостью Божиею батальи не проигрывал…
Французы заняли лучшее от нас, мы теряем: карманьольцы бьют немцев, от скуки будут бить русских, как немцев».
Это отрывки из записочек Суворова, которые он называл «мыслями вслух», из его писем Хвостову за первую половину января 1797 года. Приговор полководца однозначен: «не русские преображения!» Всем своим существом военного человека он чувствует страшную угрозу, нависшую над Отечеством: «Всемогущий Боже, даруй, чтоб зло для России не открылось прежде 100 лет, но и тогда основание к сему будет вредно».
Восьмого декабря умер Румянцев. «Ваше Сиятельство потеряли отца, а Отечество героя! – пишет потрясенный Суворов сыну фельдмаршала графу Николаю Петровичу. – Я ж равно Вам в нем отца теряю…» Теперь на его плечах лежала ответственность за судьбу русской военной школы.
В первые же дни своего царствования Павел пожаловал чин фельдмаршала Николаю Репнину, Николаю Салтыкову, Ивану Чернышеву. 15 декабря фельдмаршалом стал Иван Салтыков. 5 апреля по случаю коронации этот чин получили еще трое: Михаил Каменский, Валентин Мусин-Пушкин и Иван фон Эльмпт. 26 октября к ним прибавился престарелый эмигрант герцог Виктор Франциск Брольо, маршал Франции.
За всю историю Российской империи ничего подобного не было, если не считать столь же скоропалительных пожалований в начале недолгого царствования Петра III. За 34 года царствования Екатерины II в генерал-фельдмаршалы были пожалованы только пятеро: Петр Румянцев и Александр Суворов за выдающиеся победы, Захар Чернышев и Григорий Потемкин по должности президентов Военной коллегии, Александр Голицын за успешную кампанию 1769 года и по должности главноначальствующего в Петербурге – все, кроме Потемкина, в военное время! Но Павел Петрович превзошел своего отца – в мирные дни появились сразу восемь новых фельдмаршалов! Причем среди них были те, кого Суворов не без оснований считал своими соперниками и недоброжелателями.
«[Милость] не питает [верноподданного] заслуги, когда сей, яко каженик, теряет свои преимущества… Я Генерал Генералов. Тако не в общем генералитете. Я не пожалован (в фельдмаршалы. – В. Л.) при пароле», – делится с Хвостовым Суворов. И следует вывод: «Фельдмаршал понижается».
Цель этих скоропалительных пожалований – умалить авторитет самого популярного вождя армии, принципиального противника павловских военных реформ по прусскому образцу.
Двадцатого декабря был сделан первый выпад императора против Суворова – отмена собственного повеления о назначении его шефом Суздальского пехотного полка. Затем один за другим следуют выговоры: за посылку офицеров курьерами, за увольнение их в отпуск без разрешения императора, за аттестацию их для производства в чины.
«Сколь же строго, Государь, ты меня наказал за мою 55-летнюю прослугу! Казнен я тобою стабом (штабом. – В. Л.), властью производства, властью увольнения от службы, властью отпуска, знаменем с музыкою при приличном карауле, властью переводов. Оставил ты мне, Государь, только власть Высочайшего указа 1762 году [33]33
Имеется в виду Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству», освобождавший его от обязательной службы.
[Закрыть]», – записывает свои мысли Суворов 11 января 1797 года.
У него уже созрело решение: воспользовавшись предоставленным дворянам правом не служить, попроситься в отставку. Но он не может бросить дело всей своей жизни. Он знает, что на него смотрят тысячи глаз. Суворов подает рапорт о предоставлении ему годичного отпуска. Следует сначала отказ, затем требование немедленно отправиться в Санкт-Петербург. И тогда он подает прошение об отставке. В ответ летит приказ, отданный Павлом 6 февраля 1797 года: «Фельдмаршал граф Суворов отнесся к Его Императорскому Величеству, что так как войны нет и ему делать нечего, за подобный отзыв отставляется от службы».
Поход в Европу не состоялся. Из Северной Италии шли тревожные вести. 3—4 (14—15) января австрийцы потерпели тяжелое поражение в битве при Риволи. Вся Северная Италия была завоевана Бонапартом. Российский посол в Вене граф Андрей Кириллович Разумовский посылал Суворову газеты и другие сведения об Итальянской кампании с просьбой сообщить свое мнение. 27 февраля Суворов отвечает:
«Бонапарте концентрируется – Гофкригсрат его мудро охватывает от полюса до экватора. Славное делает раздробление, ослабевая массу.
Не только новые, но и старые войски штык не разумеют, сколько гибельный карманьольский не чувствуют. Провера пропал. Святейший и отец (римский папа. – В. Л.) в опасности. Альвинций к Тиролю, дрожу для Мантуи, ежели Эрцгерцог Карл не поспеет. Но и сему не надобно по артиллерии строиться, а бить просто вперед… О, хорошо! ежели б это при случаях внушали…»
О себе же он сообщает: «Я команду сдал. Как сельский дворянин еду в Кобринские деревни в стороне Литовского Бржеста».
Прогноз великого полководца сбывался с поразительной точностью: австрийский главнокомандующий Альвинци, посланный на помощь запертому в Мантуе фельдмаршалу Вурмзеру, был отброшен в сражении при Риволи. А через день при Фаворито корпус под командованием фельдмаршал-лейтенанта маркиза Проверы капитулировал. Вскоре сдалась крепость Мантуя, считавшаяся ключом к Северной Италии, с укрывшейся в ней армией Вурмзера. Французы вторглись в Австрию и стали угрожать Вене. 7(18) апреля было подписано Леобенское перемирие между эрцгерцогом Карлом и Бонапартом. А в октябре генерал Бонапарт вырвал у австрийцев мир, оставив за Францией созданные на территории Италии марионеточные республики.
В это время Суворов уже находился в своем белорусском имении «Кобринский Ключ», подаренном ему Екатериной II за Польскую кампанию. В сочиненной Полевым биографии полководца описано его прощание с Фанагорийским полком:
«Повинуясь воле монарха, трогательно разстался с товарищами своими Суворов. Его любимый Фанагорийский полк был выстроен на площади Тульчинской. Суворов явился перед полком в фельдмаршальском мундире, во всех орденах, обратил речь к солдатам, прощался с ними, увещевал их быть верными Государю, послушными начальникам. Потом снял он с себя ордена, положил их на барабан и воскликнул: "Прощайте, ребята, товарищи, чудо-богатыри! Оставляю здесь всё, что я заслужил с вами. Молитесь Богу! Не пропадет молитва за Богом и служба за Царем! Мы еще увидимся – мы еще будем драться вместе! Суворов явится среди вас!"
Солдаты плакали. Суворов подозвал одного из них к себе, обнял, зарыдал и побежал в свою квартиру. Почтовая тележка стояла уже готовая. Суворов сел в нее, и тройка помчалась».
Эта сцена послужила основой для прекрасного эпизода советского фильма «Суворов», снятого в самый канун Великой Отечественной войны режиссером Всеволодом Пудовкиным. До того малоизвестный артист Николай Черкасов, тезка и однофамилец знаменитого исполнителя роли Александра Невского в одноименном фильме режиссера Сергея Эйзенштейна, потряс зрителей, создав на экране мужественный и одновременно трогательный образ гениального полководца. Эпизод прощания с солдатами – один из самых волнующих в фильме.
Но муза истории Клио – упрямая дама.
«Прощания этого вовсе не было, – повествует адъютант фельдмаршала А.А. Столыпин в 1844 году. – Я один находился при Графе, когда он в 1797 году марта 1-го дня в три часа по полудни отправился из Тульчина. Это мне памятно и тем, что тогда он перекрестил меня, поцеловал в лоб и, ударив по плечу, сказал: "Бог милостив, мы еще послужим вместе!" К моему несчастию, сего не случилось. Д.Д. Мандрыка, П.Г. Тищенко, П.П. Носков и Ставраков (адъютанты Суворова. – В. Л.), бывшие уже в отставке, отправились в пять часов утра за Графом в Кобрин. Проводов никаких не бывало!»
Престарелый ветеран ошибся в дате выезда Суворова из Тульчина, поскольку лишь 3 марта Суворов отправил императору донесение: «Всемилостивейший Государь! Во ожидании увольнения на Всеподданнейшие мои прошения, которое по слуху уже и воспоследовало, отдавши давно уже команду, на сих днях еду я в Кобринские мои деревни. Вашему Императорскому Величеству, Всеподданнейше донося, повергаю себя к священнейшим стопам». Но сам рассказ не вызывает сомнений.
В конце марта Суворов был уже в Кобрине, где его нашло семейное известие, которого он ждал с тревогой и радостью: 5 марта его Наташа родила сына, названного в честь деда Александром.
«Христос воскресе, – писал он зятю. – Вы меня потешили тем, чего не имел близ семидесяти лет: читая, дрожал… Наташа, привози Графа Александра Николаевича ко мне в гости, а он пусть о том же попросит своего батюшку, твоего мущину».
А 22 апреля в Кобрин прискакал отставной коллежский асессор Юрий Николев с предписанием императора: «Ехать Вам в Кобрин или другое местопребывание Суворова да его привезть в Боровицкие его деревни, где и препоручить Вындомскому (боровичскому городничему. – В. Л.), а в случае надобности требовать помощи от всякого начальства».
На следующее утро фельдмаршала увезли, даже не позволив ему сделать распоряжений по имению. 12 мая петербургский генерал-губернатор Николай Архаров рапортовал императору о доставлении Суворова 5-го числа в Боровичи и водворении его в купленном еще его отцом селе Кончанском, расположенном в лесной глуши на границе Новгородской и Тверской губерний.
КОНЧАНСКАЯ ССЫЛКА
Ссылка длилась почти два года. Николев доносил о каждом шаге Суворова. Тому было запрещено ездить в гости к соседям. Появлявшихся в округе офицеров арестовывали и доставляли в Петербург на допрос к Павлу. Правда, верные своему командиру офицеры тайком прорывались в Кончанское и привозили важные вести. Сподвижник Суворова по Польской кампании полковник Степан Александрович Талызин в 1814 году признавался сыну: «Суворов был мой благодетель. Ты сие знаешь. Когда его сослали в ссылку к своим поместьям, при сем положении всеми был оставлен и брошен. Но я от него не отставал и съездил в его деревню переодетым слугою, рискуя, если бы сие узнали, то не миновать бы мне Сибири».
Надзор за опальным фельдмаршалом был предельно строгим. На запрос новгородского гражданского губернатора Митусова – «можно ли Графу ездить в гости?» – последовал ответ генерал-прокурора князя Алексея Куракина: «Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволил: разъезды по гостям Графу Суворову запретить». Сам повелитель огромной державы потребовал от Митусова: «Имейте смотрение, чтобы исключенные из службы майоры Антинг и Грессер и ротмистр Четвертинский и подобные им [из] свиты Суворова не имели никакого сношения и свидания с живущим в Новгородской губернии бывшим Фельдмаршалом Графом Суворовым».
Утешением для Александра Васильевича стали вести от дочери. 13 июня она писала из Москвы в Кончанское:
«Милостивый Государь батюшка!
Всё, что скажет сердце мое, – это молить Всевышнего о продлении дней Ваших при спокойствии душевном. Мы здоровы с братом и сыном. Просим благословения Вашего. Необходимое для Вас послано при записке к Прохору. Желание мое непременно скорее Вас видеть. О сем Бога прошу – нашего покровителя. Целуем ручки Ваши. Остаюсь навсегда покорная ваша дочь
Графиня Наталья Зубова».
Муж «Суворочки» первым известил в Гатчине наследника престола Павла Петровича о смертельной болезни его матери-императрицы, за что был пожалован в кавалеры ордена Святого Андрея Первозванного. Но вскоре он был отставлен и выслан из Петербурга. Наталья Александровна выполнила обещание и посетила отца в новгородской глуши, взяв с собой новорожденного сына Александра и брата Аркадия, которому вот-вот должно было исполниться 13 лет.
Мы помним, что Суворов не получил развода. Аркадия он никогда не видал и даже не считал его своим сыном. То ли графиня Варвара Ивановна посоветовала дочери показать брата отцу, то ли сама графиня Наталья Александровна решилась на это, но ход был, несомненно, удачным.
Верный Прохор Дубасов в письме Хвостову сравнивал положение своего барина с гонениями римлян на Кориолана, героя шекспировской трагедии, прибавляя: «Судите же мучительство судьбы и невинности его. Чем ему ехать в Петербург, лучше бы отпустили в чужие края».
Тяжело переживавший опалу Суворов впервые увидел красивого белокурого живого мальчика, всем сердцем привязался к нему и сразу же погрузился в заботы о его воспитании и обучении. Аркадий поселился в Петербурге у Хвостова, которому Суворов писал: «Должен я прибегнуть к дружбе Вашей. При выезде Наташи из Санкт-Петербурга прошу Вашего Превосходительства принять Аркадия на Ваши руки и как мой ближний содержать его так, как пред сим реченную его сестру содержали, соблюдая его благочестие, благонравие и доблесть».
Самому Аркадию последовали внушения: «Будь благонравен, последуй моим советам, будь почтителен к Дмитрию Ивановичу, употребляй праздное время к просвещению себя в добродетелях. Господь Бог с тобою!»
Суворов нанял для сына учителей. Но эти заботы не в силах были умерить его страданий. Боровичский городничий А.Л. Вындомский (человек благородный, отказавшийся принять на себя роль надсмотрщика за Суворовым) доносил 21 июля в Петербург:
«Господин Фельдмаршал Суворов на сих днях в слабом здоровье и весьма скучает, что состоящий дом в селе Кончанском весьма ветх и не только в зиму, но и осень пережить в слабом его здоровье вовсе нельзя, и желает переехать в сорока пяти верстах состоящее свойственницы его Ольги Александровны Жеребцовой (сестры четырех братьев Зубовых) село Ровное.
Приехавшего в свите Графини Натальи Александровны Зубовой майора Сиона Его Сиятельство отправил в польские его деревни для получения всех бриллиантовых вещей, там хранящихся у подполковника Корицкого; и как таковых вещей по цене может быть с лишком на триста тысяч рублей, то по привозе сюда – иметь ли мне в своем смотрении и где хранить оные, ибо при жизни Его Сиятельства в Кончанске, как в самом опасном месте, крайне опасно».
Ответ императора был краток: «Дозволить Графу Суворову переехать в село Ровное и бриллиантовые вещи ему оставить при себе; но при том надлежащее наблюдение иметь как за образом его жизни, так равно и за поведением».
По повелению Павла был дан ход «делам», связанным с денежными расчетами периода Польской кампании. В нарушение закона Суворову вменили «иски» на огромную сумму – 150 тысяч рублей, пытаясь добиться покорности самого авторитетного военного деятеля России.
Борьба Суворова против опруссачивания армии вызывала горячее сочувствие в обществе. Державин в послании «На возвращение графа Зубова из Персии» прямо указал на пример Суворова, мужественно переносящего опалу и ссылку:
Смотри, как в ясный день, как в буре,
Суворов тверд, велик всегда!
Ступай за ним! – небес в лазуре
Еще горит его звезда.
Современники отметили роль Репнина, самого близкого сподвижника императора в перестройке армии на прусский лад, в гонениях на Суворова. «Репнин, – читаем в «Записках» крупного чиновника, барона Карла фон Гейкинга, – всегда старался унизить достоинства Суворова, не любимого Павлом и отставленного от службы за то, что осмелился выразить мнение, будто можно выигрывать сражения, не обременяя солдат крагами, косою и пудрою… Репнин же увлекся в отношении к этому известному генералу до таких низостей, что мне и говорить о них не хочется».
Новая неудобная форма и суровая муштра вызывали протест в армейских кругах. Странно, что Радищеву и Новикову посвящены сотни публикаций, а попытка суворовских офицеров выступить против антинациональной политики Павла оказалась практически вне поля зрения отечественных историков. Редчайшее исключение представляет обстоятельное исследование Т.Г. Снытко, затерявшееся среди журнальных публикаций 1950-х годов. На основании сохранившихся материалов секретного расследования об офицерском заговоре исследовательница показала, что уже в начале 1797 года полковник Александр Михайлович Каховский, герой Очакова и Праги, пользовавшийся большим доверием Суворова, предложил ему поднять армию против засевших в Петербурге гатчинцев. «Государь хочет всё по-прусски в России учредить и даже переменить закон», – приводит слова Каховского арестованный и допрошенный капитан Василий Степанович Кряжев. Патриотически настроенные офицеры считали, что надо, «восстав против государя, идти далее… на Петербург».
По свидетельству другого участника заговора, будущего героя Отечественной войны 1812 года Алексея Петровича Ермолова, единоутробного брата Каховского, тот «однажды, говоря об императоре Павле, сказал Суворову: "Удивляюсь вам, граф, как вы, боготворимый войсками, имея такое влияние на умы русских, в то время как близ вас находится столько войск, соглашаетесь повиноваться Павлу?"». Суворов подпрыгнул и перекрестил рот Каховскому. «Молчи, молчи, – сказал он, – не могу Кровь сограждан!» Великий полководец и гражданин не мог пойти на братоубийственную войну, не мог увести армию с юга и отдать туркам всё, ради чего воевали поколения русских людей.
Но своего любимца фельдмаршал не выдал. Каховский же создал некое подобие тайной организации, имевшей ответвления в Смоленске, Дорогобуже и некоторых воинских частях. Заговор был разгромлен в 1798 году. Многие офицеры оказались в ссылке, а более двадцати наиболее активных участников заговора, в том числе Каховский и Кряжев, были лишены чинов и дворянства и заточены бессрочно по разным крепостям, откуда были выпущены по амнистии после воцарения Александра I.
Еще до раскрытия и разгрома офицерской организации Каховского император был сильно испуган, когда ему сообщили, что вслед за уволенным из армии и направившимся в Кобрин фельдмаршалом Суворовым отправились почти два десятка офицеров его штаба, вышедших в отставку, между которыми он хотел разделить свое огромное имение. Суворов был спешно отвезен в затерянное в новгородских лесах село Кончанское, а его бывшие подчиненные оказались арестантами.
Вот как позднее вспоминал об этих событиях известный мемуарист пушкинского времени Филипп Вигель:
«Великий Суворов, Оден [34]34
Имеется в виду Один – верховное божество германо-скандинавской мифологии, бог войны и победы, хозяин Вальгаллы – небесного чертога для павших воинов, повелитель дев-валькирий.
[Закрыть]русского воинства, вдруг был отставлен, как простой офицер, и послан жить в деревню.
Не знаю, насильственная смерть Герцога Энгиенского (схваченного по приказу первого консула Наполеона Бонапарта на чужой территории и расстрелянного без суда. – В. Л.) произвела ли во Франции между роялистами тот ужас, коим сие известие поразило всю Россию. Она содрогнулась. Сим ударом, нанесенным национальной чести, властелин хотел как будто показать, что ни заслуги, ни добродетели, ниже сама слава не могут спасти от его гнева, справедливого или несправедливого, коль скоро к возбуждению его подан малейший сигнал.
Сим не довольствуясь, по какому-то неосновательному подозрению он велел схватить всех адъютантов его, всю многочисленную его свиту посадить в Киевской крепости. И бедный отец мой осужден был стеречь сподвижников великого Суворова».
За четыре с половиной года царствования Павла, которое современники сравнивали с якобинским террором, были уволены или отставлены, выкинуты со службы 333 генерала и 2261 офицер – притом что тогдашняя численность русской армии не превышала 390 тысяч человек. Это был разгром офицерского корпуса, имевшего бесценный боевой опыт.
«Я из вас потемкинский дух вышибу!» – кричал император. И вышибал – жестокой муштрой, палочной дисциплиной, парадоманией, изнурением солдат. Суворов выступил против гатчинских преобразований, потому что потемкинский дух был и его, суворовским духом – русским духом армии. По всей стране и за ее пределами разнеслись стихи Суворова, разившие гатчинцев, словно картечь:
Пудра не порох,
Букли не пушка,
Коса не тесак,
Я не немец, а природный русак!
В длинном списке выигранных Суворовым баталий нет Кончанского. Но здесь он одержал одну из самых выдающихся побед – нравственную победу над силами разрушения. Не Суворов, а Павел был вынужден уступить. Напуганный широкой оппозицией всех слоев общества, он уже в феврале 1798 года распорядился снять надзор за опальным фельдмаршалом и пригласил его в столицу.
Четырнадцатого февраля флигель-адъютант императора и племянник Суворова князь Андрей Иванович Горчаков прибыл в Кончанское с повелением Павла о немедленном приезде фельдмаршала в Петербург. Он же привез и распоряжение генерал-прокурора Куракина пять месяцев сторожившему опального фельдмаршала Юрию Николеву, чтобы тот «возвратился в дом свой». В 1855 году Д.А. Милютин, трудившийся над многотомной историей кампании 1799 года, записал рассказ Горчакова:
«Суворов не только не обрадовался полученному от Государя приглашению, но даже отказывался ехать в Петербург, отговариваясь старостию и плохим здоровьем; лишь после долгих и настоятельных убеждений… старик согласился отправиться в путь, поручив однако же своему племяннику доложить Государю, что он не может иначе ехать, как проселочными дорогами и на своих лошадях…
Император столь нетерпеливо ожидал свидания с Суворовым, что по нескольку раз в день присылал спросить у князя Горчакова: скоро ли прибудет его дядя?
Но старик не торопился; он ехал, как говорится, "на долгих"… Наконец, после нескольких дней ожидания, кибитка кончанского помещика остановилась у петербургской заставы. Здесь встретил его князь Горчаков, и хотя время было уже позднее, однако же, исполняя в точности Государево повеление, он прямо поехал с донесением во дворец, между тем как Суворов отправился в квартиру своего племянника графа Д.И. Хвостова.
Император имел обыкновение в 10 часов вечера удаляться в свою спальню, раздевался и тогда уже не принимал никого. Однако же на сей раз, в виде особенной милости, князь Горчаков был допущен в спальню Государеву и получил приказание объявить Суворову, что Его Величество немедленно же принял бы его, если б не было так поздно. Прием был назначен на другой же день утром, тотчас по возвращении Императора с обычной прогулки. Князь Горчаков, предваренный дядею, спросил, в какой форме повелено будет графу представиться, так как он отставлен без мундира [35]35
Как правило, отставник сохранял право ношения мундира. Отставка «без мундира» была признаком немилости.
[Закрыть]. «В таком мундире, какой вы носите», – отвечал Государь, т. е. в общем армейском.
Мундир племянника пришелся почти впору старому дяде; нашили звезды, кресты, и на следующее утро, в 9-м часу, отправился Суворов во дворец вместе с князем Горчаковым. Ожидая в приемной комнате возвращения Государя с прогулки, Суворов успел, по старому своему обычаю, подшутить над несколькими из бывших тут придворных и, между прочим, заговорил с графом Кутайсовым (любимцем императора) по-турецки.
Около 9 с половиной часов Император подъехал верхом к Зимнему дворцу и немедленно же Суворов был приглашен в кабинет. Он оставался там глаз на глаз с Государем более часа; в первый раз случилось, к крайнему удивлению всех остававшихся в приемной комнате, что Император опоздал даже к разводу, который обыкновенно начинался ровно в 10 часов. К разводу приглашен был и Фельдмаршал; в угождение ему Государь делал баталиону учение, водил его в штыки скорым шагом и проч. Но Суворов явно показывал невнимание: то отворачивался от проходивших взводов, то шутил над окружавшими, то подходил к князю Горчакову, говоря ему: "Нет, не могу более, уеду".
Князь Горчаков убеждал своего причудливого дядю, что уехать с развода прежде Государя неприлично; но старик был упрям. "Нет, я болен, – сказал он, – не могу больше", – и уехал, не дождавшись конца развода.
Государь не мог не заметить странных поступков Суворова и после развода, призвав к себе князя Горчакова в кабинет, сурово спросил его, что значит всё это.
Молодой князь Горчаков, крайне смущенный, старался сказать что мог в извинение своего дяди. Но Император, прервав его с заметным волнением, начал подробно припоминать свой продолжительный разговор с Суворовым.
"Я говорю ему о заслугах, которые он может оказать отечеству и Мне; веду речь к тому, чтоб он сам попросился на службу. А он вместо того кинется в Измаил и начинает длинно рассказывать штурм. Я слушаю, слушаю, пока не кончит, потом снова завожу разговор на свое; вместо того, гляжу, мы очутились в Праге или в Очакове".
Потом Государь говорил с некоторым удивлением о поведении Суворова на разводе и, наконец, сказал князю Горчакову: "Извольте же, сударь, ехать к нему; спросите у него самого объяснения его действий и как можно скорее привезите ответ; до тех пор я за стол не сяду".
Князь Горчаков поспешил к своему дяде и передал ему слова Государя; он нашел Суворова в прежнем раздраженном расположении: "Инспектором я был в генерал-майорском чине, – говорил он, – а теперь уже поздно опять идти в инспекторы. Пусть сделают меня главнокомандующим да дадут мне прежний мой штаб, да развяжут мне руки, чтобы я мог производить в чины, не спрашивался… Тогда, пожалуй, пойду на службу. А не то – лучше назад в деревню; я стар и дряхл, хочу в монахи!" – и прочее, и прочее в том же роде.
Князь Горчаков возражал, что не может передать таких речей Государю. "Ну, ты передавай, что хочешь, а я от своего не отступлюсь"…
Было уже далеко за полдень, а ровно в час Государь обыкновенно садился за обед. Князь Горчаков поспешно возвратился во дворец в совершенном недоумении, как доложить Императору. Он решился сказать для оправдания своего дяди, будто он был слишком смущен в присутствии Государя и что крайне сожалеет о своей неловкости; что в другой раз он, без сомнения, будет уже говорить иначе и с радостию воспользуется Царскою милостию, если Его Величеству угодно будет принять его в службу. Выслушав это объяснение, Государь сказал строго князю Горчакову: "Хорошо, сударь, я поручаю вам вразумить вашего дядю; вы будете отвечать за него!"
После того Император не раз приглашал Суворова к столу своему; видел его на разводе и вообще обращался с ним милостиво; однако же старик не просился в службу, и когда разговор касался слишком близко этого предмета, то Суворов начинал обыкновенно жаловаться на свои лета и слабость здоровья. Князь Горчаков по-прежнему служил посредником между Царем и полководцем – и часто был поставляем в самое затруднительное положение странными поступками своего дяди. В присутствии Государя Суворов искал всякого случая, чтобы подшутить над установленными новыми правилами службы и формами: то усаживался в целые четверть часа в карету, показывая, будто никак не может справиться с торчащею сзади шпагою; то на разводе прикидывался, будто не умеет снять шляпу, и, долго хватая за нее то одною рукою, то другою, кончал тем, что ронял шляпу к ногам самого Государя. Иногда же нарочно перебегал и суетился между проходившими церемониальным маршем взводами, что было строжайше запрещено и считалось непростительным нарушением порядка в строю. При этом шептал он молитвы и крестился, и когда раз Государь спросил его, что это значит, то Суворов отвечал: "Читаю молитву, Государь: да будет воля Твоя".
Каждый раз после подобной проделки Павел I обращался к князю Горчакову и требовал от него объяснений. Тот должен был ездить к Суворову и привозить Государю ответы своего собственного вымысла, ибо никогда не мог он передать те речи, которые в самом деле слышал от дяди.
Так прожил Суворов в Петербурге около трех недель. Необыкновенная снисходительность и милость Императора не смягчили упорства старого Фельдмаршала, который всегда под разными предлогами отклонял разговор о поступлении снова на службу. Наконец, однажды в разговоре с Государем Суворов прямо попросил, чтобы его отпустили в деревню на отдых. Павел I с видимым неудовольствием ответил, что не может его удерживать против воли. Тогда Суворов подошел к руке Императора, откланялся и в тот же день уехал из Петербурга в свою деревню».
Перед нами потрясающая психологическая дуэль. Суворов знал, как скор был на расправу Павел даже со своими любимцами. Тот же Репнин в конце 1798 года по возвращении из Пруссии после сложных дипломатических переговоров, окончившихся неудачей, был отставлен с повелением не появляться в столице. Можно только поражаться силе духа великого воина, открыто осуждавшего никчемные военные забавы императора. Старый фельдмаршал смело требовал восстановления отнятых у него прав, без которых немыслима настоящая, а не показная жизнь армии. Не получив ответа, он демонстративно возвратился в Кончанское. Поединок с императором завершился вничью.
Конечно, Суворов томился без настоящего дела. Как-то в письме Хвостову он выразил самую суть своего существования: «Я привык быть действующим непрестанно, тем и питается мой дух!»
Правнук священника отца Феодора Попова из соседнего с Кончанским села Сопина сохранил семейное предание: