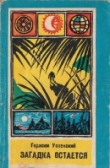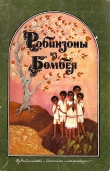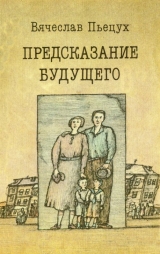
Текст книги "Предсказание будущего"
Автор книги: Вячеслав Пьецух
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Глава XI
1Суда Владимир Иванович действительно не миновал, но и я отделался не так легко, как рассчитывал. Очень скоро к нам в школу пришел из милиции документ, который у нас почему-то называют «телегой». Несмотря на то, что этот документ всего-навсего констатировал голые факты, де такой-то работник вашего учреждения был задержан при таких-то и таких-то обстоятельствах, он имел поворотное значение для моей биографии, поскольку в нем упоминались Письмописцев и Карамзина, а это должно было неминуемо повлечь за собой антипедагогическое расследование. Я вынужден был уйти, так как в ходе этого расследования моя учительская репутация определенно бы пострадала; между тем учитель с подмоченной репутацией, даже с безвинно подмоченной репутацией, явление до такой степени невозможное, как, положим, Наполеон с репутацией клептомана. То есть, можно сказать, что уходил я из педагогических соображений, из тех же, что прежде не уходил.
Вскоре после того, как в школу поступила «телега», я явился к Валентине Александровне в кабинет и положил ей на стол заявление об уходе. Она, бедняга, до того обрадовалась, что если можно было бы вынести мне благодарность приказом или наградить каким-нибудь памятным подарком, она бы не преминула это сделать. Затем я поднялся в свой класс забрать кое-какие бумаги, затем зашел попрощаться с учительской и уже одетым натолкнулся в вестибюле на Письмописцева и Наташу Карамзину. Они меня сначала не углядели, потому что Наташа стояла ко мне спиной, а Письмописцев был слишком занят какими-то своими речами, но в следующее мгновение их что-то толкнуло, и они разом уставились на меня. Что мне почудилось в этих взглядах… – пожалуй, ничего хорошего не почудилось. И тут меня посетило еще одно пророчество, которое, я думаю, сбудется так же неизбежно, как и пророчество 13 февраля: я предсказал, что через три с половиной года Наташа Карамзина превратится в Наталью Письмописцеву, и, таким образом, будет восстановлена справедливость; они проживут жизнь несчастливо, но, как говорится, – до гробовой доски.
Вообще начиная с 13 февраля предсказания посыпались из меня, как из рога изобилия, и что бы я ни предрек, все совершалось по-моему, так что скоро я серьезно заподозрил в себе всамделешнего пророка. Например, по дороге домой я предсказал, что, поскольку мне не удастся совершенно погасить на лице освобожденное выражение, жена встретит меня вопросом: «Что-то произошло?» И действительно: только я вошел в дом, как жена внимательно посмотрела мне в глаза и спросила:
– Что-то произошло?
– Ничего особенного, голубка, – соврал я, так как во мне еще загодя созрело решение до поры до времени не разглашать того обстоятельства, что я теперь нахожусь в статусе свободного человека.
У этого решения было очень серьезное основание: дело в том, что еще в отделении милиции, в то время как я сочинял объяснительную записку, я себе предсказал, что при условии восемнадцатичасового рабочего дня я довольно быстро напишу свою художественную вещь; но обеспечить себе восемнадцатичасовой рабочий день я мог только в том случае, если бы каждое утро под видом хождения в школу забирался бы в какой-нибудь уголок, где никто не мешал бы мне делать дело.
С этим уголком я прямо намучился. На другой день после увольнения из школы я прихватил с собой стопку писчей бумаги и принялся исследовать наши окрестности в поисках укромного уголка. Ничего подходящего не находилось: я пробовал писать в сквере – там было холодно, пробовал в маленьком кафе – там было людно. Только спустя часа два мытарств я наткнулся на ветхий пятиэтажный дом, предназначенный к сносу, и, войдя в подъезд, обнаружил, что в нем еще, как это ни странно, топят – топят, негодяи, несмотря на то, что окна были частью выставлены, а частью выбиты хулиганами. Таким образом, я напал на вполне пригодное помещение, которое соединяло в себе два первостатейных достоинства; в нем было относительно тепло и абсолютно безлюдно.
В течение нескольких дней я приходил сюда по утрам, поднимался на третий этаж, садился на подоконник и что-то около половины девятого уже начинал писать. С самого начала дело у меня пошло живо, хотя и не без некоторых затруднений. Кажется, на второй день работы я вдруг призадумался над одним сложным местом, потом перекинулся на постороннее и продумал до первых сумерек; я испугался, прикинув, что если я и впредь буду так задумываться, то я свою вещь до второго пришествия не напишу, но тут я вспомнил о миниатюрных портретах Чехова и Толстого и на другой день, прихватив их с собой, расставил на подоконнике – вот ведь какая штука: я больше не отвлекался.
В общей сложности я прописал в обреченном доме неделю, ежедневно возвращаясь домой к тому времени, когда я обыкновенно являлся из школы, и, наскоро пообедав, продолжал писание попеременно на кухне и в ванной комнате. Я до такой степени аккуратно соблюдал прежний режим, что домашние ничего не заподозрили, и с их стороны помех не было никаких. Но затем последовал суточный перерыв, так как вскоре состоялся суд над Владимиром Ивановичем, на который меня вызвали в качестве свидетеля обвинения. Суд состоялся в последних февральских числах, на редкость противным днем: было пасмурно, зябко, в воздухе висела мельчайшая изморось, которая навевала мне такое ощущение, точно я с головой погрузился в воду, точно жизнь совершается на дне огромного водоема, и даже звуки в тот день насилу распространялись, а прохожие надвигались тенями, как водяные.
В двухэтажный особняк на улице Чехова, где тогда помещался народный суд, я пришел несколько раньше срока. Выкурив в уборной две сигареты и походив по коридору туда-сюда, я примостился у окошка и стал дожидаться начала судебного разбирательства. Поблизости от меня беседовали два старичка; это были те самые старички, которые начали со Штарке и Фейербаха, а закончили предсказанием Владимиру Ивановичу оправдательного вердикта. Я слушал их, приятно удивлялся тому, какие это забавные старички, а на дворе собирались гадкие февральские сумерки. Но вот в дальнем конце коридора показался Владимир Иванович, конвоируемый милиционером, и вслед за этим меня позвали на свидетельскую перекличку.
Ровно в шестнадцать часов открылось судебное заседание, на котором из публики присутствовали только два разговорчивых старичка и Ольга Иова, которую я увидел только тогда, когда меня вызвали для дачи свидетельских показаний. Судья оказалась милой молодой женщиной, похожей на кого угодно, только не на судью. Заседателями были: крупный мужчина из тех, кого прежде называли молотобойцами, и противная пожилая дама, подслеповатая, с мышиной физиономией. Судебную процедуру я описывать не намерен и сразу скажу, что Владимиру Ивановичу инкриминировали хулиганские действия, что в качестве пострадавшей стороны выступал тот самый мужик, который в день катастрофы явился с красной повязкой на рукаве.
Судебное разбирательство примерно полчаса шло своим чередом, когда наконец назвали меня: я нервной походкой проследовал к маленькой кафедре, положил на нее руки, кашлянул и сказал:
– Товарищ судья, товарищи народные заседатели! Жизнь прожить – не поле перейти…
– Послушайте, – сказала судья, – вы это о чем?
Я, конечно, смешался.
– Давайте будем отвечать на вопросы, – сказала судья и стала задавать такие наивные вопросы, что мне было совестно отвечать.
Когда вопросы ко мне были исчерпаны, я таки изловчился и исполнил свой долг перед Владимиром Ивановичем, надеясь хоть отчасти загладить свою давешнюю вину.
– В заключение я позволю себе сделать маленькое заявление, – сказал я. – Жизнь прожить, не поле перейти. Я начинаю старинной русской пословицей потому, что эта кроткая попытка объяснить жизнь показывает нам глубочайшее и, так сказать, всенародное непонимание того, что же такое жизнь. Оказывается, это настолько топкая тайна, несмотря на миллиарды прожитых жизней, что народная мудрость пасует перед ней, как перед теорией относительности. Но жить, как говорится, надо, и мы живем; мы проживаем наши жизни, в конечном счете не зная, зачем мы это делаем, – но: раз надо, то надо…
– К чему это вы? – перебила меня заседатель с мышиной физиономией.
– К тому, что наше бытие есть сплошная непознанность, неизреченность. И тут сразу возникает один вопрос, который имеет непосредственное отношение к сегодняшнему процессу: разве, совершая суд над Владимиром Ивановичем Иовым, мы не совершаем его над жизнью, разве приговор, вынесенный ему, не будет, во всяком случае, частным определением бытию? Поскольку ответ на этот вопрос напрашивается все-таки положительный, то подсудимого следует оправдать, ибо в известном смысле он прожил, если так можно выразиться, обыкновенную необыкновенную жизнь, настолько насыщенную страданием и перипетиями неблагоприятного свойства, что ему уже не причитается ничего, он от матушки-России все получил сполна. Детство подсудимого пало на годы революции и гражданской войны: он был свидетелем разгула бандитизма, оккупации Украины германской армией и переворота, приведшего к власти Симона Петлюру, он ехал в одном вагоне с деникинскими офицерами и ел столярный клей в голодном Саратове; а его детство завершается попыткой к самоубийству. В отроческие годы, получив по теперешним понятиям весьма скромное образование, подсудимый рано начал трудовую жизнь: он был учеником парикмахера, участвовал в строительстве Магнитогорска, а затем в течение многих десятилетий готовил к трудовому поприщу подрастающие поколения советских людей. В годы Великой Отечественной войны подсудимый участвовал в сражении под Москвой, в летнем наступлении наших войск на центральном направлении в сорок втором году, в ходе которого он попал я плен, где, несмотря на тяжкие испытания, всегда поступал так, как подобает русскому солдату и гражданину социалистического Отечества. В послевоенные годы он вел трудовое обучение в средней школе.
Такова в самом кратком очерке жизнь подсудимого Иова, которая имеет общенародное звучание, поскольку в ней, как в капле воды, отразились все исторические драмы, через которые прошло наше отечество в новейшие времена. Мало этого: жизнь подсудимого Иова еще и потому имеет общенародное звучание, что сквозь нее проглядывает торжественная физиономия нашего будущего, о котором я скажу как в своем роде специалист: какое-то симфоническое это будущее, товарищи, не прекрасное даже, потому что «прекрасное», в сущности, пустой звук, а именно какое-то симфоническое, то есть величественное и одновременно утонченное, стройное, как почти все первые концерты для фортепьяно с оркестром.
– С чего это вы взяли? – спросила меня судья.
– Как с чего! – удивился я. – Общаюсь, слушаю, наблюдаю…
Судья пожала плечами:
– А вот у меня другое складывается впечатление: чем дальше, тем все хуже и хуже.
– Это все из-за «двояко», – ответил я. – Есть, видите ли, такая новая философская категория – «двояко», в силу которой все до скончания века будет одновременно и стрижено и брито, и бело и черно, и замечательно и отвратно; вот возьмем интимную близость между мужчиной и женщиной – ведь какая волшебная вещь, по это только одна сторона медали…
– Ну, не знаю, – сказала судья и уперлась ладонью в щеку.
– А я знаю! – заявил я. – Поскольку наш народ стойко чает то самое будущее, о котором мы талдычим вот уже шестьдесят с лишним лет и которое мы, по чести говоря, давно притомились ждать, то пришествие его неизбежно. Позволю себе провести одну историческую параллель: из истории нам известно, что в особенно светлых случаях сначала нужно некоторое время побыть плотником и пройти через крестные муки, прежде чем поселиться на небесах. Так что еще одно-другое контрольное испытание, фигурально выражаясь, и мы в долине сказочных превращений.
Закончив, я слегка поклонился и прошел в зал. Дальнейший ход судебного заседания описывать не имеет смысла, скажу только, что предсказание сторонника Штарке полностью оправдалось: Владимиру Ивановичу дали десять суток, но так как девять из них он уже отсидел и полсуток судился, то ему предстояло досидеть в изоляторе до утра.
При выходе из здания суда меня ждала Оля Иова. Мы поздоровались, и Оля сказала, по обыкновению начав теребить перчатку:
– Все это, конечно, ужасно глупо.
– Что именно глупо? – спросил равнодушно я.
– То, что все получилось из-за меня.
– Да что вы, Оля, голубушка, при чем тут вы? Вы тут решительно ни при чем. Все это гораздо сложнее, и вообще виноваты не вы, а я, точнее, во всем виновато предсказание будущего.
– Я что-то не пойму: как это – предсказание будущего?..
– Вы этого, Оля, ни в коем случае не поймете; не потому, разумеется, что вы не умны, а потому, что, кроме меня, никто этого не поймет.
Тут со мной что-то произошло; едва я проговорил эти слова, во мне мелькнуло нечто озаряющее, молниеподобное, вдруг осчастливившее меня до такой степени, что я раскрыл глаза испуганно-широко.
– Что с вами? – тихо спросила Ольга и побледнела.
– Ничего. Мне вдруг стало очень хорошо, извините за откровенность. Знаете, Оля, через три дня, ровно через три дня, мне будет известно все. Вы только не пугайтесь, это не припадок какой-нибудь, просто мне сейчас невыносимо хорошо оттого, что через три дня мне будет известно все.
Ольга кивнула.
– И тогда я буду все на свете в состоянии объяснить. Знаете, Ольга, вы, наверное, единственный человек, для которого я захочу это сделать.
– Откровенность за откровенность, – сказала Оля. – Если хотите знать, до сегодняшнего дня я к вам просто с симпатией относилась. Но ваша речь на суде меня потрясла; честно говоря, я почти ничего не поняла, но она меня потрясла. Я прямо голову из-за вас потеряла. У меня даже сердце заболело, так заболело, что я приняла таблетку нитроглицерина. Согласитесь, это полный вперед – лечиться от любви нитроглицерином?
Я улыбнулся и по возможности любовно на нее посмотрел.
– А вот этого не нужно, – сказала она. – Вообще вы не беспокойтесь; к тому, что со мной сейчас происходит, вы не имеете никакого отношения – это мое. Если вы ко мне неравнодушны, вы меня грабите среди бела дня, потому что это – только мое.
– Успокойтесь, Оля, я к вам совершенно равнодушен. То есть я не могу быть к вам равнодушным, потому что я теперь, кажется, люблю всех, как себя, но в общеупотребительном смысле слова я, к сожалению, равнодушен.
– Но, я надеюсь, это не помешает вам выполнить одну мою просьбу?
– Все, что угодно, Оля, хоть с крыши спрыгну.
– Ну и чудненько.
– А что за просьба? Извините, Оля, я любопытен, как общительная старушка.
– Вот пойдемте ко мне чай пить, тогда скажу.
Я, разумеется, согласился, и минут через двадцать мы уже были у Оли дома, то есть на месте преступления, и пили китайский чай.
– Ну, так что за просьба? – спросил я после первой чашки.
Ольга смешалась.
– Видите ли, я хочу завести ребенка, – сказала она, растягивая слова, – и я хочу, чтобы отцом этого ребенка были вы.
Вероятно, у меня на лице появилось нелепое выражение, потому что Оля вдруг весело рассмеялась.
– Не волнуйтесь, – сказала она, смеясь, – отцом вы будете чисто физиологическим.
– Я что, – пробормотал я, – я пожалуйста… ничего не имею против.
– Понимаете, это, наверное, выход из положения.
Наверное, это то самое гуманистическое дело, о котором говорил Саша.
– Я что, – повторял я, – я пожалуйста… ничего не имею против.
– Значит, договорились?
Я кивнул и внутренне улыбнулся, так как мне показалось весьма забавным, что вот можно произнести речь на суде и в результате этого стать отцом.
Оля поднялась из-за стола, подошла к окну и стала занавешивать шторы. Я обмер. Я никак не предполагал, что это должно будет произойти прямо сейчас, безо всякого ритуала… Вообще я нормальный, здоровый мужчина, но вот так просто взять и… ну, понятно, что я имею в виду, я был решительно не готов. Между тем Оля, покончив с окном, присела на край дивана и одним изящным движением скинула с себя свитер.
– Погодите, Оля, – сказал я и отвел глаза. – Я это… я не могу. Извините меня, но я действительно не могу. Не в том смысле, что не могу, а в том смысле, что… не могу.
– В таких вещах женщинам отказывать не годится, – сказала Ольга, и в ее голосе я услышал болезненную улыбку.
– Ну, не могу, хоть зарежьте! – сказал я. – А впрочем… может быть, у вас найдется что-нибудь выпить?
Я потому пошел на попятную, что мне все-таки лестно было бы продолжить род Новых, поработать на будущее непосредственно, хотя и отчасти литературно.
Ольга отрицательно помотала головой и стала медленно надевать свитер. Потом она ушла в кухню, и минут десять я не слышал от нее ни единого слова. Наконец до меня донеслось:
– Сходите купите шампанского. У вас есть деньги?
– Есть… – сказал я, хотя денег у меня не было ни гроша.
– Тогда сходите и купите шампанского.
Я оделся и, выйдя на улицу, стал раздумывать, где бы подзанять денег. Я перебрал в голове несколько вариантов, но все было не то: или далеко или наверное не дадут. И вдруг меня посещает следующее удивительное пророчество: я предсказал, что, выйдя со двора и повернув направо, я почти тут же наткнусь на оброненную пятерку; я даже увидел эту пятерку: она была сложена вчетверо и валялась на решетке водостока, чуть присыпанная снежком. Это, конечно, мистика, но пятерка меня действительно дожидалась.
Я купил в продовольственном магазине бутылку шампанского и с тяжелым чувством пошел назад. Из-за того, что это чувство отдавало предчувствием, я старался всячески заглушить предсказательную струну, но она строптиво резонировала несчастье. Ну конечно: дверь в квартиру была приоткрыта.
Раздевшись, я вошел в комнату и первым делом увидел на столе горку коробочек от лекарств, где, кажется, было все – от этазола до тазепама. Ольга лежала на полу, неестественно подвернув голову с приоткрытым ртом и обняв правой рукой ножку стола. Я бросился к ней: пульс, слава богу, был, дыхание тоже было. Сделав все то, на что я способен, если принять в расчет мои убогие познания в медицине, а именно, облив Олю водой, я вызвал «Скорую помощь» и сел дожидаться ее прибытия.
«Скорая помощь» явилась необыкновенно скоро – минут через двадцать пять. Три молодые женщины поколдовали над Олей, поколдовали, а потом сели писать бумаги.
– Ну как? – спросил я.
– Ничего, – ответила мне одна из врачих, мужественная блондинка. – Ничего, оклемается…
– Ну, слава богу, – проговорил я.
– Вы часом не знаете, – спросила она, – у пострадавшей в роду что-нибудь подобное уже было?
– Знаю, – ответил я. – Ее отец в двадцать шестом, кажется, году травился чернилами.
– Тогда безусловно ставим на учет, – сказала другая медичка, и мужественная блондинка поддержала ее кивком.
– Нет, это вы напрасно, – сказал я, пожалев, что меня угораздило помянуть про чернила. – Вы ее не знаете; это совершенно нормальный, думающий человек.
– А вот этого не надо, – сказала мужественная блондинка.
– Чего не надо? – спросил я. – Думать, что ли, не надо?..
– Нет, думать надо, конечно, но тоже в меру. Все хорошо в меру. А то сначала мы думаем, а потом в окошки бросаемся. Не надо говорить того, чего вы не понимаете.
Я сообразил, что спорить с врачихами не только бесполезно, но и, возможно, небезопасно, а то возьмут и тоже поставят на свой учет, – и посему я больше слова не проронил. Врачихи на прощание велели мне напоить пострадавшую молоком.
Проводив «Скорую помощь», я сел возле Оли и стал на нее смотреть. Через некоторое время ее веки затрепетали, она открыла глаза и ответила мне совершенно здоровым взглядом.
– Вы прочитали мою записку? – спросила она, едва шевеля губами.
– Нет, я никакой записки не находил.
– И не читайте.
Проговорив это, Оля снова закрыла глаза, а я стал искать записку. Она лежала у меня под носом, на столе, между коробочками от лекарств. Содержание ее было таково, что даже в случае неудавшегося самоубийства совеститься не стоило. Вот все, что в ней было: «Выпейте шампанского на помин души».
Поскольку от пятерки у меня оставалось что-то около шестидесяти копеек, я принес из магазина две упаковочки молока. Впрочем, этого оказалось достаточно, так как Оля пила его птичьими дозами. Я поил ее до позднего вечера, а затем поехал домой, собираясь наутро вернуться к своим литературным занятиям, от которых меня в течение целых суток отвлекали подсудимые, а также самоубийцы.
Однако на другой день продолжить работу мне не пришлось, так как на месте своего обреченного дома я увидел одни руины; дом снесли за те самые сутки, что меня отвлекали подсудимые, а также самоубийцы. Искать другое пристанище было бессмысленно уже потому, что на поиски так или иначе ушел бы остаток дня, и я решил встретить Владимира Ивановича, которого в то утро освобождали из заключения. Во-первых, это было по-товарищески, а во-вторых, я предчувствовал, что отсидка Владимира Ивановича тоже как-то обогатит.
В том самом отделении милиции, куда нас с Владимиром Ивановичем доставили вечером 13 февраля, незнакомый лейтенант объявил мне, что заключенный Иов будет свободен в полдень. Поскольку до полудня еще оставалось время, я отправился навестить Олю, благо это было недалеко. Я долго звонил, но так и не дозвонился; в конце концов я вынужден был обратиться к соседям, и какая-то бабушка мне сказала, что рано утром Ольгу отвезли в Боткинскую больницу. Я предсказал, что больше с Ольгой уже не встречусь.
Владимира Ивановича действительно ровно в полдень освободили. Он был небрит, немного осунулся, но, в общем, это был тот же самый Владимир Иванович Иов, что и до катастрофы 13 февраля. «Господи! – подумал я. – Неужели даже такое страшное испытание, как тюрьма, причем тюрьма ни за что, тюрьма за здорово живешь, не способно как-нибудь сказаться на этом металлическом человеке!»
– А что, Владимир Иванович, – спросил я, – не отметить ли нам освобождение? Хорошо было бы по этому поводу где-нибудь посидеть.
– Поди плохо, – сказал Владимир Иванович, и мы тронулись в сторону Тверского бульвара.
Мы довольно долго шли молча, и только когда добрались до кафе «У двух птичек», взяли бутылку сухого вина и пристроились в уголке, Владимир Иванович внезапно разговорился. Он молчал, молчал, а затем сказал:
– Тюрьма, она и есть тюрьма – чего тут распространяться… Работали всю дорогу. Этот… телефонный кабель прокладывали. Работали, как все люди работают – но восемь часов плюс перерыв на обед. Кормили нас так: утром дают, значит, полбуханки хлеба на человека – это завтрак и ужин, а в обед горячее; обед как обед, нормальный обед.
– А что там были за люди?
– И люди то же самое – нормальные люди вроде того скандального инженера. То есть разные люди, как и на любом производстве. Были у нас узники, которые свои ребята, а были и прохвосты всякие, шантрапа. Один алкоголик был, бывший архитектор, лауреат какой-то – этот все время плакал. Верующий один был, каждый раз на ночь молился. Громко так молился, черт, спать не давал. Он, наверное, сектант, потому что молитвы у него какие-то не такие, я таких и не слышал сроду.
Но вот какое интересное дело: несчастья много. Я никогда не думал, что у нас так много кругом несчастных людей. Ну, никак я этого в толк не возьму: ведь мы на сегодняшний день сыты, обуты и полностью оприючены – но откуда же тогда так много несчастных людей?
– Извините, Владимир Иванович, я не расслышал, – сказал я; я действительно не расслышал последних слов, так как в это время думал о том, сказать Владимиру Ивановичу про неприятность, которая произошла с Олей, или же утаить.
– Я говорю, отличная у нас жизнь, довольно-таки человечная, а несчастных людей хоть отбавляй – вот почему это такое?
– Маркс писал, – сказал я, – что даже при полном коммунизме будет трагедия неразделенной любви.
– Да какая же это трагедия? Это сравнительно баловство. Я говорю про настоящее несчастье, ну, например, про то, что заслуженный человек, лауреат, вдруг по таинственной причине спивается с круга и оказывается в тюрьме. Ведь это прямо загадка, нет?
– На это я вот что могу сказать: по-настоящему счастливыми дано быть очень немногим людям, и характеристики внешней жизни к этому счастью никакого отношения не имеют. Вообще даже самое совершенное общество ни одного человека не в состоянии осчастливить; оно способно лишь создать необходимые предпосылки для того, чтобы люди познали счастье.
– А мне все равно непонятно, как это: предпосылки для счастья есть, а счастья самого нету?.. Ну не то чтобы нету, есть, конечно, но опять же не в том количестве. Тут, я думаю, наблюдается какое-то несоответствие, промашка какая-то наблюдается, честное слово. Не то мы что-то делаем, нет, не то!
– Может быть, у вас есть какие-нибудь конкретные предложения? – спросил я и насторожился.
– А что вы думаете, есть и конкретное предложение!
– Какое же, интересно? Только хочу вас предупредить, что за последние несколько тысяч лет этих конкретных предложений было вагон и маленькая тележка.
– Предложение мое будет такое: нужно придумать какое-то одно всеобщее дело, чтобы, делая его, каждый человек обязательно становился радостным и безвредным.
– Ну, это уже было. Последним такое всеобщее дело предложил один библиотекарь, смотритель Румянцевского музея. Он предложил всем вместе воскрешать мертвых.
– Честно говоря, я в этих религиозных делах не соображаю, потому что я отродясь был материалист. Я просто считаю, что народ надо чем-то занять, чтобы он не кто в лес, кто по дрова, а чтобы он долбил бы в одну точку до полной победы социализма.
– Да в том-то все и дело, – в сердцах сказал я, – чтобы придумать конкретное занятие, которое нас на этой платформе соединит. Я не спорю – в вашем предложении есть свой резон, потому что способность к счастью искони заложена в человеке, но заложена как недоразвитая, зачаточная способность, вроде передачи мыслей на расстояние. И, конечно же, нужен какой-то толчок, какое-то небывалое дело, чтобы ее развить. Только ведь нужно громадную голову иметь, чтобы выдумать это дело.
– А по-моему, все едино, чем ни занять народ, главная задача его занять. Пусть хоть бальные танцы разучивают, пусть хоть кроссворды сочиняют – развивают эрудицию и воображение. Это, я вам скажу, захватывающее занятие, между прочим! Меня кроссворды сочинять сектант научил, прямо я с тех пор не могу от них оторваться – сочиняю и сочиняю. Погодите, я еще свои кроссворды но газетам буду рассылать – вот будет умора!
– Эх, Владимир Иванович, Владимир Иванович! – начал я, по мне не дали договорить: к нам за стол подсели два крепко выпивших мужика и потребовали, чтобы мы рассудили их спор: один стоял на том, что вторая Пуническая война началась из-за падения цен на египетскую пшеницу, а другой считал, что просто Карфаген решил отомстить римлянам за Архимеда; мы с Владимиром Ивановичем уклонились от участия в этом споре, сославшись на незнание предмета, но на самом деле мы просто побоялись, как бы нам опять в историю не попасть.
В тот вечер мы разошлись с Владимиром Ивановичем довольно поздно, в десятом часу, а то и в одиннадцатом – не упомню. Вернувшись домой, я поужинал на кухне и завалился спать. Сначала все было обыкновенно: только я сомкнул веки, как приятный поток подхватил меня и понес, постепенно растворяя в горячих струях. Затем я исчез, но почти моментально возродился в собственном сновидении. Вышло, что будто бы напротив меня, почему-то на венском стуле, восседает Иисус Христос. «Все, сынок, – говорит он. – Кончились твои дни». – «Что вы имеете в виду?» – спрашиваю его. «Как что? – отвечает он. – Тридцать семь тебе?» – «Тридцать семь». – «При твоих занятиях – самый возраст. Пора, значит, того, на вечный покой». – «Погодите, – говорю я и чувствую, как к горлу подступает прощальная, удушающая слеза. – У нас ведь теперь инфантильный век, сроки сдвинулись, теперь роковой возраст не тридцать семь, а сорок два!» – «То у вас, а то у нас, – отвечает Иисус Христос. – И чего ты, собственно, беснуешься? Все ты постиг, миссию, свою выполнил, ну и с богом».
– Да ничего я не постиг и не выполнил ничего! – вскричал я и проснулся оттого, что эти слова были сказаны мною вслух.
Стояла глубокая ночь. Тикал будильник, тихо постанывала жена – видимо, ей тоже снилось что-нибудь неприятное, – на кухне сочилась вода из крана. То ли потому, что меня напугал мой сон, то ли потому, что ни с того ни с сего проснулся среди ночи – это все-таки настораживает, – я долго не мог заснуть. Я минут двадцать лежал на спине, рассматривая потолок бессмысленными глазами, как вдруг мне пришло на ум, что я действительно каждую минуту могу помереть, так и не совершив свой послух предсказания будущего. Это соображение меня до такой степени напугало, что я решил немедленно продолжить работу над своей вещью: я встал, оделся, прихватил бумаги, оба моих портретика и засел на кухне.
Стенные часы, висящие над холодильником, показывали двадцать минут второго, когда я взмахнул пером, как дирижерской палочкой, и строки потянулись из меня неиссякающей чередой. Начиная с этой минуты я писал фактически без перерывов тридцать четыре дня. Я был точно в каком-то великолепном продолжительном обмороке: я почти не спал, почти ничего не ел и только то и дело перебирался из кухни в ванную и обратно. Ближе к ночи четвертых суток теща предложила вызвать «Скорую помощь». К счастью, у жены хватило ума отклонить тещино предложение.
Полные тридцать четыре дня я разыгрывал жизнь Владимира Ивановича Иова, тщательнейшим образом поддевая тенденции, направленные в грядущее, скрупулезно рассчитывая условия, в которых предстояло им развиваться, и уже явственно видел дела грядущих времен, даже когда они совершались за линией умственного горизонта. Ближе к концу работы я, можно сказать, знал все: и то, что будет послезавтра, и то, что будет через тысячу лет. Я с прощальным чувством, трогательно, выписал последнее предложение и поставил точку – меня било как в лихорадке.
Это по-своему удивительно, но я не был охвачен восторгом исполненного долга – видимо, до такой степени я устал. Я принял холодный душ и отправился спать – разумеется, спа не было ни в одном глазу. Я лежал и думал; из тех разнокалиберных и разномастных соображений, которые посетили меня в тридцать пятую ночь, только вот какие стоят упоминания. Первое: я вывел, что я пророк, то есть пророк в прямом и изначальном смысле этого слова, каким были Исайя и Нострадамус; и второе: стать пророком может любой мало-мальски мыслящий человек, если на него то и дело сваливаются несчастья.
Рано утром я снова принял холодный душ и спустился вниз за утренними газетами. Газет в почтовом ящике не оказалось, но зато я нашел в нем пакет от Сидорова; Сидоров возвращал мне рукопись того самого пробного куска, который я когда-то ему посылал, ставил меня в известность, что все это такая беспомощная ерунда, что даже странно, как это взрослые люди могут сочинять подобную ерунду. Я поднялся в квартиру, позавтракал, приоделся, выкурил две сигареты подряд, и вдруг мне пришло на ум показаться Сидорову в новом качестве – то-то, должно быть, хватит его кондрат… Я вышел на улицу, обогнул угол дома, остановился у фонарного столба и внимательно огляделся: вокруг меня суетились люди; я смотрел на них и радовался – какие одухотворенные лица, какие многообещающие черепа…