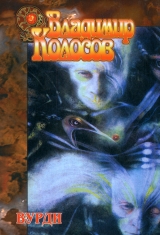
Текст книги "Вурди"
Автор книги: Владимир Колосов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
– Ну да… Живот. Но он бы стучался. Ему уже пора. Почти. Я глупая, что сама не догадалась, да?
– Наверно. Так ты же больна… – Гвирнус улыбнулся, его большое, заросшее щетиной лицо внезапно приблизилось к Ай-е, и она почувствовала его терпкое дыхание, потом тепло пересохших губ…
Она слегка отстранилась:
– Не надо, Гвир. Вдруг он все-таки мертвый. Это нехорошо.
– Ладно. – Лицо снова отдалилось. Сейчас оно казалось Ай-е чужим и почему-то немного страшным.
– Нет. Правда. Он не шевелится. Я бы почувствовала. Сколько дней прошло?
– Пять.
– Вот. Значит ему пора. Почти, – снова поправилась Ай-я.
– Ты бы слушала больше Гергамору эту.
– Она знает.
– Да что она знает! Сказки всякие. Болтовня.
– Так ведь не в Гергаморе дело. Чуть раньше, чуть позже – все равно пора.
– Ну и родишь, как полагается.
– Мальчика?
– Да.
– Я есть хочу, – вдруг улыбнулась Ай-я. – Целую вечность ничего не ела. Он, наверно, с голоду-то и притих.
– Еще бы. Пять дней на воде.
– Так-таки и пять?
– Ну, если я не проспал нынче целые сутки.
– А мог?
– Мог, – честно признался Гвирнус.
4
Светало. Серпик луны едва просматривался в голубеющем небе. Свет поначалу робко, но с каждой минутой все наглей и наглей просачивался в хижину, обнажая темные пыльные углы, липкий, залитый элем пол и Гвирнуса, который метался от полок с домашней утварью и припасами к столу, от стола к отчаянно дымившей печке.
– Ну, будет сейчас жара, – ворчал он себе под нос, заталкивая в печь очередное полено, – что готовить-то, а?
– Я сама, – откликнулась с постели Ай-я, – только перепортишь все. – Она попыталась встать, но едва ее маленькие ступни коснулись пола, как стены качнулись и поплыли куда-то: поплыл и Гвирнус, и грязные углы, и увядшие цветы в большой глиняной кадке у окна…
– Нет, не могу. – Она торопливо присела на кровать.
– Лежала бы. Я уж как-нибудь, – донесся издалека хриплый обеспокоенный голос Гвирнуса.
Некоторое время Ай-я молчала, борясь с головокружением и приступом внезапной тошноты. Головокружение не проходило, зато добавилась острая режущая боль – там, в животе, – как будто чьи-то острые коготки впились в него изнутри и силились разорвать на части.
– О-о! – застонала Ай-я и скорее закусила край одеяла, чтобы не закричать в полный голос.
– Что с тобой? – Испуганный голос Гвирнуса был невероятно далек.
– Не зна-а-ю! – Осколок слова вырвался из нее вместе с болью. Ай-я инстинктивно обхватила руками живот.
Ибо это стучался он.
– Живой, – выдохнула Ай-я, – живой…
– Я сейчас… Я к Гергаморе! – заорал внезапно прозревший Гвирнус.
– Не надо. Будь рядом…
О! Гора с плеч! Нахлынувшие огромной волной радость, счастье притупили боль – Ай-я вдруг почувствовала лихорадочное желание говорить, говорить, говорить…
– Грязно. Как же здесь грязно. Небось и не прибирал без меня. И цветы не поливал. А я так хотела, чтобы были цветы. Красивые. – Она вдруг умолкла, растерянно моргнула. – Что это? – Она смотрела на мужа и не узнавала его.
А лицо Гвирнуса, еще недавно казавшееся тусклым, бледным, бесцветным, вдруг вспыхнуло разноцветными огоньками, и Ай-я впервые увидела, что глаза у него вовсе не серые, как ей казалось раньше, а слегка голубоватые и даже зеленоватые. Волосы не черные, а с легкой рыжинкой на лбу и, напротив, выцветшие, серые на висках. А руки большие, загорелые, почему-то слегка красноватые – тут Ай-я с трудом повернула внезапно потяжелевшую голову и, увидев, как пылает в печи огонь, догадалась – это всего-навсего отблески не на шутку разрезвившегося огня. Сказала вдруг недовольно:
– Дверку-то у печи закрыть забыл?
И следом чужой, незнакомый, глухой, будто не ее, Ай-и, голос произнес:
– А ведь я сейчас рожу.
– Нет. Погоди. Терпи. Без Гергаморы нельзя, – заорал Гвирнус.
– Я терплю, – сказал кто-то за Ай-ю. – Я терплю.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ1
– И охота тебе, Норка, копаться? Еще подхватишь чего-нибудь.
– Ну нет. Слышала, что Гергамора сказала: хворь огня боится. А камешки у Илки знатные были, я уж и так к ней и этак – все пыталась выменять, а она, вишь, ни в какую – упряма. Ну да теперь уж ей упрямство ни к чему.
– Что ж ты все по краю – какие уж тут камешки, – ты туда поглубже лезь.
– Вот сама и лезь. Вон как жаром пышет. Подождать надо. Я и тут-то (чтоб его!) платье прожгла.
– Так ведь другие полезут – кто первый, тот и найдет. Вон сколько их. Коршуны. Так глазищами и зыркают.
– Полезут, как же! Эй, кто со мной?! Ага! Боятся. Не обжечься боятся – мертвецов. Будто тем не все равно. Сама-то чего стоишь пялишься?
– Хочу и пялюсь.
– Потом ведь завидовать, Тина, будешь. Знаю я тебя.
– Больно надо…
– Погоди. Блеснуло, кажись, что. Нет, показалось. Жаль.
– Сердца у тебя нет.
– А у кого оно есть? У тебя?
– Ах, Касьян, Касьян…
– Ребятню хоть прогоните. Кто-нибудь. Нечего ей тут шляться.
– Лопату бы что ли принесли – закопать…
2
Дверь в хижину Гергаморы была приперта досочкой. Запыхавшийся от быстрого бега нелюдим досадливо выругался. «Куда ж она подалась, старая карга? Вот уж кому неймется. Дома не сидится. Всюду надо нос сунуть, тьфу!»
– Ну и где тебя искать? – пробормотал он вслух.
Гергемора могла быть где угодно. В Ближнем лесу (там она собирала корешки и лекарственные травы). В любой из хижин. («Вон больных сколько. Уговорили, стало быть, попробовать полечить»). А то и на реке – полощет свое вонючее старушечье белье.
Гвирнус подумал, каково сейчас приходится Ай-е, и сердце его болезненно сжалось.
– Ничего, терпи, – прошептал нелюдим, как будто она могла услышать его.
Некоторое время он сидел в ожидании на крыльце, потом, будто что-то подтолкнуло его, встал, откинул ногой придерживающую дверь досочку и вошел в дом.
Темнота внутри поразила Гвирнуса. И еще – вонь. Пахло старостью, гнилью и знакомым с детства запахом гриба-вонючки. Гриба, который и в лесу-то предпочитали обходить стороной. «Ишь понатаскала, карга старая», – думал Гвирнус, осторожно пробираясь к занавешенным, видимо, темными тряпками, окнам.
В углу раздавался громкий писк и шебуршание, и нелюдим с отвращением подумал о крысах. Не хватало еще, чтобы какая-нибудь вцепилась в ногу.
«Дверь надо было оставить открытой, вот оно что. Темнотища, хоть глаз выколи». Гвирнус сделал несколько осторожных шагов (не шагов – шажков), когда у него возникло неприятное ощущение, что он в доме не один. И дело тут вовсе не в крысах: Гвирнус чувствовал взгляд, внимательный, настороженный. Взгляд человека. Чужого. Враждебного. Рука Гвирнуса невольно потянулась к запрятанному в голенище охотничьему ножу. Нож был на месте, и нелюдим в который раз порадовался привычке не расставаться с оружием.
– Эй, есть тут кто? – громко сказал Гвирнус, продолжая медленно пробираться к окну. Он постоянно на что-то натыкался – вся комната была заставлена табуретами, сундуками, вурди знает чем. «Тыщу лет небось хлам копила старая карга – вот гнильем и несет. Пока до окна доберешься, шею свернешь». Комната казалась необыкновенно большой. Раньше ему не приходилось бывать у Гергаморы, но с виду хижина была самая что ни на есть обыкновенная. Да и сельчане, заходившие к старухе за ее чудодейственными зельями, не рассказывали ничего такого. Разве что про старушечье барахло.
А тут – на тебе.
«Где же тут окно? – недоумевал Гвирнус. – Снаружи, значит, есть, а здесь нет? Чепуха выходит…»
– Чтоб тебя! – ругался, плутая среди невидимого скарба старухи, охотник, и чужой внимательный, цепкий взгляд следовал за ним.
– Следишь? Выслеживаешь? – Гвирнус остановился и зло крикнул в темноту: – Ну все, хватит! Гергамора, ты?
3
– Смотришь?
Питер вздрогнул.
– Знаю – смотришь. Вы все охочи до таких зрелищ. – Скрипучий тихий голос Гергаморы неприятно царапал слух.
– Приперлась, – буркнул охотник, – уж и ноги еле волочишь, а все туда же.
Гергамора усмехнулась. Приблизила неприятно пахнущий рот к самому уху Питера:
– Ты небось поджигал, а?
– Так ведь сама присоветовала.
– Верно. Присоветовала. Я еще маленькой была – таких вот печей на той стороне реки знаешь сколько повидала? А дед рассказывал – от своего отца слыхал – там, за рекой, дней десять пути, раньше с десяток таких вот поселков было. Да побольше нашего.
– Ну?
– Вот те и ну. Теперь-то туда и вовсе дорога заказана. В Лысом лесу не разгуляешься. А другого горшечника-то у нас и нет.
– Разговорчивая ты больно, Гергамора, – проворчал Питер Бревно. – Тебе что ни случись – только повод язык почесать. Вон ребятне свои сказки рассказывай. Небось заждались – ушки на макушке.
– А сам-то забыл, как за мной хвостом бегал, – обиделась старуха. – Такой же был. Только требовал, чтобы пострашней.
– Э… То когда было…
– Ладно-ладно – не хочешь не слушай, а я чистую правду говорю. Да вон тебя и ждут уже: гляди, как Гнус извелся весь. И так подморгнет, и этак сморщится – тебя подзывает. Опять гадость какую надумали?
– Не твое, старуха дело, – отрезал Питер.
– Может, и не мое. А может, и мое, – задумчиво сказала старуха. – Вот горшечника у нас теперича нету. Это как?
– А никак, – пожал плечами Питер. – И дался тебе этот горшечник. Только о нем и талдычишь, тьфу! – Он кивнул и впрямь ожидавшему в сторонке Гнусу: мол, жди, сейчас подойду, видишь, от старухи не отвязаться никак.
– Ага! Плечами жмешь, – ни с того ни с сего сказала старуха. – А вот что это на тебе, а?
– Как что? Рубаха. Штаны.
– Ясное дело – штаны. А откуда?
– Ну Норка сшила.
– Гм, – старуха озадаченно взглянула на охотника, – этакая стерва и шьет?
– Иди ты, – обиделся Питер.
– Хорошо. А полотно откуда?
– Сама знаешь, – проворчал охотник. – Был тут один старикан – помер. Да еще заезжие – давно, правда не видать – за шкурки понавезли.
– Ага! – довольно сказала старуха. – Ну ты иди. С Гнусом-то у тебя дела поважней.
– Обождет, – буркнул Питер. – Не пойму я, к чему ты клонишь: штаны тебе мои зачем-то дались. Из самой-то песок сыпется, а туда же, – усмехнулся он.
– Эх! Была бы я молодой, ты бы за мной хвостом бегал. Только на что ты мне сдался? Вон как твоя раскрасавица в золе рыщет. Побрякушки ей Илкины покоя не дают. А откуда побрякушки эти, ты знаешь?
– Ну откуда же, наверно… – неуверенно сказал Питер, – от заезжих остались.
– А сколько лет они сюда носа не кажут?
– Много, – почесал затылок Питер. – Их дело, я-то при чем?
– Ты-то? Ни при чем. Только уж больно горазд повелителей вешать…
– Э!.. Нашла чем попрекнуть!
– Так ведь скоро одними повелителями живы и будем. Эх! Любила я когда-то одного заезжего, – мечтательно сказала старуха, – красивый был! Да и я ничего себе. Не то что нынче – срам один. Часто он ездил сюда. Чуть не каждую весну. Смелый. Ты-то ведь и сам помнишь, сколько в наших краях заезжих пропало. Онозаезжих страсть как не любит. Вот и не ездят больше. Проклятое, значит, для них место. А может, и нет их больше, заезжих, иначе откуда Лысому лесу взяться? М-да…
– Ты чего?
– Чего-чего, – передразнила старуха. – На себя посмотри. На Норку. Гнус твой. Тьфу, смотреть тошно! Не люди мы, – усмехнулась Гергамора и процедила сквозь гнилые зубы: – а вурди знает что!
4
– Гергамора, ты?
Никто не откликнулся. Тишина вокруг уплотнилась, обступила нелюдима со всех сторон, жадно задышала ему в спину. С улицы не доносилось ни звука. Даже крысиный писк, который так поначалу раздражал Гвирнуса, и тот смолк. «Передохли они там все, что ли? Лучше бы уж пищали. Хоть что-то живое, – думал охотник. – Ишь мертвечиной как несет!»
Он все-таки вытащил нож. Нежно погладил пальцем прохладное лезвие. Кто бы там за ним ни наблюдал, пусть только попробует подойти.
– Ужо ножичком-то полосну, – зло буркнул нелюдим. – А ведь ты-то, эй, откликнись, что ли, и не человек вовсе, а? Прав я или как? – бормотал Гвирнус, борясь с невыносимой тишиной, но даже его обычно зычный, громкий бас тонул, растворялся в ней. – Знаю я, кто ты. Повелитель вонючий – вот кто. («Не думал, что Гергамора с вами нянчится»). Молчишь? («А ну как и не повелитель это вовсе? А тосамое. Страшное. Проклятие. Оно. Ишь как уставилось. Забавляется, прежде чем… – Гвирнуса передернуло: – Вурди меня возьми! Ни стен. Ни окон. Ничего!»)
Внезапно он почувствовал себя маленьким и беспомощным и тут же, испугавшись этого ощущения, обозлился на самого себя:
– В трех соснах заблудился, дур-рак!
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ1
Давно это было, вдруг как-то странно, почти нараспев сказала старуха. Даже голос ее, обычно скрипучий, как дерево на ветру, казалось, смягчился. Ребятня вокруг тут же стихла и шаг за шагом обступила Гергамору плотным кольцом. Они-то знали, что именно так начинает старуха свои чудные, жутковатые сказки.
Знали и взрослые.
– Ну дождались, – зло сказала Норка, – опять старая каркать будет. Мало нам хвори. Надолго, поди. Эй, Питер, и ты уши развесил?
Охотник не ответил. Он давно уже искоса поглядывал на нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу Гнуса, – лицо рыболова, впрочем, выглядело довольным, и Питер понял, что у того все в порядке. Подробности можно вызнать и позже. «Послушаю», – решил охотник. Торопиться было некуда, а рассказывала старуха занятно.
– Давно это было, – повторила Гергамора. – Вот Питеру я уже говорила, что любила я одного заезжего – часто тут бывал. Как ни приедет, добра всякого навезет: и побрякушки вроде Илкиных, и платья – все какие-то смешные. В них не то что в лес – из дому не выйдешь. Осталось у меня одно такое. Только мыши погрызли, вурди их возьми! Да я все равно не носила.
– Ты не про платья, Гергамора, ты про другое рассказывай, – нетерпеливо зашумела ребятня.
– Почему же. И про платья интересно, – сказала подошедшая послушать старуху Тина, – что ж это за платья такие, в которых из дому выйти нельзя?
– Ну это я лишку сказала, – буркнула старуха, – выйти-то можно. Только неудобно очень. Длиннющие – разве что пыль подметать.
– И что ж, носили их?
– Да нет, без толку возил. Одно только мне и подарил. «Хорошо оно тебе будет, – говорит, – носи, а других не слушай. Дикие вы тут все. Лесные. Жизни не знаете». А ткани у него меняли. Красивые. Цветастые были. Только рвались быстро (не то что наши). Много шкурок он за те ткани просил. Присесть бы мне куда, а? – Старуха вдруг закряхтела, заохала, казалось, она вот-вот рассыплется на части.
– Тут вроде пенек был, – пробормотал Питер.
– Был, верно. Ты небось все пеньки в округе знаешь, – усмехнулась старуха. – Деревья в поселке рубить хлебом не корми. Бревно – оно бревно и есть.
– Но-но, – обиделся за свое прозвище охотник.
– Носи, коли заслужил. Где ж он, показывай…
– Вон, – протянул руку Питер, едва не задев по носу подошедшего Хромоножку. – А! И ты туда же! – нахмурился охотник.
Скучно рассказывала старуха, и Питер, плюнув на старушечьи россказни, подошел к истомившемуся от ожидания Гнусу. От рыболова изрядно попахивало элем, охотник недовольно поморщился:
– Уже?
– Что ж, хлебнул чуть-чуть, нельзя что ли? – обиделся Гнус.
– Ну и голос у тебя, – сплюнул Питер, – хуже, чем у Гергаморы. Ладно. Сделал? – вполголоса спросил он.
– Ага. Делов-то. С первой стрелы и положил. Правда, тявкнул, сволочь. Я уж думал, Гвирнус выскочит, обошлось. Веточками закидал и – ноги.
– Дурак сопливый! Оттащить надо было! Найдет – сразу догадается, настороже будет. А так бы думал, мало ли где по Поселку или по лесу шастает. А впрочем, вурди с ним! Не боюсь я его, – зло сказал Питер. – С кем говорил?
– С Вислоухим. Еще – с Рухом, ну, тем самым, что с тобой в Лысый лес ходил…
– Слабак он, – проворчал Питер.
– Еще с Касьяном вчера. Жаль, сгорел.
– Ты мне мертвецов не приплетай. О живых говори.
– Да многие пойдут – только позови. Что Гвирнус, что Ай-я – порода у них такая. Ай-я же, все говорят, хвори напустила, а теперь болеет, вишь, сама. Подходяще стало быть, хе!
2
Слушатели между тем перебрались к указанному Питером пеньку. Нетерпение все более возрастало, но старухе это нравилось. Она сидела на пне скрючив высунувшиеся из-под юбки костлявые ноги. Слушатели невольно отводили глаза и морщили носы. Однако расходиться не спешили.
Дул легкий ветерок – то со стороны горящего леса, принося с собой сладковатый привкус горелых елей (люди встревоженно переглядывались – близко горит), то со стороны пожарища, и тогда запах гари усиливался. Небо окончательно просветлело.
Мимо пожарища потянулись к реке женщины – наступило время стирки. Им навстречу шли мужчины с длинными ивовыми удилищами и наполненными рыбой большими сетками в руках. Рыбы на сей раз, впрочем, было не так уж много.
– На глубину ушла. По такой-то жаре, – считали необходимым сообщить каждому встречному рыболовы и, понижая голос, спрашивали: – Ну, кто еще?
– А вурди их знает. Вот ждем.
– Кхе! – подала голос старуха, и слушатели (теперь уже не столько ребятня, сколько подтянувшиеся к ним взрослые) примолкли. Ожидание кончилось.
– Кхе! – снова кашлянула старуха. – А в общем-то ведь наврала я все. Не было у меня ни платья. Ни любви. С ним. Я-то его, конечно, сразу приметила, с первого дня. Только ему я и вовсе не показалась. Другую он выбрал. – Гергамора многозначительно посмотрела на обступивших ее сельчан. – Вурди!
– Ох! – вздохнул кто-то из женщин.
– А чего удивляетесь? Мы и то не знали, что она вурди. А уж заезжий тем более. С виду она человек как человек была. Красавица. Волосы чернее ночи. Кожа что снег. Улыбалась все время. Зубки белые, чистые. Не то что у вас, смотреть тошно, гнилье одно. Многим она нравилась, да никому – допрежь этого самого заезжего – не давалась. Анита ее звали. А может, и путаюсь я. Имена-то потруднее упомнить, чем людей. Глупые они – имена. В общем, встретились, уж не знаю как. Только часто их стали видеть. Вместе. То у реки встретят. То в лесу Ближнем. И все вдвоем. О чем говорили, тоже не знаю. Да ведь все по глазам видно. Полюбила она его. Ну и он тоже. Сначала ревновали ее сильно. Наши, местные. А потом ничего, плюнули. А тот как ни приедет с товаром своим, так сразу к Аните. Все уехать отсюда, с ним, значит, уговаривал. Что здесь за жизнь, говорил, и не жизнь вовсе. Прозябание одно. Как в болоте: одну ногу выдернешь – другая увязнет.
– Э! Постой! – перебила старуху Тина. – Ты-то почем знаешь, что он ей говорил?
– Да не знаю я. Но что-то похожее должен был говорить. Точно.
– А она? Уехала? – не выдержал кто-то.
– Так ведь вурди же… – прошептал Хромоножка.
– Ну и что с того, что вурди? – прошамкала Гергамора. – Любовь-то кому хочешь голову задурит. Конечно, здесь, в Поселке, случись что, живность какую поймал (кролика проще всего – в каждом дворе, почитай, будут, а в лесу и не перечесть), ну и жажду свою кровушкой и перебил. А там, куда звали ее (кто знает?), может, и живности-то нет. Только не думала она об этом. Пошла бы с ним, ой как пошла!
– И все?
– Все.
– Тьфу! – сплюнула в сердцах Тина. – Рассказала! Ха!
– Погоди, Гергамора. А ты-то откуда узнала, что она – вурди?
– Видела кое-что. Ходила я за ними, следила, что греха таить. Они на речку – и я. Они в лес – я за ними. Хвостом. Она же, Анита, как? Увидит веточку острую и ему: «Давай обойдем – поранишься до крови». Корень гиблого дерева – ногой, значит, сюда не ступай. Ножи в своем доме (жил-то заезжий у нее) все затупила. Дрова колола сама – мало ли что. Он все удивлялся ее заботе – за любовь жуткую принимал, любовь-то и впрямь жуткаябыла, – хмыкнула старуха. – Да и сама я сначала про любовь думала. Только не уберегла Анита его. Хлестануло как-то заезжего по лицу. В лесу это было. Царапинка-то небольшая, а кровь пошла. Тоненькая такая струйка. Сначала по щеке. Потом по подбородку. Тут-то все и случилось…
3
– Ну наконец-то!
Рука Гвирнуса коснулась шершавой стены, и он облегченно вздохнул. Если не окна, то хотя бы стены в этой дурацкой хижине были на месте. «Точно ведь – и как это я сразу не догадался? – повелитель голову задурил, – подумал нелюдим. – Они это могут. Сволочное племя. И шутки у них – тьфу! Прав был отец: мать-то его все уговаривала, мол, с повелителями проще жить, а он ни в какую».
Гвирнус вздохнул, прислонился щекой к пыльной стене.
Умерли они. Давно.
Отец в лесу. Ушел – не вернулся. Обычное дело. В Поселке обычное. Мать как чувствовала. Перед охотой он поранился слегка (дрова колол). Щепкой садануло. Ссадинка на руке так себе – пустяковина, но мать в слезы. Не ходи, мол, тяжко у меня на сердце, сиди дома, с голоду небось не помрем.
Не послушал – пошел. А там – то ли ведмедь задрал, то ли в болоте утоп, то ли оноэто самое подвернулось. Ну и мать вскорости. За ним. Рыбу она взялась, как отца не стало, удить. Раз, другой поудила, а в третий…
Гвирнус мотнул лохматой головой: «Ну все, хватит, Ай-я там рожает, а ты…» Он шагнул вдоль стены и как-то легко, почти сразу, нащупал дверную ручку. Слишком легко. «До окна, значит, не добраться, а дверь – на тебе! – усмехнулся про себя нелюдим. – А ты, как и все, дурак, братец, – мысленно обратился он к тому, кто по-прежнему наблюдал за ним из темноты, – повелитель не повелитель, а – дурак. Что, не понимаю? – выпроваживаешь ты меня. Чужого глаза не любишь. Старухино барахло стережешь? Или прячешь что?» Эта мысль невольно кольнула нелюдима.
– Прячешь ведь, а? – пробормотал он вслух. – Что же такое мне видеть не след?
Он дернул ручку, дверь послушно скрипнула и открылась. В хижину хлынул свет. Нелюдим огляделся. Так и есть. Окна занавешены темными тряпками («Зачем это?»), вся комната завалена вурди знает чем: тряпки, полусгнившие стулья, пара сундуков посреди комнаты. На столе – глиняный чан с торчащими из него хвостиками лука. В углу – огромная, заваленная кучей подушек и подушечек кровать. В другом, ближе к печи, – деревянные ящики, в которых, едва нелюдим приоткрыл дверь, заверещали, запищали во всю мощь – теперь нелюдим уже точно знал, не крысы – кролики.
«Голодные небось, – подумал Гвирнус, – на улицу бы их».
Ну и что тут прятать?
«Иначе с чего это было меня дурить? Погляжу, – усмехнулся Гвирнус, – так ли, этак, а старуху придется ждать».
– Ну держись, – прошептал он, подкладывая дощечку под дверь, чтобы та не закрылась, – нечего было со мной шутки шутить. Сам напросился.
Он вернулся в хижину, подошел к одному из занавешенных окон. Протянул руку, чтобы сорвать с окна темную тряпку, но лишь отогнул уголок, как тут же замер: ему вдруг показалось, что за окнами хижины Гергаморы нет ни Поселка, ни леса, ни Зуба Мудрости – ни-че-го…
4
– Кхе… Тут-то все и случилось, – повторила Гергамора. Ее голос понизился до хриплого шепота. Она тяжело дышала ртом, в старческом горле что-то клокотало, булькало; старуха несколько раз судорожно сглотнула накопившуюся слюну. А затем продолжала: – Царапинка, значит, пустяковая. Он и внимания не обратил. Только рукой кровь по щеке размазал и зашагал дальше – грибов в то лето много было. Вот они с Анитой и баловались. У нее к тому моменту уж полная корзинка была. И грибы все как один отборные – не мелочь, знатные грибы: умела она их собирать; впрочем, теперь собирай не собирай, а такие и вовсе не растут!..
– Заладила, – возмутился кто-то из остановившихся послушать старуху рыболовов, – сначала про платье. Теперь вот про грибы. Ты еще скажи, что и рыба в реке не та. И ведмедь мелкий пошел. И шкуры на зверье облезли. Этак тебе до вечера россказней хватит.
– Ты давай не о ерунде всякой, о вурди рассказывай, – поддержали остальные.
– Не могу я так. Разное в голову лезет. Перепуталось все. А тут – любила ведь я его – сколько лет прошло, а все равно волнуюсь… Ну ее, Аниту… Я много чего про вурди знаю – это теперь их вроде как нету, повывели. Я лучше про другое расскажу… да вот про Найденыша, а?
– Не знаем мы твоего Найденыша. Может, и интересно это, а раз начала про Аниту, так и продолжай. Только не про грибы – про Аниту, – потребовали сельчане.
– Кхе… О чем это я? А! Про грибы. Так вот, как Анита эту самую царапинку учуяла – что с ней сталось! Затрясло ее, значит, всю. Корзинку из рук выпустила – грибы так ворохом и посыпались. Я еще подумала тогда: «Неужто на гиблый корень наступила? Как же заезжий-то с ней? Он про этот корень, верно, и не слышал вовсе». Только недолго я так думала. Интересно мне было. Я кустики, за которыми пряталась, чуток раздвинула, чтобы видеть лучше, не сильно – самую малость, а то ведь и заметить могут. Малинник это был. Колючий – ужас! Я и сама-то поцарапалась (хорошо, не до крови), ну и ягод, понятное дело, не удержалась (молодая была, глупая), все-таки нарвала и – в рот…
– Кхе! – передразнила старуху Тина.
– Опять вам не то? Ну вас! Перебивают на каждом слове. Вкусные были ягоды…
– Теперь такие не растут. – Тина ехидно усмехнулась. – Мы раньше от хвори помрем, чем ты до конца доберешься…
– А ты меня не учи! Мала еще! – гневно оборвала ее Гергамора. – Шумнула я тогда малость, кустами-то. Анита аж вздрогнула, побелела вся. У них, у вурди, что нюх, что слух – о-го-го! Я ведь, почитай, в двух шагах от смерти была. А может, и нет, – загадочно пробормотала Гергамора. – Ну я затаилась – даже дышать перестала. Анита головой влево-вправо повела: вроде никого. Успокоилась чуток. А пока она стояла, заезжий далеко ушел. Ты где, кричит, потеряла я тебя, откликнись, мол. А голос-то странный стал. Будто и не Анитин вовсе. Булькающий, низкий такой, вроде как у меня. Заезжему бы бежать куда подальше, но он-то откуда знал? В общем, откликнулся: «Здесь я! Иди сюда, через низинку, тут грибы какие-то чудные. Шляпки красивые, только не знаю, рвать ли. Первый раз такие вижу. Может, отрава, а?»
О грибах, значит, дурак думал!
Анита обрадовалась, даже дрожать перестала. «Иду, кричит (а ведь идет, только корзинку так и не подняла!), а ты, дурачок, грибы эти не трогай. Поганые они. Как тронешь, так и обожжет. Почище крапивы будет». Говорит это, а сама крадучись, по-лесному, по-звериному, в обход, через ельничек. А повадки странные. Ох! Тут уж и я, на что глупая была, кое-что смекать начала. «А ну как оборотень?» – думаю. Страшно мне стало, но я тихонько так, еще почище, чем Анита, за ними пошла.
5
Старуха внезапно умолкла, почесала облепленную мошкарой шею.
– Настоем намазаться забыла, кусают, вурди их возьми! – пробормотала она.
– А дальше?
– Не хочется мне рассказывать. Ничего хорошего. Тьфу!
– Но вурди-то, вурди как?
– Как-как, – ворчливо сказала старуха. – Она, Анита то бишь, не в один миг оборотилась. Повадки, конечно, сразу звериные стали. И голос… А так – Анита и Анита. Я и сама по-звериному по лесу ходить могла. Подозрение тогда уже, ясное дело, было. Но и только. В общем, подкралась Анита (не с той стороны, откуда заезжий ее ожидал, – с другой), увидела его. Остановилась за елочкой. Смотрит. Внимательно так смотрит. Будто на всю жизнь запомнить хочет. Пальчиками подол платья теребит. А глазами нет-нет да и зыркнет (кроликов высматривала – это я потом поняла). Заезжий уж волноваться начал: пропала Анита, нет ее; кричит, надрывается. А она молчит. И опять глазами по сторонам – зырк, зырк. И еще языком по губам раз проведет, другой. Да так, что у меня мороз по коже пошел. «Ну, – думаю, – влипла». Только мне вдвойне интереснее стало, что ж дальше будет. А кроликов, как назло, нету. Чувствую, не успокоить ей себя. Снова затрясло всю – губу закусила, ногтями в ладонь впилась, но нутро свое берет. Смотрю, ноздри раздулись, нос будто шире стал. Только я на зубы больше смотрела: рот у нее полуоткрыт был, и зубки ее белые, ох! В общем, оборачиваться начала. Тут бы ей и убежать, пока окончательно не захолонуло. Но кровь-то из царапинки каплет, привораживает…
– Врешь ты, Гергамора, – сказала Тина, – вурди, тот бы ждать не стал.
– Много ты понимаешь. Стал – не стал. Любила она его. Сильно любила. Теперь и не любят так больше…
– Знаем, – недовольно буркнула Тина, – у тебя все нынче не так.
– Тсс! – зашикали на нее сельчане.
– Мы-то думали, тут про вурди. А тут про любовь…
– Слушай, а среди заезжих вурди были?
– Нет. Похоже, они только в здешних местах и водились. Мы заезжим ничего о них не рассказывали – боялись отпугнуть. Но кое-что заезжие знали. Немного, правда. Гм! Да и не верили они особенно во все это…
– Дальше, дальше рассказывай.
– В общем, верьте или нет, только держалась Анита сколько могла. Она ведь в платье, заезжим подаренном, была. Красивое такое. Красное. А на платье – поясок. Так Анита его сорвала и ну себя к елочке привязывать. Руки трясутся, из глаз слезы. Но привязывается. Узлов пять накрутила, не меньше. Чтобы, значит, когда оборотится окончательно, не развязать. А сама уже и на Аниту нисколько не похожа. В первый раз я такое видела – мельком видела – от страха глаза закрыла. Открою быстренько, гляну, что и как, и опять закрою. Так что, как она, Анита, выглядела, врать не буду – у меня от страха тогда помутилось все. А заезжий стоит посреди полянки, что делать, не знает: потерялась Анита. Беда. Хоть и умный был, а в лесу дурак дураком. Хотела я ему крикнуть, чтобы бежал куда подальше, да у меня от страха язык занемел.
Так и не закричала я. Тут и Анита голос подала (может, тоже предупредить хотела), только поздно. Голос-то уже не человеческий. Вой один. Да еще какой! Думаю, даже у заезжего, хоть и смелый был, поджилки затряслись. Я же в обморок хлоп! Очнулась, гляжу: оборотень пояс оборвал и стоит уже посреди полянки. В зубах кролик: выскочил, значит, невесть откуда, да поздно – оборотилась уже. Но, видимо, в голове еще что-то человеческое есть: не на заезжего – на кролика кинулась.
А заезжий, – усмехнулась старуха, – здорово струхнул. С лица весь спал. Руками по карманам хвать, хвать – где-то у него ножичек маленький, грибы срезать, был. С другим-то, настоящим оружием, по лесу ходить не приучен. Не охотник ведь. Ведмедя и в глаза не видел. Не то что вурди. Стоит, без толку по карманам хлопает и – ни с места. Ноги, видать, от страха к земле приросли. Оно и понятно. Я и сама в кустах шевельнуться не могла. Сижу, прячусь, чувствую, клещ на щеку сел. Его бы скинуть гада: под кожу залезет – потом попробуй вытащи. Ан нет, не могу. Ни рук ни ног – отнялись. Будто неживая стала. Внутри трясет всю, а снаружи пень пнем.
Оборотень тем временем быстро так кролика высосал. Шкурку в сторону – и на заезжего смотрит. Ну и зрелище, скажу я вам! Лицо, то бишь морда волосатая – жуть. С клыков кровища каплет. От удовольствия разве что не хрюкает. Платье Анитино – по швам. Вроде как волк уже. А вроде как и не волк. У заезжего глаза что две плошки. Платье-то, им подаренное, как не узнать! Кхе!
– Ну? Убила она его? – не выдержал кто-то.
– Э, погоди, не торопи. Думаю, понял заезжий все. Как не понять! Про оборотней наверняка слышал. Ну, Анита обратно оборачиваться начала.
– То есть как обратно? – удивилась Тина.
– А вот так. Царапинка-то подсохла уже. Да и кролика, видать, хватило. Ну и не чужой заезжий ей был. В общем, смотрю, вурди знает как, но черты Анитины вроде проступать стали. Корчит ее всю. Судороги бьют. Оборачиваться, выходит, все равно что рожать. Не видела бы – не поверила, ей-ей. Только заезжего это еще больше напугало. Тут-то он ножичек свой и нащупал.








