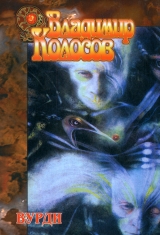
Текст книги "Вурди"
Автор книги: Владимир Колосов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
«Не утаишь, – со злостью подумала Ай-я, – на два дня и хватило. Вот ведь как. Пришла за мужем – а нашла…
Ничего-то я не нашла, – решила женщина, брезгливо поглядывая на дрожащие старушечьи руки, – вон как на пол плещет. Совсем стара. Раньше не так заметно было, а в последнюю зиму сдала старуха. Ох как сдала».
– Ишь злыдней какой смотришь, – прошамкала тем временем Гергамора, – что ж плохого – дите вернулось, радоваться надо. Соседей с радости такой приглашать. – В голосе старухи слышалось странное ехидство. «Дразнит она меня, что ли?» – подумала Ай-я. А вслух сказала:
– Сама решу.
– Вестимо дело – сама, – легко согласилась Гергамора, – а водички-то испей…
– Мертвой, стало быть, – пробормотала Ай-я, чувствуя, что вовсе не хочет никакой воды, ни живой, ни мертвой, а хочет лишь одного: уйти поскорей от старухи, бежать из Поселка, бежать куда глаза глядят, пока эта старая ведьма не выпытала у нее самого страшного… Опоив этой вонючей водой… Один запах которой заставил ее…
– Нет, – сказала Ай-я, отступая к двери.
– Ой ли, деточка, неужто поверила? В старушечье-то колдовство? А ведь поначалу-то как смотрела! Мол, где ж этакой мужа сыскать. Отчаялась, вот и пришла. А теперь, значит, бежать? Не больно-то ты своего пропащего сыскать хочешь!
– Мышка не позвала, – глухо пробормотала Ай-я.
– Мышка, выходит, виновата, – усмехнулась старуха, – не угодила, стало быть. – Ох! – Она вдруг покачнулась, ухватилась свободной рукой за поясницу. Другая, с ковшом, резко дернулась, плеснула варево прямо под ноги Ай-е. – У! Злыдня, – громко запричитала Гергамора, – совсем замучила старую. Старайся тут для тебя. Спала бы сейчас, десятый сон видела. Одеяльцем бы потеплей укрылась – и печку всю ночь топить не надо. А тут вон сколько дров извела. Кто ж мне, старой, принесет? Охотников мало. Ильяса разве что попросить? – задумчиво пробормотала Гергамора, оперевшись о краешек стола. – Нянькайся тут с тобой. Дурой, – проворчала она, – сама ведь не знаешь, чего хочешь. Чую ведь – муж тебе нынче что репей. Пришел бы – и не обрадовалась вовсе. Одни слова, что ищешь. А ведь и не ищешь вовсе. И ко мне не затем шла. Ведь не верила в мое колдовство, а шла. Так ведь?..
– Так, – тихо прошептала Ай-я.
– И на том спасибо, – хмыкнула старуха. – Ильяс вон, тот верит. Сайка зеленюшная. Да и муженек твой, Гвирнус. А ты нет. Ох, чую, не зря тебя когда-то в избе жгли… – Старуха не договорила, заметив, что Ай-я испуганно вздрогнула. – Вот, чуть не полковша пролила, – пробормотала Гергамора совсем другим голосом. – Для тебя же стараюсь. Пей, деточка, нечего время терять. Мало ли кто по свету ко мне заглянет. Тот же Ильяс, поди. Обещался вчерась. А меня, старую, не слушай. Я много чего наболтать могу. Да-с, – прошамкала старуха, оторвавшись наконец от стола и ковыляя к Ай-е. Идти ей было тяжело. Гергамора припадала на левую ногу, рука с ковшом заметно дрожала, вонючее варево то и дело выплескивалось на пол. – Сама бы подошла, что ли, – ворчала на ходу старуха, – возись тут с вами… Пугливыми. Не донесу ведь, поди…
Ай-я торопливо оглянулась – дверь была совсем рядом – и… вместо того чтобы бежать, вдруг шагнула навстречу Гергаморе, протянула руку, осторожно взяла ковш. Чувствуя, как подгибаются ноги, торопливо присела на табурет. Понюхала пойло – тут не только мышке, а и человеку бежать впору. «Вурди», – поправилась Ай-я. Беспомощно взглянула на старуху:
– Как пить-то?
– Ведомо как. Нос двумя пальцами зажми, одним духом и пей. Коли не примет с первого раза душа, я тебе плошку дам. Аккурат в нее сплюнешь. Нечего избу поганить. Ну да примет, куда денется. Коли ты и впрямь с чистым сердцем ко мне шла…
«Ой ли!» – подумала женщина и, зажав нос, как и советовала старуха, поднесла отвратительно пахнущее пойло к губам.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ1
Волк уходил.
Опрокинутая плошка валялась в снегу – он даже не подошел к ней. Не лизал сладко пахнущий, забрызганный кровью снег. Не глядел на ту, которая с такой радостью вышла к нему с угощением, а потом…
Какая разница, что было потом?
Он просто уходил.
Уходил, а женщина смотрела, как разъезжаются на обледенелом насте похожие на палки худющие лапы, как болтается жалкой тряпкой волчий хвост, как неуверенны движения отощавшего тела… Вот он, будто не замечая ничего перед собой, ткнулся мордой в кусты смородины, дернулся всем телом, подался назад и бочком-бочком обошел неожиданное препятствие. Где-то коротко гавкнула собака, и волк равнодушно повернул морду в сторону, откуда донесся лай, и тут же отвернулся – он уже ничего не боялся, ему было все равно.
Волк уходил.
«Умрет ведь. Ишь тощий какой. Еле ноги волочит. Еще до рассвета и умрет», – внезапно подумала женщина. Торопливо взглянула на небо (не светлеет ли), сначала с надеждой (ей показалось, что небо над лесом и впрямь чуть порозовело), потом с грустью – нет. «Скорее бы», – подумала женщина, словно спасение и впрямь было лишь в этом невесть где задержавшемся утре.
Но утро не торопилось.
Волк уже ушел достаточно далеко. Время от времени его тощее тело скрывалось за темными стволами елей, и казалось, оно уже не возникнет вновь. Когда же темная тень все-таки всплывала в лунных проплешинах редколесья, волк выглядел совсем крошечным, не больше мышонка. Он слепо тыкался в разные стороны. Он не шел, а ковылял на подгибающихся ногах. Вот он споткнулся. Раз, другой, третий… Женщина закрыла глаза, почти сразу открыла их и не увидела его – волк снова исчез, на этот раз за темным пятном зарослей гуртника. «Все», – подумала она. Вспомнила, как опрокинула плошку, как испуганно шарахнулся от нее пришедший из лесу зверь, как жалко скатился он по обледенелой лестнице вниз…
Сердце болезненно сжалось.
Да, такое могло произойти только в эту голодную зиму. Разве ж стала бы она в иное время трогать крольчиху-мать, ту самую, которая исправно приносила потомство, да еще какое – каждого крольчонка выменивали на добрую поленницу дров? Разве ж собирала бы с такой аккуратностью ее свежую кровь, с тем чтобы накормить собственного пса?.. Разве ж встретила б вместо него пришедшего за помощью к людям – и кого! – волка?! Разве ж чувствовала бы эту странную тупую ноющую боль? Глядя в голодные волчьи глаза? Глядя на его впалый живот? Разве ж не убежала бы обратно в дом? Не позвала бы на помощь? Не схватила бы первый попавшийся под руку нож?
Волк не появлялся. Но когда женщина уже готова была повернуться и уйти, что-то остановило ее. Только теперь она по-настоящему ощутила ночной холод. Она почти не чувствовала ног, пальцы рук не сгибались вовсе, подбородок и щеки заиндевели, а наброшенный на плечи шерстяной платок покрыло тонкое кружево инея.
Но она осталась стоять на крыльце.
Она ждала…
Маленькая мышка вылезла из-за кустов гуртника и стала медленно взбираться на небольшой, поросший редким кустарником пригорок. Взбираться медленно. Ползком. И когда, казалось, ее движение вверх прекратилось вовсе, женщина не выдержала и протянула ей дрожащую от холода ладонь…
– Мама!
Ай-я стояла на четвереньках, и на левой руке ее болталась веревка, та самая, которой еще совсем недавно (там, в жарко натопленной избе) была привязана к вбитому в стену крюку… ее… дочь. Дочь вурди. Дикая. Лесная. Плоть от плоти она, Ай-я. Маленькая женщина с лицом мужчины. Девочка с глазами оборотня. Украденная лесом и возвращенная людям… Зачем? Для чего? Ай-я облизнула пересохшие губы. Да. Встретились. Их судьбы. Их глаза. «Ты – вурди», – прочли в них свой приговор и женщина, и ребенок. Да (мысли метались, как испуганные ночные мотыльки). У них одна плоть, одна кровь, одна жажда, и…
«Мама!»
Там, в сенцах, с первого же мгновения их встречи они понимали друг друга без слов. Но только сейчас их безмолвный разговор воплотился в сознании Ай-и в нечто осязаемое, только сейчас Ай-я со стыдом вспомнила немой страх узнавания:
«Неужели?.. Ты?..»
«Я… я ничья». Глаза вурди не умели лгать.
И вновь Ай-я со стыдом вспомнила потаенное – радость, ибо не такой дочери хотела она. Не о такой встрече мечтала. Ибо последней в роде вурди была именно она, Ай-я, а этот маленький звереныш – он не мог, не имел права быть последним. Не зная муки быть человеком. Не зная боли не быть вурди. Не зная наслаждения быть и не быть тем и другим.
Да. Они понимали друг друга без слов.
«Ничья? А твои родители? Отец? Мать?»
«Они… – Зрачки в глазах звереныша сузились, казалось, у нее вовсе не стало зрачков. – Они похожи на тебя. Иногда», – послышалось Ай-е, но это не были слова: это шелестела трава, играл в кронах деревьев ветер.
«Иногда?»
«Да. Но чаще бывает, – шелестела трава, – у них нет ни рук, ни ног… Ни тела. Ни слов. Ни мыслей.
У них есть лишь корни, которые впиваются в землю. Ветви, которые ласкает ветер…»
«Они похожи на деревья?»
«…И тропку между ними. И маленькое болотце на краю оврага. И старого ведмедя, которому снится лесной мед. Похожи. Да. На птенца, выпавшего из гнезда. На мышь в когтях гнедатой лисы. На небо. Звезды. На тебя».
– Она позвала! – прошептала, не помня себя от какого-то дикого ощущения счастья, Ай-я.
И…
2
…очнулась.
Она стояла на четвереньках.
(«У них нет ни слов, ни мыслей, ни тела. Они похожи…
…На меня»).
Рядом жарко полыхала печь. Сквозь занавешенное тряпками оконце пробивались тонкие лучики зари. Старуха сидела за столом, подперев рукой подбородок, устало закрыв глаза. Седые жидкие пряди волос спадали на плечи. Прямо под носом Ай-и валялись черепки разбитого ковша. Вонючая лужица на полу пахла раздавленным лесным клопом. И во рту стояла такая же премерзкая вонь. Ай-я сморщилась, с трудом подавляя желание фыркать и плеваться, как плевался бы от ненавистной для него рыбной похлебки Снурк. Снурк… Немало уж времени прошло. А Гвирнус собаки так и не завел… Ай-я вновь взглянула на раздавленного клопа. Сколько же она выпила этого вонючего пойла? Глоток? Два? Фу, какая гадость! Она бы с радостью прополоскала рот, и умыться бы не помешало, но сейчас в доме старухи ей было ненавистно все. «Домой. Домой», – подумала женщина. По-прежнему стоя на четвереньках и испытывая странную радость от непривычного и одновременно такого знакомого ощущения тела, она тревожно взглянула на старуху (спит? не спит?), тихонько поднялась на ноги. Радость радостью, но сердце ее замирало от ужаса. Сейчас она помнила все: волка, навсегда уходящего в лес, женщину в берестяных тапочках на босу ногу, которая, наверное, до сих пор мерзла на обледенелом крыльце. Мышку на продрогшей ладони. Перевернутую плошку на снегу. Глаза звереныша… Вурди… Да. Ай-я почувствовала смутную тревогу. Вспомнила ощущение привязанной к руке веревки, закусила губу. Вспомнила, как, войдя в теплую комнату, звереныш вдруг увидел горящий в печи огонь… Как с испугу упал на четвереньки. Бросился к ведущей в сенцы двери. Больно ударился о ее, Ай-и, коленку. Отскочил в сторону. Наткнулся на валявшуюся у лежанки ведмежью шкуру. Зарычал…
– Не бойся, что ты, – ласково причитала она тогда, а сама едва сдерживала слезы, потому что понимала, что уже не сможет жить по-прежнему, потому что не сможет второй раз потерять эту однажды потерянную жизнь.
Не сможет смотреть Гвирнусу в глаза.
Не сможет объяснить…
Уберечь.
Человека.
Вурди.
Мужа.
Детей.
Себя.
– Я твоя жена, – сказала бы она тогда, будь рядом Гвирнус, но Гвирнус был так далеко, а возвращенный лесом детеныш так близко, что почти не из чего было выбирать. Она лишь затравленно взглянула на сладко спящих детей. И покорилась судьбе…
3
– Нашла?
Ай-я вздрогнула.
Она даже не заметила, что Гергамора давно уж открыла глаза и смотрит на нее.
– Нашла? – без особого любопытства переспросила старуха. Голос ее звучал устало и немного зло. Гергамора зевнула, широко открыв беззубый рот. Крякнула. Зевнула еще, тут же пробормотав: – Ишь ты, в сон как клонит. Намаялась я с тобой. Да и ты со мной…
– Вовсе нет, – торопливо сказала Ай-я, стараясь не глядеть на старуху, чувствуя, что и впрямь валится с ног. – Нет вовсе, – повторила она, – просто мне…
– Знаю, знаю. Домой тебе пора. К детям, – перебила ее Гергамора, – ну да ты вот что, садись. Вишь коленки как дрожат. Сама знаю, с моей водицы сразу-то в себя не придешь. Посидеть надо. Подумать. Я уж тут на табурете. А ты в угол ступай. На лавку. Полночи ведь колобродили. Неужто без толку? А? – спросила старуха, но Ай-я молчала (в каком-то странном оцепенении она неотрывно глядела на догорающую печь), и Гергамора, досадливо крякнув, добавила: – Эх, глупая, не того огня тебе надо, не того…
Ай-я не ответила, лишь зябко повела плечами, недоумевая, отчего в избе такой холод – ведь еще совсем недавно ее донимала жара, наклонилась к валявшемуся на полу березовому полешку…
– На лавку, говорю, ступай, – сердито буркнула старуха, и Ай-я, оставив полешко, послушно пошла к лавке. Присела на краешек. Снова уставилась на приоткрытую печную дверцу, будто только яркие всполохи пожирающего березовое угощение огня и могли отогреть – нет, не тело (в доме было достаточно тепло), а то, что огромным куском льда застряло в ее груди.
– Нашла, – тихо, вовсе не старухе, а самой себе сказала Ай-я.
– Одеялом, что ли, прикройся, – проворчала Гергамора, словно и не слышала ее слов, – вон рядышком лежит. Коленки свои прикрой. А то меня, глядишь, саму в дрожь бросит…
– Нашла, – повторила Ай-я, теперь уже точно зная, что говорит это вовсе не себе и тем более не старухе, а упрямо продолжающему свое дело огню. Она ждала, что старуха непременно спросит, кого, но старуха молчала, то ли снова задремав над столом, то ли дожидаясь, что теперь уж Ай-я расскажет обо всем.
– Он в лесу, – сказала Ай-я догорающему в печи огню. Огненно-красный язык согласно лизнул приоткрытую дверцу.
– Он не вернется, – сказала Ай-я, и огонь в печи возмущенно загудел.
– Он – человек, – безразлично сказала Ай-я и наконец услышала обращенный к ней даже не голос – лишь легкое дуновение невесть как прокравшегося в избу сквозняка:
– А ты?
– Вурди, деточка… – прошамкала со своего табурета старуха. Ай-я вздрогнула.
– Да, – пробормотала она, ибо отпираться было бессмысленно – слишком уверенно говорила Гергамора, да и страха перед вурди в ее голосе не чувствовалось вовсе. Одна лишь усталость. И еще, пожалуй (или это только показалось Ай-е?), какая-то затаенная боль. «Ну, вот и все», – подумала женщина, подивившись тому, как вдруг легко стало на душе. Будто приоткрылась потаенная дверца, а за ней… Другая жизнь. Другое солнце. Небо. Судьба. Ай-я тихо хихикнула, тут же отметив про себя, что даже смех этот тоже оттуда, из-за потаенной дверцы, не очень-то приятный смех, но ее, Ай-и, и теперь уж не имеет смысла скрываться., нет, скрывать его от самой себя… «Как это просто, – подумала Ай-я. – Да. Как это легко и просто. Всего-навсего быть собой». Она тряхнула головой, и волосы лесной травой рассыпались по ее плечам. «Мама! Милая, милая мама! – с какой-то необыкновенной нежностью промелькнуло в ее голове. – Это ты, ты. Ты скрывалась. Пряталась. Мучилась всю жизнь. Так неужели ж и я? Я?.. Не хочу!» – мысленно воскликнула Ай-я. Ей вдруг захотелось выскочить из избы в чем есть, и не важно, что на улице мороз, и плакать, и кричать на весь свет.
Но вместо этого лишь тихо прошептала:
– Что ж, пускай он придет. Узнает…
– Тсс! – Старуха приложила палец к губам.
Ай-я удивленно посмотрела на нее.
– Чего уставилась? – ласково прошамкала Гергамора. – Вот ведь, знаю теперь. Только другому-то знать ни к чему. Верно я говорю? А может, ты уж и зубки свои на меня, старую, точишь, а?
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ1
Это не было болью.
Чьи-то руки бесцеремонно ощупывали тело. И не столько ощупывали, сколько нагло тискали, мяли, били по рукам, по ребрам, по голове… Больше всего доставалось щекам; щек Гвирнус не чувствовал, но понимал: да, именно по щекам и били прежде всего. Кулаком, ладонью, чем-то невероятно твердым, вроде застежки на широком охотничьем ремне. И уж само собой, задубевшей на морозе кожей. Лыжной палкой. Твердой как камень рукавицей. А может быть, и просто камнем. Палкой. Ногой. Голова в такт ударам чужих рук подавалась то вправо, то влево, и что-то мягкое, водянистое плескалось в ней – плюх, плюх, – отдавая тупой болью в затылке…
Впрочем, и это не было болью, а было лишь слабым отголоском боли, ее эхом, мелкой рябью, оставшейся после брошенного в воду камешка, настолько мелкой, что лишь легкий поплавок рыболова и мог приметить ее. «Да, рыболова», – вдруг всколыхнулось затухавшее было сознание, и как раз в этот момент очередной удар сотряс голову: зубы Гвирнуса лязгнули, прихватив кончик языка, и тогда он впервые почувствовал не эхо, не рябь – боль? Язык обожгло нестерпимым жаром, жар хлынул в голову. Он был настолько сильным, что нелюдиму показалось: еще мгновение, и голова вспыхнет как факел; что-то нестерпимо горячее ударило в нос – уф! – Гвирнус напрягся всем телом и выдохнул из себя этот жар, одновременно почувствовав странные удары в груди – били не извне, били изнутри, и эти удары казались ему куда чувствительнее, чем прежние, потому что каждый из них приносил новые вспышки жара сначала где-то под левой лопаткой, потом под правой, потом в горле, в животе, в том, что еще недавно было руками и ногами, и, наконец, во всем огромном холодном куске мяса, которое еще совсем недавно было Гвирнусом, а теперь…
Теперь просыпалось вновь, потому что, когда его в очередной раз ударили по щеке, он открыл глаза (так ничего и не увидев, кроме ослепительной белизны), открыл рот и, едва ворочая непослушным языком, выругался:
– Вот я сучки-то тебе пообломаю!.. Тьфу!
Далее был сон.
Но сна Гвирнус не запомнил, зато хорошо запомнил скрип снега, шуршание лыжных полозьев, непонятно откуда знакомый запах, исходивший от того, кто с каким-то непонятным упрямством волок непослушное тело нелюдима по рыхлому снегу, ворча, ругаясь, то и дело останавливаясь передохнуть. На остановках Гвирнус засыпал, но долго спать ему не давали: всякий раз, прежде чем двинуться в путь, его неизвестный мучитель принимался за прежнее – удары сыпались на охотника один за другим. И уже не жар, а самая настоящая боль заставляла Гвирнуса очнуться; стоило же ему хоть немного прийти в себя, непослушный язык извергал целые потоки ругательств, которых, похоже, и ждал его мучитель, поскольку тут же в ответ раздавалось довольное кряхтение и неприятный скрипучий голос бормотал:
– Живучий, вишь. Так-то, не спи.
И они снова двигались в путь.
Снова шуршали полозья. Поскрипывал снег. Ворчал неведомый мучитель: «Вот ведь какой тяжелый… Ведмедь да и только. Ругается еще». Снова хотелось спать. Где-то в глубине сознания Гвирнус понимал, что спать нельзя; однако не так-то легко было противиться сладостной дреме, поэтому во время движения нелюдим старался приметить всякую мелочь, будь то тяжелое сопение впереди, уханье филина или же глухое журчание пробившего себе дорогу под снегом ручья. Везли Гвирнуса на чем-то вроде вязанки хвороста, лежать было неудобно, хворост вяз в глубоком снегу. Заваливался куда-то вбок. Охотник падал лицом в снег и, не в силах пошевелиться, ждал, когда чужие руки уложат его обратно.
Чужие руки укладывали.
Чужой же язык при этом бормотал чуть ли не в самое ухо:
– Вот ведь! Возись тут с тобой. И так жрать нечего… Разве что волчатину твою… Где шатался-то? После того, как волков… Ай-я пол-леса обегала. Два дня, говорит, как нет. Таисья все уши прожужжала. Вишь, в лес погнала… А он… Хорошо, не замерз…
«Кто это? – думал про себя нелюдим. – Таисья? Какая Таисья?»
– Лай, ты?
– Я, а то кто же?
– Лай?
– Ну?
2
Он снова спал.
А может, и не спал, потому что отчетливо ощущал, как тают на лице редкие снежинки, как гулко стучит в груди сердце, как напряжена спина волочившего его охотника.
Лая.
Того самого, чьи стрелы бродяга отшельник выбросил в костер, потому что…
Он – вурди.
Да, он, Гвирнус, видел вурди.
Эта мысль обдала нелюдима жаром, охотник неловко дернулся на своем жестком ложе – тело не слушалось; но Лай почувствовал его движение, резко (слишком резко) обернулся:
– Очнулся?
Взгляд настороженный, злой. И лицо.
Странное какое-то. Пустое. Что-то у него было. С лицом.
Сердце нелюдима дрогнуло – он поспешил закрыть глаза.
«Да. Я сплю».
Снова открыл их, стараясь смотреть куда угодно, только не на это лицо.
– Лай?
– Вот заладил: «Лай, Лай». Женке моей спасибо скажи. В жизнь бы перед праздником в лес не пошел. – Голос охотника звучал успокаивающе. Но Гвирнус не верил этому голосу.
«Праздник? Какой праздник? Ах да! Солнцеворот. Врет», – неожиданно понял нелюдим.
– Тьфу! – сплюнул тащивший его охотник. – Два дня невесть где шлялся. Не помнишь?
– Нет.
– Сам идти сможешь?
– Не…
– Вот заладил: «нет, нет», – усмехнулся Лай. – И как меня на чем свет клял, не помнишь? Стрелы-то тебе, вишь, мои с чего не подошли?..
– Стрелы?
С головой Гвирнуса творилось что-то неладное. Стрелы. Да, отец говорил, что… Но ведь так и не проверил их нелюдим. Не успел. Или проверил? Два дня… Волки… Волков Гвирнус помнил. Керка. Зовушку. Стаю. На обратном пути… Неужели два дня?! Что же он делал эти два дня? Бегал по лесу? Не может быть. Человек в беспамятстве, да еще в голодное время… Славная добыча… Или все-таки бегал? А лес по-прежнему кружил, вот он и… Плутал? Целых два дня?! Не может быть! А Лай? Как его нашел Лай?
– Гляжу, лежишь, – донесся откуда-то издалека голос охотника. Он снова тащил нелюдима – вязанка двигалась резкими рывками. – Вроде как и не дышишь даже. А до этого-то я ведь слышал. Будто зовет меня кто-то. Тихонько так. Хрипло. Голос-то на твой нисколько и не похож вовсе. Ну, думаю, хоть не одному тащить. Ан нет. Этот-то, с голосом, как сквозь землю провалился. Послышалось, что ли?
– Лай!
Не оборачивается. Не слышит.
Нет, неспроста его нашел именно Лай.
Гвирнус вдруг почувствовал острый приступ страха.
Сейчас.
Сейчас Лай обернется.
«Уф!» В голове нелюдима вдруг вспыхнуло яркое солнце… И уже растворяясь в нем, Гвирнус понял, что именно так напугало его.
У тащившего его охотника не было человеческого лица.








