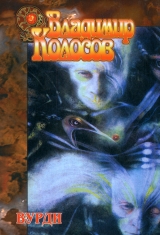
Текст книги "Вурди"
Автор книги: Владимир Колосов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
1
Дождь внезапно кончился. Лишь с листьев по-прежнему стекали большие, похожие на слезы капли. Все вокруг смолкли. Стало тихо. Так, что казалось – слышно, как плещется на другом конце Поселка рыба в реке. Потом где-то вдалеке одиноко хлопнула дверь и тишину прорезал громкий женский крик.
– Ну и куда ты делся, толстый дурак?
– Тебя ищет, – подтолкнула Норка Ойнуса.
Люди облегченно вздохнули. Нерешительно гавкнул привязанный к крыльцу Снурк, но никто не обратил на него внимание, и он сконфуженно смолк. Все смотрели на Гвирнуса.
– Вот. – Гвирнус бросил ремень к ногам Норки. – Больше ничего.
Лита жалобно всхлипнула. Остальные тоже стояли с мрачными лицами, но быстро приходили в себя. То, что произошло с Гансом, было слишком непохоже на смерть.
– Не густо, – пробормотала Норка.
(Где же ты шляешься, а? – не унималась на другом конце Поселка жена Ойнуса).
– Попадет мне. Пропали сапоги, – огорченно сказал Ойнус – он стоял в большой мутной луже, переминаясь с ноги на ногу, и грязь под его подошвами так смачно чавкала, что у Питера, стоявшего рядом, забурчало в животе: он вдруг вспомнил о завтраке. Облизнул пересохшие губы.
– Пожрать бы, – мечтательно пробормотал охотник. – А ты молодец! – грубовато, но вполне добродушно сказал он Гвирнусу. Сейчас, когда дождь кончился, дуб вовсе не казался таким опасным. Питеру было стыдно за свой страх. Охотник немного завидовал как всегда невозмутимому нелюдиму – вон и на дерево не побоялся залезть, и его, Питера, не слишком-то боится, наверняка посмеивается сейчас в душе над ним, мол, строил из себя невесть что, а как дошло до дела, так хуже распоследней бабы.
«И-эх!» – Питер снова почувствовал, как в нем закипает злость.
– Не-е… Пропали, точно. Теперь задубеют. Верняк!
– Ничего, жиром натрешь, как новенькие будут, – переговаривались за спиной Питера Ойнус с Норкой, – а хочешь, сама натру?
«Сучка! Только отвернись! Натрет! Как же! Сапоги! – Питер хмыкнул. – Другое место она тебе натрет, слизняк!»
– Бедняга! – вздохнул кто-то.
– Ну что? По домам?
– А Хромоножка?
– А чего? Очухается и опять за свое…
– Ну… я про то, зачем шли… Что ж, так и оставим, да?
– Хватит с нас и Ганса, – проворчала Гергамора, – или ты хочешь слазить, а?
– Зачем? Гвирнус слазает.
– Как же! Слазает! Срубит, и всего делов.
– Не срубит он. Дуб-то ему все равно что родня.
– Оставь ты его в покое, что пристал?
– Руби не руби, а Ганса не вернешь.
– He-а. Пропали сапоги. Попробуй-ка в них теперь по лесу походи. Все ноги собьешь, – не унимался Ойнус.
– С каких это пор ты по лесу-то ходишь? – поддразнивала его Норка.
Гвирнус вдруг резко обернулся к сельчанам:
– Будет вам! Хватит! Уходите. А то я Снурка спущу.
– Ты что? Взбесился? – не очень уверенно спросила Норка.
– Ну его… – сказал кто-то из сельчан, – пошли уж… Повеселились.
2
Двор быстро опустел.
Только Хромоножка Бо остался лежать у дуба. Никто из сельчан так и не потрудился снять или хотя бы ослабить веревку на его шее. Голова повелителя была запрокинута к небу. Затылок лежал в небольшой прозрачной лужице. К мокрым волосам прилепился дубовый листок. Лицо Хромоножки посинело, но по тому, как подрагивали уголки его губ, Гвирнус понял, что повелитель всего-навсего спит. Другой бы давно отдал концы. Этот – спит.
На то и повелитель.
«Повелитель не повелитель, а все-таки человек», – подумал нелюдим, наклоняясь над спящим.
– Что, братец, и тебе досталось, да? – Он осторожно приподнял голову Хромоножки, снял веревку с его шеи. – Так-то лучше. Все на свете проспал. С вас, повелителей, как с гуся вода. Противно аж.
– Ага, – улыбнулся своему сну Бо.
– Вот и я говорю, – проворчал Гвирнус, прислушиваясь к странной тишине в доме. Ни плаксивого, слегка по-старушечьи дребезжащего голоса Илки. Ни спокойного, ровного – Ай-и. «Как там Ай-я говорила? – вспоминал нелюдим. – Предчувствие? А ведь не подвело. Это она про Ганса. Точно». Вспомнился и снившийся ему сон. «В руку, ей-ей».
– Ладно, некогда мне с тобой возиться, – пробормотал Гвирнус. Он тряхнул разоспавшегося не в меру Хромоножку: – Вставай, братец, пора.
Бо вздрогнул всем телом, открыл глаза.
– Небо, – прошептал он.
– Что? – не понял Гвирнус.
– Небо. Синее. Хорошо.
– Куда уж лучше, – проворчал нелюдим, подавляя в себе желание треснуть повелителя по грязной шее, – тут вурди знает что стряслось, а он: хорошо, – куда уж лучше, – повторил Гвирнус.
– Хорошо, – повторил Бо, поднимаясь с земли и отряхиваясь. Нелюдим с нескрываемым отвращением смотрел на его перепачканное грязью лицо. Хромоножка с грустью взглянул на дерево. Потом на Гвирнуса. – Мне снился плохой сон, – пожаловался он.
– Всем, – хмыкнул нелюдим.
– Ладно, я пошел, – сказал Хромоножка, направляясь к калитке.
– Это не сон, – сказал ему в спину Гвирнус.
– Я знаю, – ответил, не оборачиваясь, Бо.
– А чего ж ты улыбался, а?
3
Воздух после дождя заметно посвежел. Мокрая рубаха прилипла к телу. Гвирнуса бил легкий озноб (а может, дело было вовсе не в холоде – в злости: равнодушие, с каким отнеслись сельчане к гибели Ганса, приводило Гвирнуса в ярость).
– Сволочи, – сквозь зубы процедил он, разглядывая затоптанные сельчанами грядки.
Гвирнус наклонился, поднял оставленную Питером веревку, намотал ее на локоть. Хмуро взглянул на дуб. Охотник никак не мог отделаться от ощущения, что вот-вот раздвинется листва и из нее высунется курчавая голова Ганса с ехидной ухмылочкой на губах: мол, как я вас всех тут, а? «Нет, – решил Гвирнус, – это же не повелитель какой. От повелителя так и вправду жди. А этот…» Гвирнус устало махнул рукой.
Мертв он. Мертвее не бывает.
Он поправил сбившиеся на лоб мокрые волосы. Подошел к крыльцу. Привязанный к перилам Снурк радостно вилял хвостом. Гвирнус погладил его по мокрой спине:
– Что? На волю хочешь? Ладно, дуй отсюда, наделай щенят, чтоб им всем!
Отпущенный на свободу пес тут же легко перемахнул через забор и затрусил по дороге к дому Ойнуса.
«Ага. Так я и знал! – подумал нелюдим. – Жди, Ойнус, прибавления. С твоей рыжей вишь какие лисята пойдут». Он хмыкнул и повернулся к двери.
– Все. Ушли, – сказал Гвирнус через дверь, обращаясь к Ай-е. Ему не хотелось нежданно вваливаться в дом – мало ли у них свои, бабьи разговоры.
Выждав немного, он дернул за ручку, но дверь была заперта.
– Ай-я! Что за шутки! Ушли они. Открывай!
За дверью что-то шумно завозилось, громыхнула упавшая табуретка, потом все стихло.
– Илка, ты?
Тишина.
Гвирнус невольно оглянулся на дуб. И как-то сразу весь вспотел.
«Только этого еще не хватало. Ай-я, милая, что с тобой?»
Он выхватил из-за голенища нож и, просунув лезвие в щель, скинул крючок. Распахнул дверь.
В нос ударил резкий запах эля.
– Т-ты? – пробормотал чей-то пьяный голос. Он с трудом узнал – Илка. Мешковатая фигура в грязном, залитом элем платье сидела на табуретке, покачиваясь из стороны в сторону, бормоча под нос ругательства, то и дело всхлипывая, шмыгая носом, сплевывая прямо на пол желтоватую густую слюну. Бессмысленный взгляд вяло скользнул по нелюдиму.
– Явился… г-голубчик! – пробормотала Илка. Ее раскрасневшееся лицо расплылось в ядовитой ухмылке. – Х-хороший эль! Х-хо-рошие люди. Добрые, да? – Она потянулась крючковатыми пальцами за стоявшим на столе кувшином. – Н-ну, что смотришь? Вон она… Лежит… Ха!
– Ай-я?!
Гвирнус наконец увидел ее беспомощно раскинувшееся на полу тело, тут же забыв о Гансе, Снурке, о пьяной до бесчувствия Илке.
– Ай-я? – робко повторил он.
Лежавшая на полу женщина застонала.
– Жива она, – глупо хихикнула Илка.
– Мертва. Мертвее не бывает, – прошептала Ай-я, заходясь в беззвучном плаче. – Нет, не я. Он… Он… – Ее руки обнимали, мяли, тискали, поглаживали живот, и Гвирнус вдруг с ужасом понял… похолодел… пробормотал, чувствуя, как немеет во рту язык:
– Умер, да?
Часть вторая
ГЕРГАМОРА
ГЛАВА ШЕСТАЯ1
К вечеру в Поселке слегло трое мужчин: Ойнус, Гей и один из охотников – одноглазый Рольф, больше известный под прозвищем Глазастый, ибо единственный его левый глаз не закрывался даже во сне. Рассказывали, в детстве бедняге посчастливилось нарваться на ведмедя, вот и распрощался с глазом, а заодно и со всей правой половиной лица. Улыбнется – кого хочешь в дрожь вгонит. Поговаривали, потому и охотник удачливый: как на какую зверюгу посмотрит, так та и замрет.
Наутро и до женщин дошла очередь. Сначала к Лите привязалось. Ночью они с Норкой Ганса элем поминали. А как рассвело – Норке ничего, а Лита пьяным-пьяна. Время прошло, эль уже давно из головы выветрился, но Лита по-прежнему – ноги не держат, глаза блестят, и все время пить просит. Норка в нее полведра влила – все без толку. А потом и того хуже стало. Норка из дома Литы как ошпаренная выскочила и ну по Поселку языком молоть: мол, баба-то по смерти мужа совсем рехнулась. Зверюга лесная, а не баба. Рычит. Воет. Колесом по хижине ходит. Всю посуду в доме перебила, всю пыль собой подмела. С губ пена желтая. На шее желвак синюшный – почти с кулак будет, а как платьем за гвоздь зацепилась, порвала, так и видно стало, что вся такая. С ног до головы. Синюшная. В прыщах. А которые из них прорвались, так из них кровища хлещет. Лита же чешет их нещадно, как есть рвет, кровищу по себе размазывает. Ужас.
Ладно бы только это, рассказывала подругам Норка. Хуже. Куда хуже.
– Вот смотрите, – приподнимала она подол платья, – видите? Да не здесь, это меня Питер на днях поколотил. За что? Ну понятное дело, глянула на кого не так, уж не знаю, что ему померещилось. Вот! – Она тыкала пальцем в красное пятно на ляжке. – Кусила меня. Ни за что. Хорошо, ногу успела отдернуть. Не до крови. Бешеная она. Точно. Может, кто ее покусал?
Еще темнеть не начинало, как Поселок новая весть облетела: о гибели семьи горшечника. Зашел к нему кто-то по делу, видит – лежат как миленькие Гей да его сынок, Сай, на нерасстеленной постели, не шевелятся. Только мухи под потолком жужжат. И не просто лежат. А с вывертом. Будто перед смертью сами себя узлом завязали. Сай уж и опух весь. Голые ножки из-под рубахи вывалились, и видно – раздуло, того и гляди кожа лопнет. А Гей еще ничего. К полудню помер. На вид вроде здоров совсем. Зато если приглядеться как следует – вся рубаха в бурых пятнах. Видать, чирьев-то под рубахой не меньше, чем у Литы, будет. А с лица ничего. Даже улыбается невесть чему. Только улыбка опять же улыбке рознь. На эту глянешь и обомрешь. Радовался он, что помирает, вот на эту-то радость и страшно глядеть.
– А что ж Илка? – спрашивали в Поселке.
– Висит Илка. Насмотрелась, видно, на Сая-то с Геем, и пошли мозги кувыркаться. У кого хочешь с такого закувыркаются. Вот руки на себя и наложила. Только, говорят, шепнула перед смертью кое-что.
– Это кому ж шепнула?
– А вурди ее знает. Теперь уж все говорят.
– Так ведь про что говорят-то?
– Э… так вам и скажи…
– Ну… пошли тянуть…
– Ладно. Будет вам. Неужто не слышали? Про Ай-ю, колдунью то бишь, про кого же еще?
– Ай-я-то при чем? Она же второй день носа на улицу не кажет. И Гвирнус мрачнее тучи…
– Да он завсегда такой.
– Не скажи.
– Так чего ж не кажет? Дальше-то что?
– А вот потому и не кажет, что с нее все пошло.
2
А солнце в те дни (после повешения Хромоножки) жарило нещадно, так что даже теплолюбивые мухи, и те отсиживались в тени.
Птицы примолкли. В колодцах вода на убыль резко пошла. Река за Поселком обмелела.
Неделя прошла с того злополучного дня, как вдруг однажды под вечер дымком потянуло. Сначала тихонько так, приторно. Сразу и не поймешь: то ли соседи летнюю кухню раскочегарили, то ли у реки кто костерок на ушицу запалил. Когда же темнеть начало, совсем невмоготу дышать стало. Зато и сомневаться нечего: не варка это и не костерок – лес горит. И не далеко. В Лопухах, на торфяном болоте, – полдня пути. Гнилое местечко, низинка, березнячок. Торф как высохнет, так и горит. А может, отшельник какой подсобил. Охота в тех местах отменная, особенно если через Лопухи перебраться на ту сторону. Вот только попробуй-ка разберись, кто на кого больше охотится. То ли люди на зверье. То ли лес свою дань собирает. Многие оттуда не возвращались. А Гвирнус, поговаривали, и местечко в Лопухах отыскал, где косточки человеческие свалены. Много их там – отцовских, дедовских, вурди знает каких. Питер все к Гвирнусу подкатывал, мол, покажи. Отец-то его в тех местах пропал. Но Гвирнус ни в какую.
А может, и врут все?
В общем, горело.
Старики головами качали – еще день-другой ветер направления не переменит, так и до Поселка дойдет.
– Дойдет. Если не перемрут тут все. У тебя-то еще не зудит?
– А вурди его… Зудит не зудит, разве сразу поймешь? По такой жаре что хочешь зазудит.
– Слушай, а они-то в хижине… по такой жаре… трое… Вонять будут.
– Горшечники, что ли?
– Ага. Похоронить бы надо.
– Вот ты и хорони.
Ночь наступила темная, тревожная. Ни звезд, ни луны – облаками скрыло, а ни капли. Запах гари усилился – хоть нос зажимай. Кто постарше, те на улицу выйдут, носами вправо-влево поводят и давай рассуждать: это, мол, осинник горит, тут вроде еловым потянуло, а этот с болота, ишь сладкий какой!
В большинстве хижин не спали. А как тут уснешь? Вонь, духота, пекло не меньше, чем днем, и мысли всякие. Над лесом вроде ночь, а вроде небо светлее стало – горит. Видения в голову лезут. Дверь ли скрипнет, ветерок ли за окном прошуршит – уже и мерещится. То Гей с улыбочкой, то Лита синюшная. То Ай-я с травами да червяками. Варево варит. И – отчетливо так – слова непонятные, злые: шу-шу-шу.
Брр!
Уснешь, а проснешься – и себя не узнаешь. К спящему подобраться легко. Что колдовству, что хвори, что вообще вурди знает чему. Кому охота поутру язвы на себе расчесывать? Вот по ночам и не спали, а все больше днем.
3
Следующее утро не менее тревожное вышло. Еще и светать не начало (звезд на небе как не было, так и нет), а уж пол-Поселка на ногах. Кто ругается почем зря. Кто плачет – в десятке домов новые синюшники появились (после Литы прозвание пошло). Живые еще. Но оплакивали их как мертвых. Ни припарки, ни травы, ни заговоры всякие (все хитрости дедовы припомнили) – ничего не помогало.
Кое-кто пробовал было обратиться к Гергаморе (старуха поболе других всякие зелья знала), но та лишь отмахивалась, – мол, от этой хвори нет у нее лекарств. И добавляла мрачно:
– А покойников-то лучше сжигать… И хижины их. И весь скарб.
А еще советовала сидеть всем по домам, на улицу носа не казать и ждать.
Авось пронесет…
Мало толку от Гергаморы, а от остальных и того меньше. Были, правда, и такие, что слушались старуху – запирались. Ни света в окнах, ни шороха внутри. В Поселке трам-тара-рам, а у них тишина. Попробуй-ка разбери: то ли спят, то ли старухи наслушались, то ли уже в живых никого.
Такие хижины обходили стороной.
Кое-кто из сельчан (этих немного было), напротив, бродили по Поселку. Глаза полоумные, слова – и того хуже: радоваться, мол, надо, вот счастье-то привалило. Мол, смерть – она только с виду смерть. А если по сути разобраться, то и не смерть вовсе.
– А что же? – спрашивали у них те, что потрезвей.
– Радость, – говорят, а сами так глазищами и ворочают.
С ума, знать, того…
Повелители, все как есть, горшками да плошками оборотились – вроде как хворь никакой горшок не пробьет. Идешь по улице, а где-нибудь под забором валяется. Чистенький, новенький, еще и запылиться толком не успел. Сразу видно – повелитель. Только эти хитрости быстро раскусили. Как кто из сельчан увидит такой горшок, хвать о забор. Или о камень. Или еще обо что. Чтобы оборотились обратно, значит. Вы, мол, себя за людей выставляете, вот и помирайте по-людски. К рассвету двое из них чирьями пошли, так не выдержали, у всех на глазах обратно за свое – в горшки то есть. Эти горшки сразу в реку скинули: кому охота из больного горшка хлебать?
Когда же солнце из-за леса высунулось, в Поселке заполыхало. Аж с четырех сторон. По совету Гергаморы, не иначе. Жгли те дома, в которых из живых уж никого не осталось. Правда, нашлись такие, кто предлагал и живых заболевших огнем извести. Дескать, чего им мучиться, все равно помирать, зато не будут заразу разносить…
Горело знатно. Особенно Геева хижина. Полыхнула так, что и солнца не надо. Огонь – языкастый – полнеба вылизал. Треск, будто кости ломают. Жаром в лицо пышет. Хижины, которые рядом, тени чудные отбрасывают, а тени-то будто пьяные – то вправо, то влево – как ветер повернет. О том, что где-то там лес горит да к Поселку подбирается, враз позабыли. Какой там лес, здесь-то куда ближе будет.
– Э-эх!
Сельчане (зрителей немало собралось) языки как следует почесать не успели, как вдруг будто вздохнуло в горящей хижине что-то (не иначе как мертвецы), а потом стены враз покосились и так бревнышко за бревнышком на землю и оползли. Искры во все стороны. Те, кто попроворней, отскочили, обошлось. А некоторым досталось. На Касьяне (он ближе всех стоял) рубаха вспыхнула. Так он факелом заметался, кричит, сельчане от него как от синюшного шарахаются, а он, напротив, к ним, уж и не соображает от жара ничего, а все от людей подмоги ищет.
Так и сгорел живьем.
Никто не подошел.
Лишь после, когда уж и гореть нечему было, обступили. Норка сапожком его перевернула, лицом обгорелым вверх. Только лица у Касьяна не было. Пузыри одни.
Питер взглянул, отвернулся:
– На синюшного похож.
– Ага, только там-то огонь изнутри жжет, а здесь вишь как…
– Угораздило…
Пока Касьяна разглядывали, и хижина прогорела. Одни угольки остались. Бревнышки, видать, одно к одному сухие были.
– Зато и хвори тут больше нет, – прищелкивали языками сельчане.
– Какая уж хворь. Ничего нет.
– Смотрите-ка, а лес все горит!
– Ишь! Заметил!.. Глазастый тоже мне…
– Может, и он нас, того, выжечь собрался? Как хворь какую?
– Тьфу!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ1
– Он умер, – шептала Ай-я.
Она видела лица. Много лиц. Веселых. Грустных. Красивых. Не очень. Но все как одно – незнакомые, почему-то пугающие (может быть, оттого, что чужие?), а главное, их было так много и они так быстро сменяли друг друга, а иногда и накладывались одно на другое, что Ай-я давно сбилась со счета; впрочем, сто ли, тысяча ли тысяч – не имело значения. Они приплывали из ниоткуда и уплывали в никуда, и память, как ни старалась Ай-я, не удерживала их, а потому к исходу пятого дня все они превратились в одно-единственное – общее – радостное, печальное, злое, доброе, уродливое, прекрасное лицо.
И она, Ай-я, вдруг расхохоталась (чем страшно напугала бодрствующего ночи напролет у постели Гвирнуса), ибо в этом единственном лице узнала себя.
И было тысяча тысяч женщин.
И было тысяча тысяч мужчин.
И тысяча тысяч женщин звались Ай-ей.
А тысяча тысяч мужчин не имели ни лиц, ни имен.
Мужчины были огромные, как деревья, как дуб за окном. Такие же могучие. Такие же кряжистые. Такие же молча роняющие свое семя в нее, Ай-ю, и она прорастала тысячами тысяч новых деревьев, которые, едва успев подрасти, снова роняли свое семя, а она вновь подбирала, впитывала, выкармливала его.
И тысячи тысяч губ, тысячи тысяч ласкающих небо языков, тысячи тысяч потных рук – целовало, поглаживало, обнимало ее. Она чувствовала, как бьются где-то совсем рядом – только протяни руку – среди всего этого возбужденного мельтешения и суеты тысячи тысяч таких слабых, уязвимых, беспомощных сердец. Как пульсирует в жилах чужая красная, одуряющая, пьянящая, привораживающая все ее существо человеческаякровь. Как жизнь и смерть сливаются в едином сладострастном танце, где она, Ай-я, – смерть, а они – тысяча тысяч – жизнь; и тогда Ай-я, у которой вдруг выросло великое множество рук, обнимала их, ласково, нежно; наклонялась к пахнувшей потом и дымом костров коже; впивалась острыми зубками в податливую (о! это сладострастие вурди!) плоть; улыбалась и выпивала одного, второго, третьего – всех…
2
К концу пятого дня болезни Ай-и Гвирнус едва держался на ногах. Он почти не спал в эти дни: Ай-я непрестанно бредила, разговаривала с ним, поминутно просила пить. Когда же – ненадолго – она успокаивалась и затихала в глубоком забытьи, сон не шел к нелюдиму, лишь слегка туманил голову, замутнял глаза, путал мысли. Этот полусон раскачивал стены хижины, переставлял с места на место кухонную утварь, отчего Гвирнус никак не мог найти нужный ему – для бодрости духа – кувшинчик с элем. Он уже начинал подозревать, что дело вовсе не во сне, что все это проделки невесть как пробравшихся в дом дармоедов повелителей («нашли время для шуток!»). Нелюдим бормотал проклятия, поминал вурди, даже разбил – для острастки – пару пустых горшков (потом никак не мог найти, чтобы выбросить, черепки), но все было бесполезно: повелители, если они были в доме, не объявлялись, заветный кувшинчик не находился («Ведь не весь же эль вылакала Илка!»), стены все так же раскачивались («Ладно бы от эля»), а мысли путались.
Тревожные мысли.
Поначалу, наслышавшись о хвори в Поселке, Гвирнус подумал было, что с Ай-ей приключилось то же. Он чуть ли не каждый час раздевал ее, внимательно осматривал с головы до пят, с ужасом ожидая, что вот-вот появятся те самые страшные, кровоточащие язвы. Но прошел день, прошла ночь – язвы не появлялись, и мало-помалу Гвирнус убедился, что дело в чем-то другом – и вовсе ему непонятном.
На третье утро, когда Гвирнус совсем было уснул, сидя на табурете (ему уже начало сниться, что он каким-то непостижимым образом уменьшился до размеров обыкновенной мухи и ползает по Ай-е, пытаясь найти затерявшиеся в дебрях лица розовые губы, чтобы поцеловать их), постель вдруг отчаянно заскрипела. Он очнулся – звук почему-то казался страшно знакомым (когда же он слышал его?). Разлепил тяжелые веки.
Да, кровать. Скрип. Гвирнус вытер покрытый испариной лоб. Ему вдруг пришло в голову, что сон-таки сморил его именно сейчас. Ведь он, Гвирнус, в виде какой-то там мухи – это одно. Но Ай-я! Ай-я!..
Ее тело извивалось, выгибалось под одеялом так дико и вместе с тем так до одури знакомо, что Гвирнус опешил. Казалось, кто-то невидимый, третий проник в хижину, забрался как вор, воспользовавшись его, Гвирнуса, сном, в постель Ай-и и…
Ай-я приняла его!
– О-о-о! – Она стонала так, что нелюдиму хотелось заткнуть уши и бежать, бежать в лес, бежать куда угодно, чтобы не слышать этого раздирающего душу стона.
Ибо она была с другим.
Гвирнус бросился к постели, одним рывком сорвал одеяло. Он судорожно хватал ртом воздух – захлестнувшая волна ревности мешала дышать. Он был хуже пьяного: ноги подкашивались, руки дрожали от напряжения, в голове плескалась тяжелая муть. Ему мерещились тела, тысячи тел, облепивших Ай-ю, и он сам среди этих тысяч – маленькая, затерянная в бесконечности мушка. «О-о-о!» – стонала Ай-я, и нелюдим готов был застонать вместе с ней – «о-о-о!»
– Молчи! – заорал Гвирнус и, плохо соображая, что делает, замахнулся, чтобы ударить ее, как вдруг Ай-я отчетливо сказала:
– Душно. Пить! – И… Гвирнус очнулся. Дрожащими руками поднес ей кружку с водой. Ай-я отпила немного, потом (так и не открыв глаз) слабо оттолкнула его руку: – Хватит. Не хочу.
– Это я. Гвирнус, – зачем-то сказал он.
– Гвирнус, – эхом откликнулась Ай-я, снова удаляясь от него к своим видениям? снам?
Нелюдим положил ладонь на ее разгоряченный лоб:
– Спи.
– Холодно, – пожаловалась Ай-я.
– Вовсе нет, – пробормотал Гвирнус, – наоборот, жарит третий день.
– Холодно, – неожиданно капризно сказала Ай-я, – давно уже не было такой холодной весны. Я вижу, – уверенно добавила она (Гвирнус невольно скользнул взглядом по ее лицу. Глаза Ай-и были по-прежнему закрыты). – Я вижу, – повторила Ай-я, – и окно заледенело; как бы кролики не померзли, в хижину бы их, а? И ты весь дрожишь – хоть бы печь, что ли, растопил. Ты не думай, я не сплю. Ты укрой меня, пожалуйста, еще одним одеялом. Там в сундуке, за печью. Оно, правда, рваное, ну да ничего – пойдет. Просто набрось сверху и все.
– Хорошо, – прошептал Гвирнус.
Он хотел было и в самом деле достать из сундука одеяло, но Ай-я опередила его.
– Спасибо, – сказала она вдруг, – теперь теплей. Это ничего, что рваное, – я потом зашью. Странно правда?
– Ты о чем?
– Ну о том, что холодно, а духотища – дышать нечем, да?
– Да, – кивнул Гвирнус, догадываясь, что она живет сейчас в совершенно ином, незнакомом ему, Гвирнусу, мире. Его, впрочем, и самого била мелкая дрожь. Пропитанная потом рубаха прилипла к телу. Раскаленный воздух (даже в доме не было спасения от удушающей жары) жадно облизывал пересохшую кожу. Гвирнус нервно сглотнул слюну: – Да.
– Фу, какой ты смешной. Сам не понимаешь, о чем говоришь.
– Не понимаю, – улыбнулся он.
– Гарью пахнет. Посмотри, может, с печкой что?
– Это не печка – лес горит.
– Лес? – Ай-я, казалось, не очень-то удивилась.
– Лес.
– Но ведь весна еще, холодина, с чего ему гореть? Далеко?
– Не очень.
– Плохо, – рассудительно сказала Ай-я, и Гвирнус подумал, что она определенно приходит в себя.
Но она замолчала и молчала почти целые сутки, по-прежнему постанывая во сне, ворочаясь с боку на бок, лишь изредка вставая с постели и, пошатываясь от слабости, выходя на двор по нужде. Гвирнус же если и спал, то сидя на табурете, уронив потяжелевшую голову на стол. Если и ел, то прошлогодние сухари, запивая их клюквенным морсом (ему было все равно, что есть и чем запивать).
На шестое утро (еще догорала Геева хижина и носился среди сельчан объятый пламенем Касьян) Ай-я открыла глаза.
В хижине царил полумрак. Молодая луна приветливо покачивалась в небе. Тусклый голубоватый свет едва пробивался сквозь пыльное окошко, освещая стол, заляпанную элем скатерку, рядом – невесть почему опрокинут табурет, но самое главное, за столом – что-то большое, лохматое, шумно сопящее…
– Ну вылитый ведмедь, – прошептала Ай-я.
– Хрр! – не преминул откликнуться Гвирнус.
– Так-таки и «хрр»? – слабо улыбнулась Ай-я.
– Хрр! – уверенно подтвердил нелюдим и громко зачмокал во сне.
«Сколько же он не спал, бедный?» – подумала Ай-я.
Во дворе вяло – тоже, вероятно, во сне – тявкнул Снурк. Как-то странно тявкнул – коротко, жалко. И затих.
Ай-я попыталась повернуть голову, но тело охватывала страшная слабость. Однако голова была ясной. И мысли больше не разбегались, как тараканы по углам. Ай-я отчетливо помнила появление Илки, разговор с ней, отказ лечить Сая, повешение Хромоножки. Хотя… что-то важное – может быть, самое важное – все-таки ускользало, не давалось ей. Ай-я придержала дыхание, вспоминая, а в голове почему-то отчетливо выстукивало: «Сай. Сай. Сай».
– О-ох, – Ай-я вздохнула. – Я не могла, Илка, пойми.
– Мальчик, – отчетливо сказал во сне Гвирнус.
– Маль-чик, – повторила Ай-я (слова у нее выходили какие-то бесцветные, тусклые, почти мертвые. Она сама чувствовала это, и ей было немного не по себе). – Мальчик. Сай, – как-то само собой слетело с языка.
– Целься немного выше, – сказал во сне Гвирнус. – Всегда. И ветер. Посмотри на ветки. Видишь, откуда дует? Значит, правей. Так.
– А ведь он был неплохой мальчуган. Правда, Гвир?
– Что? – Лохматая голова резко поднялась над столом. – Я спал? Ты?! – Гвирнус смешно мотал головой, пытаясь проснуться, но видно было – сон не отпускает его.
– Ты еще спишь, Гвир.
– Я?! Нисколько. Темнотища, тьфу! – Нелюдим вскочил на ноги, и табуретка с грохотом опрокинулась.
– Вот. Опять. Как всегда, – улыбнулась Ай-я.
Они снова были вместе.
3
И она вспомнила. (А от него пахло – не элем, не грязным – «сколько уж дней не стиранным?» – бельем, даже не мужским человеческим потом. Пахло усталостью, болью, бессонными ночами и сотней изгрызенных за то время, что она была в забытьи, сухарей…)
– Милый. – Ай-я с трудом приподнялась на локте, другой рукой обняла (и откуда только силы взялись?) склонившегося над постелью Гвирнуса за шею.
– Мне так хотелось эля, – виновато сказал нелюдим, – хотя бы капельку. Но я его не нашел.
– Да вон же он на полке, видишь красный кувшин? – Ай-я вдруг поймала себя на мысли, что давит какое-то неприятное воспоминание. Как давила бы гадюку, ядовитого паука, любую ненавистную, угрожающую им с Гвирнусом тварь. Она из последних сил удерживала рвавшийся с губ вопрос: «Он умер, да?» Вместо этого сказала:
– Врешь ты все. Он же на самом видном месте стоит. Ты ведь просто не захотел, да?
– Я хотел. – Голова Гвирнуса нервно дернулась. – Ты была такая странная. Там. Во сне.
– Ага. И теперь ты спросишь: «Ты ведь не колдунья, да?»
– Ты – моя жена, – нежно ответил Гвирнус. – Тут все болеют. Страшно. Я думал, и ты.
– Так же, как Сай?
– Да.
– А я вот взяла и не умерла, – горько сказала Ай-я.
– Не только Сай. Уже многие.
– Это из-за меня.
– Что за ерунду ты говоришь?
– Но ведь так говорят и в Поселке, правда?
– Правда, – нехотя согласился Гвирнус, осторожно присаживаясь на край постели, – мало ли о чем говорят. Знаешь, давай лучше о чем-нибудь другом.
– Об эле, например. – Ай-я хотела улыбнуться, но улыбка не получилась. Губы лишь смешно и печально скривились. Гвирнус внимательно глядел на ее лицо, чувствуя, что она вот-вот заплачет.
– Ну его! И хорошо, что не нашел. Наверное, повелители завелись. Надо бы этот горшок, ну, красный, выбросить, а?
– Зачем?
(Она еще пыталась тянуть время, говорить о чем угодно, только не о том главном, отчего теснило грудь и сжимало горло, но уже чувствовала, что не в силах сдержать себя…)
– Ну, – говорил между тем нелюдим, – конечно, я понимаю – повелитель повелителю рознь. Я ж не Питер какой. Но у меня в доме?! Ни у деда не было. Ни у отца. В общем, сколько уж обходились. Сами. Без них. Чего уж теперь…
– Хорошо. Выбросим.
Прислушиваясь к бесцветному голосу Ай-и, Гвирнус вдруг понял – не до этого ей. «Сейчас заплачет», – снова подумал он.
– Да что с тобой?
Она не заплакала. Она лишь жалобно взглянула на встревоженное лицо нелюдима и тихо спросила:
– Он ведь там, во дворе? Да?
– Кто? – не сразу понял, о чем это Ай-я, нелюдим.
– Сын, – едва прошептали ее губы.
– Сын?
– Ты ведь его похоронил, да?
– Я?!
Теперь уже Ай-я с удивлением взглянула на Гвирнуса.
– Что это значит, Гвир? Где он? Я же видела – нет, было очень больно, – он выпал. Прямо на пол. Мертвый уже. Наверно, – неуверенно добавила Ай-я, – или он жив?
– Уф! – громко выдохнул Гвирнус, – ты из-за этого вся такая? Дрожишь… Бедная!..
Вот оно как! Он-то думал, Ай-я наконец пришла в себя.
– Бедная, – повторил Гвирнус. – Да ты на пузо-то свое погляди. Не было, ничего этого не было. Ты упала, ударилась головой, потом начала бредить – день, ночь, – я не спал, боялся, что это хворь. Но не было никого мертвого. Ну, ребенка… Он там. В тебе. Вот, – нелюдим взял ее бледную дрожащую руку и повел поверх одеяла, – чувствуешь?
– К-кажется, да, – неуверенно сказала Ай-я.
– Да вот же, вот!








