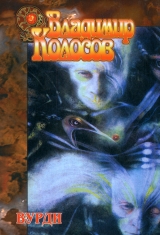
Текст книги "Вурди"
Автор книги: Владимир Колосов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Часть вторая
КОЛДУНЬЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ1
– Ну входи, что ли. Полизбы уж выстудила, хватит. Дверку прикрой. Вот так. Крючок накинь. Ишь встала… Не бойся, не съем. Оно, конечно, не ко времени – ночь на дворе. Коли б кто другой пришел – не ты, – так и верно, съесть бы не съела, а иди, милая, откель пришла. Не зря люди говорят, мол, утро вечера мудренее. Как думаешь? Что глазюхи потупила, не о том говорю? Знаю. Не про тебя это. И про дело твое слышали. Я хоть и совсем из ума выжила, да разве ж старухе много ума надо? Никому не надо. Жизнь-то она, как ни крути, все одно поумней нас с тобой будет. Мотыльки и те на свет летят. А мы, дураки, всю жизнь в потемках плутаем, сами себя не знаем. Зато горазды о других языки чесать. Заходили ко мне сегодня. Сайка зеленюшная за травой. Ильяс меду принес, я ему сына загадала. Лай Обманщик. Из повелителей, слыхала о таком? Он у Дрона Горбатого заместо табурета. Или лавки, уж не знаю толком чего. Смешной, глупый. Я, говорит, Гергаморушка, скрипучий больно стал. Мне-то оно не слышно. Пока, мол, под задницей. У горбуна. Только уж славненько хозяйка Дронова лается. Дрон слушал, слушал, не вытерпел – табурет в печь сунул, тут я и пообгорел малость. Спаси да помоги, мол, Гергаморушка. Снадобий своих, мазей то бишь, к больному приложи. А я тебе отслужу. Все одно у Дрона мне теперь не бывать. Я как из печки-то выскочил – его хозяйка на себя щи пролила… Так-то. Ну, я приложила, сделала все как полагается, только мне-то такой дурачина на что? Я ему: мол, не надоело? Мыкаться-то? Даром что повелитель – можно ведь и по-человечески жить. Избенку справить. Псину какую завести. Хозяйку в дом. Чем не жизнь? А он мне: «Я, Гергаморушка, не смогу. Сама подумай. Кто ж повелителя от человека не отличит? Да и куда мне, раз уж на роду написано. С повелителя какой спрос? А с человека… Мда-с…» В общем, ушел разобиженный, даже спасибо не сказал. Неведомо куда. К тебе не заглядывал?
– Нет. – Ай-я неловко переступила с ноги на ногу.
– Ох и болтливая я, – крякнула старуха, – жевалок вот с гулькин нос. Одна и осталась. Ильяс и не разговаривал со мной вовсе. Мол, все одно не пойму, чего время зря терять. Я и сама так мыслю. Зубы на днях Горькушке заговаривала – так три заговора извела. Своих нет – за чужие не берись… Ну чего стоишь как пень? Иди-ка сюда к печке – вижу, дрожишь. Платочек-то хоть и шерстяной, а можно было и потеплее что сыскать. Ветер вишь как разгулялся. Я ведь тебя еще днем ждала. Сайка языком горазда трепать. Значит, не вернулся?
– Да. – Ай-я наконец оторвалась от двери, торопливо подошла к пышущей жаром печке. Присела на корточках рядом, поднесла озябшие ладони к огню.
– Плохо горит, – проворчала лежащая на лавке старуха, – угару много.
– Так ведь ветер. Вот и задувает.
– Сама знаю, не о ветре речь. В прежние времена получше печи клали. А теперь – тьфу! Того и гляди угоришь, – буркнула старуха, поднимаясь с лавки. Крякнула. С трудом села, положив теплое одеяло на колени. Ай-я взглянула на торчащие из-под него худющие босые ноги, оглядела избу в поисках тапок. Губы старухи вздрогнули, расползлись в стороны, открывая черный провал рта. В едва приметных среди безбрежных морщин глазах зажегся озорной огонек. – Там они. Под лавкой. Только мне нагибаться как?
– Я помогу.
Ай-я подошла к лавке, пошарила под ней рукой. Нащупав, вытащила ветхую обувку:
– Эти?
– Они самые. Ты не смотри, что жеваные. Это моя сучка безродная погрызла. Опоила я ее чем-то… Что, опять много говорю?
– Ничего. Легче так.
– Знаю. Не дура. Цепляй уж скорей – больно сквозит.
– Вот. – Ай-я ловко обула старуху, подивившись мертвенной сухости ее кожи. И тем странным ощущениям, которые испытывала, касаясь этой кожи, – не холода, не жара, а покалывания сначала в подушечках пальцев, потом по всей руке и, наконец, во всем теле. – Вот, – повторила она, поднявшись и подойдя к ветхому столу. Задумчиво поглядела на незажженную масляную плошку. – Зажечь?
– Печки тебе мало? – ворчливо прошамкала старуха, отложив одеяло в сторону и медленно сползая с лавки. Ай-я хмуро глядела на ее странный наряд – мужскую холщовую рубаху, доходящую ей чуть ли не до колен, да сверху грязную кофту, протертую на локтях и обильно политую жирным мясным отваром на животе. – Помру я скоро, – без особой печали пожаловалась Гергамора. Она наконец прочно встала на пол. Крякнула. Молча доковыляла до стола и плюхнулась на табурет. Единственный в избе, так что Ай-е только и оставалось либо садиться на старухину лавку, либо стоять.
– Ноги молодые – постоишь, – решила за нее Гергамора и, хитро глядя на Ай-ю, добавила: – Значит, не пришел?
Ай-я кивнула. Ее начинала раздражать старухина медлительность. Уж сколько времени прошло. А дома дети. Райнус. Аринка. И если бы только они…
– Искала?
– Да.
– А следы? Может, он за лосяком каким пошел?
Ай-я вздохнула:
– Нет.
– А ты почем знаешь?
Знала. Не тот охотник, чтобы лосяк его за собой два дня водил.
– Чего молчишь-то? – усмехнулась Гергамора.
– А чего говорить? Бузинок про место сказывал. У валуна. Волки там. Мертвые. Много. Рукавицы нашел. Моего, стало быть. А следов, говорит, никаких. Уж больно ночью мело. Я днем на лыжах сбегала – так и есть. Правда все. И про волков. И про следы. Снег один. Разве что, показалось мне, чуть в стороне, за елью, кто-то стоял (вроде как веточка обломлена). Так разве ж это след? А стрелы только моего – он их по-особому метит. Не пойму я что-то… Волки вроде как ножом убиты, а некоторые и вовсе не разбери как. Головы свернуты, будто он их голыми руками… Чепуха, да?
– А стрелы? – поинтересовалась старуха.
– Так ведь ни разу не попал. Ни за что не поверю, чтоб мой таким криворуким был.
– Всякое бывает… Взять тебя. То и не заглядывала вовсе, а тут на тебе – примчалась. Твой-то небось, бывало, и подоле по лесу шастал… Ох, таишь ты что-то, деточка, а зря. Вишь какая… Упрямая. – Старуха пристально взглянула на Ай-ю. Будто хотела докопаться до самого нутра. Ай-я невольно отвела глаза в сторону. – Ага, – проворчала старуха, – так-то. Не ври. Окна-то в избе с чего позанавесила? Люди – они все примечают. Детей вот твоих нынче на улице не видать, с чего бы это? Муж в лесу запропал – это одно. Мало ли сколько охотников сгинуло. А окна занавешивать – последнее дело. Это только мне, старухе, можно. Я ж навроде как колдунья, – старуха усмехнулась, – старой карге люди простят – привыкли. А тебя, помнится, в старом Поселке не больно жаловали. Здесь-то Гвирнус твой вроде как хозяин – боятся его. Только ведь неизвестно – вернется ли? Да и не надо их дразнить, людей-то. Глупые они. Ко мне вот ходят, а у самих поджилки трясутся. А ну как я их в жабу-то и превращу? Ты-то вроде посмелее будешь. Отогрелась, вишь. Раскраснелась. Красавица да и только. Повезло муженьку. Вот только врать горазда, по глазам вижу. А что, может, и впрямь о тебе люди правду сказывали? Я ведь и сама на тебя косила – давно еще – бывалоче, к тебе кой-кого спроваживала, помнишь небось? – Гергамора хитро прищурилась, отчего выцветшие глазки полностью утонули в морщинистой коже. Жутковатое зрелище. Не лицо – маска. Ай-я старалась не смотреть на старуху, но взгляд упрямо искал эту маску. Более того, Ай-я, сама того не желая, примеривала ее на себя. – Я ведь верю людям-то, – усмехнулась старуха.
– А я нет, – сухо сказала Ай-я.
– Кому ж верить, как не им? – Глазки Гергаморы издевательски смеялись.
«Зря я пришла, – вдруг подумала Ай-я, – не поможет она. И раньше-то, бывало, как взглянет, так и не знаешь, что думать. Будто знает про все. А будто и не знает. Лет-то вон сколько! Вурди небось не раз в жизни видела. А ну как поймет?..»
– Да, вот я и говорю – себе на уме. Зря пришла, – будто прочитала ее мысли старуха, – коли правды не хочешь говорить. Без нее ох как тяжело…
– А с ней?
– Верно, детка. И с ней не легче. Но кому-то сказать надо. Кому ж, как не старой карге? Все одно – помру, с собой унесу. Не болтливая я. А то бы не только Касьян не заходил, а и бурьян у забора не рос. Или вот как тогда, в старом Поселке, тебя. Веточками обложили, кремешком чиркнули – была Гергамора и нет ее. Дело оно нехитрое. Глупое. Человеческому умишку под стать. А я ж, гляди, все живу. Потому что правды своей не боюсь. Так что и ты, деточка, не таись. Допрежь всего от себя. А после уж и от ведьмы старой. Может, чего путное подскажу. Мне о беспутном думать – годы не те, – хмыкнула старушенция. Она почесала крючковатым пальцем подбородок, подперла голову рукой. Зевнула беззубым ртом: – Ну, деточка, так с чего это детки твои второй день как дома сидят, на улицу носа не кажут, а?
Ай-я вздохнула.
– Вот ведь. Как тяжело. Врать-то, – хмуро сказала старуха. – Ну да ладно. Пытать не буду. Сама после скажешь. А пока… достань-ка мне с полки во-он тот, – она ткнула в угол заскорузлым пальцем, – во-он тот самый чан…
2
– Это из болотца. В березнячке. Недалеко от валуна твоего сыскала. Еле ведь добралась, – сказала Гергамора, держа в руке сушеную лягушачью лапку, зачем-то сунув ее прямо под нос Ай-е. Потом ловко подбросила в воздух и, поймав двумя пальцами, отправила лапку в только что закипевший чан. – Тут ведь как, – прошамкала старуха, – на ином болотце возьмешь, а оно порченое. И трава не та растет, и землица не та. И вода не из тех ключей бьет. Вроде какая разница? Что там лягушка, что здесь. Ан нет. Это как посмотреть. Квакать каждая дура может. Не боишься, что я при тебе-то? Оно ведь раз на раз не выходит. Других-то я и близко не подпущу.
– Почему? – спросила Ай-я. – Что ж во мне такого особенного?
– А ты как то самое болотце и есть. Ты лучше дальше слушай… Так вот. Квакай не квакай, а коли водица не та – в чан не годишься. Но это одно. Тут еще засушить уметь надо. Чтобы мертвая да как живая. Взять вот повелителей. Они-то обернулись чем, а только ведь сами – это другое. А тут существо чужое. Безмозглое. Не своей душой живет. Попробуй-ка такое заговори… Чуешь? – Старуха повела носом воздух.
– Не, – улыбнулась Ай-я. Ей было и страшно, и смешно одновременно. Чан на печи. Лапки лягушачьи… Разве ж это колдовство? – Не, не чую, – повторила она.
– Оно верно. Куда там с одной, – обиженно буркнула Гергамора, доставая с полки берестяную коробочку. Достала, открыла крышку. Сунула внутрь крючковатый нос. Шумно втянула воздух. Крякнула. С недовольным видом вернула короб на полку. Повернулась к Ай-е:
– Не чуешь, говоришь? Это хорошо. А вот моя безродная как унюхала б, так тотчас на двор. Не любит зверье. Запаха-то. Ты вот что. – Старуха торопливо сняла со стены глиняный ковшик, черпнула своего варева, протянула ковшик Ай-е: – Возьми. Там, под лавкой. Щель. Все лучше, когда под рукой. Поднеси, пока не остыло. К норке-то. Мышей боишься?
Ай-я выразительно помотала головой.
– Вот и хорошо. Тогда как выскочит – лови. У них другого-то хода нет, знаю. А живое – оно всяко лучше сушеного. А то вон – в коробе – хвосты сушеные, а тянет гнильцой. Видать, не уберегла. Кабы одна была – рискнула. Может, оно и ничего. Обошлось. Да ведь всякое может случиться. Увидишь потом еще какую дрянь. А нам не дрянь – нам твой муж нужен. – Гергамора подбросила в чан пучок высушенной травы, помешала варево большой деревянной ложкой. Над чаном взвился легкий дымок, варево моментально вскипело, высоко над краями вздыбилась серая пена. Гергамора крякнула, торопливо сняла с полки пузатый кувшин. Осторожно плеснула из него в чан, пена тут же с шипением осела вниз.
– Вот мы тебя, – пробормотала старуха и сердито покосилась на Ай-ю. – Вишь, уставилась, не твое это дело – гляделки пялить. Ты мне мышей лови.
Ай-я с сомнением посмотрела на ковшик. Поднесла к носу, торопливо втянула в себя едва приметный дымок. Нет, не пахнет. И от чана не пахнет – чепуха все это. Однако спорить со старухой не стала – раз пришла, так терпи до конца; не вина старой карги, что для вурди такое колдовство все одно что мертвому припарки. «Зато и без последыша оно. С такого-то колдовства жажды не прибудет», – подумала Ай-я, ступая как можно осторожнее: не пожадничала старуха, до краев черпнула, к чему добро на пол проливать?
Подойдя к лавке, она встала на колени, оглянулась на колдовавшую над чаном Гергамору.
– Правей бери, – проворчала, не глядя на нее, старуха.
Правей так правей.
Ай-я опустила ковш. Поправила сбившееся на бок платье. Только теперь она почувствовала, как жарко натоплена изба, стянула с плеч теплый шерстяной платок. Бросила на лавку. Кончиками пальцев пододвинула ковш к норе. Покачнулась – от жара и духоты немного кружилась голова. «Хоть бы дверь в сенцы приоткрыть», – подумала Ай-я, поглядывая перед собой: а ну как проскочит, гоняй потом по всей избе. Однако мышь (если она была в норе) вылезать не спешила. «Может, и впрямь лучше было б… самой?» – мелькнуло в голове Ай-и, но она тут же отбросила эту мысль. Сила вурди не беспредельна. Вылечить кого – да. Пропажу найти. Вроде как чего проще – про мужа-то у леса вызнать? Но ведь раз на раз не приходится. А расплата одна. Ох, крепко она помнила свой первый страх, когда нежные материнские руки гладили то, что прятало от детских глазенок одеяло, – руку не руку, лапу не лапу – страшное, чужое… Но и родное. Плоть от плоти ее. Ай-и. Да, Вот глупая. Потом ведь переступала. Верила: чего проще, знай держи кроликов под боком – никакая жажда не страшна. Ан нет. Мудра была мать. Не зря дочку страхами потчевала. Тут только начни – затянет, как в омут. И глазом не успеешь моргнуть. Раз, другой, третий, может, кроликом и отделаешься. А уж на четвертый без человечьей – не обойтись.
Сколько у нее по глупости было таких-то разов? Куда вернее, коли страх не за себя. А когда это-то да ради него? «Нет, – решительно подумала Ай-я, – ради него ж и нельзя».
– Самое время. Словить. Мой-то из чана уже не погонит. А твой-то в ковшике уж остыл. Думаешь не о том, вот и промешкала. Гляди, этак мы твоего у леса не выпросим, – услышала она скрипучий голос старухи, – чувствуешь, дух пошел?
Теперь Ай-я чувствовала. Вонь в избе стояла преотвратная. По полу стелился серый дым. Глаза слезились. В горле пересохло. Не жажда, но все же. Похоже. Ай-я встревоженно прислушивалась к своему телу. Не хватало еще, чтобы глупое колдовство разбудило в ней то, что дремало столько лет. Мало того, что не продохнуть, так еще и внутри… Будто режет. Под ложечкой подсасывает, но так, что знаешь – проглоти хоть кусочек, и тут же скрутит, спеленает, бросит на пол; хорошо еще, просто вывернет наизнанку да оставит после себя лишь слабость да боль. Похоже. Но не то.Слишком по-человечески. И боль во всем теле не туманит голову; напротив – все видится ясно, думается легко, и душа как перышко: дунь – и взовьется аж под притолоку, дунь еще – прильнет к окну, высматривая милые сердцу черты, дунь в третий раз – и не будет ей уже никаких преград…
– Что ж ты ее!.. Ах! – услышала Ай-я сердитый возглас старухи. Стрельнула глазами вкруг себя: ишь наглая – сидит под самым носом! Совсем крошечная, белая, черное пятнышко на спине.
Ай-я улыбнулась, на мгновение ощутив себя маленькой девочкой: хотелось смеяться, визжать (вовсе не от страха, а от какого-то неизбывного детского счастья, какого она и не ведала с той самой ночи, когда)… Почему-то плакать…
– Вот дурочка! Куда ж ты вылезла, а? – Ай-я потянулась к зверьку рукой. Не схватить – лишь погладить, приласкать; мышка торопливо обнюхала ее пальцы, встав на задние лапки, пощекотала усами ладонь.
– Хватай же! Сама ведь в руки идет, – проворчала где-то за спиной старуха.
Ай-я нахмурилась.
Но ослушаться не посмела – не у себя дома. Ловко поймала зверька. Резко встала, приметив, как непослушно тело, как невесомы мысли, как мягка и слезлива душа. Мягкий комок отчаянно царапался в ладони. Переборов искушение выпустить его на волю, Ай-я подошла к печи, протянула добычу Гергаморе:
– Вот.
Старуха зыркнула на нее, ткнула высохшим пальцем в чан:
– Сама поймала – сама и кидай. Твоего, чай, выпрашиваем – не моего. – И, заметив нерешительность Ай-и, проворчала: – Что, жаль? Троих нарожала, а все как дите малое? Оно, конечно, хорошо, когда добром… Только ты-то как думала? Лес – он жертвы любит. Да и не впервой тебе, – усмехнулась старуха, – жалей, да только жалеючи и кидай. И дыши глубже. Вот увидишь, она тебя позовет.
«Кто позовет?» – недоуменно подумала Ай-я. Ядовитые испарения теснили грудь. Каждый вдох давался с трудом. Будто уж и не воздух был в избе, а горячий кисель. Куда уж там глубже… Кидай… Легко сказать. Не женщина – маленькая девочка вытянула руку с несчастным зверьком над котлом. Горячий пар тут же обжег кожу. Ай-я попыталась разжать пальцы и не смогла. Не слушались. В мгновение ока стали чужими и яростно вцепились в маленькое пушистое тельце, которое будто почувствовало их поддержку и внезапно перестало царапаться и кусаться. Ай-я и сама удивлялась себе: будто подменили ее. Вот уж и впрямь колдовство. С чего бы это так за зверье несмышленое цепляться, а?
Гергамора тем временем подбросила еще какой-то травы («борец», – краем глаза приметила Ай-я), и пар над чаном заклубился еще гуще. Жар стал и вовсе нестерпимым – Ай-я отдернула руку. Виновато (и впрямь маленькая девочка) посмотрела на старуху. Та осклабилась беззубым ртом:
– Труднехонько, да?
Ай-я кивнула. От острых запахов свербило в носу. Она едва удерживалась, чтобы не чихнуть. По щекам сами собой катились слезы.
– Вишь, еще и виноватиться вздумала, – усмехнулась старуха, – а ты не виноваться почем зря. Не ты это – варево мое. Так ведь и к лучшему. Не ее – себя кидать будешь. Только и время терять не след. Нам бы до свету успеть. Нынче день прибывает – тут ухо востро надо держать. Коли что не так – не только день, а и вся жизнь в поворот войти может. Да и к детям успеть бы надо. А то ведь какой дурак маску нацепит, погоститься придет, детей, чего доброго, напугает… Так что ты уж, милая, кидай, – совсем ласково окончила Гергамора и легонько подтолкнула Ай-ю под локоть.
На этот раз Ай-я даже не почувствовала жара. Только слабое покалывание кожи.
Совсем как тогда, когда ненароком коснулась высохших ног старухи. Пальцы разжались легче легкого – мышка упала в кипящее варево, Ай-я проводила маленькое пушистое тельце взглядом и…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ1
В брюхе урчало.
Он остановился, жадно принюхался.
Пахло теплом, пищей и совершенно особым запахом, от которого шерсть на загривке встала дыбом, тело напружинилось, лапы намертво вросли в рыхлый снег.
Пахло человеком.
Ночь подходила к концу.
Еще темнее темного был лес, еще выглядывала сквозь еловые лапы круглобокая луна. Еще переполняла морозный воздух сонная дурь. Но он чувствовал приближение утра. Хотя бы потому, что совсем иначе гулял в глухих перелесках ветер, иначе поскрипывал под лапами снег. Иначе шумел подо льдом пробивающий себе дорогу родник.
Даже урчание в брюхе и то казалось ему иным. Приближающееся утро усиливало голод, торопило, напоминало, что которая уже по счету ночь не приносит желанной добычи, который уже по счету день придется без толку кружить по лесу – одиноким, отбившимся от стаи, чужим.
Да и была ли у него когда-нибудь своя стая?
Он не помнил.
Он слишком многого не помнил из своего волчьего прошлого, он не знал, откуда пришел, куда идет, и лишь одно чувство наполняло его жизнь пряной остротой и смыслом – и то до первого куска мяса, до первой крови, до первой тяжести в животе…
Он пригляделся.
Сквозь хаотичное кружение белых мух смутно виднелись темные избы – десяток, не больше – не жавшиеся друг к дружке, как в других подобных селениях, а, напротив, разбросанные как попало по редколесью, будто выросшие из земли; зоркие глаза внимательно осмотрели их одну за другой. Избы новенькие, еще пахнущие лесом и смолой, – даже запах человека не мог перебить их молодого древесного духа; не только, впрочем, человека – изрядно попахивало и собаками, однако, странное дело, ни одна еще не дала себя знать ни рычанием, ни лаем; волк же, по его разумению, подошел уже достаточно близко, чтоб к появлению нежданного гостя отнеслись столь безразлично.
Он настороженно оглядел темные стволы берез, избы (нет, на засаду не похоже) и трусцой засеменил к ближайшему дому.
Уже подойдя к самому крыльцу, он почувствовал, как снова встает дыбом на холке шерсть. Подался на задние лапы, попятился было назад, не в силах бороться с внезапно охватившим его страхом. Безмолвно оскалил пасть. Сейчас он бы предпочел крики охотников, визг женщин и детей, остервенелый лай собак. Но только не эту разлитую по всей округе тишину. Однако ничего страшного не происходило, и постепенно волк осмелел. Снова подобрался к самому входу. Об нюхал обледенелые доски. Обнюхал пахнущие человеческими пальцами сосновые перила. Лизнул запорошенное свежим снежком желтое пятно. Скорее всего пролитую собачью похлебку – вмерзшая в лед, она показалась волку необыкновенно вкусной. Он жадно лизнул еще раз. И еще. И еще, чувствуя сладкую истому во всем теле. В животе стало тепло. Но от этого лишь сильнее давала себя знать его пустота. Волк осторожно поставил переднюю лапу на ступень и вздрогнул всем телом – дверь избы неожиданно распахнулась, на крыльцо вышла женщина с глиняной плошкой в руках. Он не выдержал – зарычал; она же вовсе не удивилась, увидев незваного гостя, и даже не испугалась нисколько; она будто его ждала и вот теперь с радостью протягивала угощение; губы ее шевелились, выговаривая непонятные слова, улыбались; и руки, державшие плошку, были пухлые, белые; женщина даже не потрудилась накинуть на себя теплую одежду – на ней было мешковатое платье из грубого некрашеного полотна, берестяные тапочки на босу ногу, и лишь накинутый на плечи шерстяной платок кое-как защищал от мороза, мороз же был нешуточный – даже волк ощущал, как зябнут от продолжительного стояния на одном месте кончики лап. Он переводил взгляд с миски на женщину, готовый в любое мгновение отпрянуть; впрочем, готов он был и к другому – одним прыжком добраться до этого сладко пахнущего, казалось, столь доступного куска человеческого мяса и… Женщина тоже почувствовала это. Торопливо нагнулась, поставила миску перед собой, отступила к самой двери. Она по-прежнему не боялась его, но и прежней радости в ее взгляде не было. Скорее удивление (значит, так? да?); губы ее снова зашевелились, посиневшие от холода, дрожащие; не только губы – она вся дрожала от холода, даже звуки, слетавшие с ее губ, странно вибрировали в морозном воздухе.
– Вот, – и рука ее указала на стоявшую меж ними плошку, – там вкусней.
Волк не понимал слов, но и без всяких слов знал: да, в плошке что-то вкусное. Он нерешительно поднялся на пару ступеней вверх и остановился в полушаге от угощения. Принюхался. Вскинул голову. Глаза женщины и волка встретились, и оба поспешили отвести взгляд. Теперь их разделяло не более четырех ступеней. И плошка. Которая защищала человека куда надежней, чем луки и стрелы, ножи, красные языки подвластного человеку огня и оскаленные морды специально натасканных на волчье племя собак. И оба знали это. И оба, каждый по-своему, стыдились этого. Ибо сила знала свою слабость. А слабость – силу.
Ибо в плошке дымилась и застывала на морозе густая человеческая кровь.
2
Мышка-норушка…
Была и нет…
Вот увидишь, она позовет…
Ай-я тряхнула головой, прогоняя внезапно заволокшую сознание дрему. Какое-то смутное воспоминание на мгновение всколыхнуло душу, но тут же растаяло в отравленном ядовитыми испарениями воздухе. Женщина опасливо отпрянула от чана, взглянула на старуху. Гергамора стояла возле окна, как будто совсем позабыв о гостье; она что-то тихонько бормотала себе под нос (заговор ли, заклинание?), и даже чуткий слух Ай-и улавливал лишь бессмысленный шелест звуков. «Мышка-норушка… Вот тебя и позвала…» – подумала Ай-я, чувствуя сначала легкое разочарование, потом досаду, потом злость на обманувшую ее старую каргу. Все колдовство старухи казалось ей сплошным обманом. Женщина в последний раз взглянула на чан и решительно направилась к лавке – забрать брошенный шерстяной платок. Тихий голос старухи остановил ее на полпути:
– Не спеши.
Ай-я вздрогнула, остановилась. Хотела было сказать, что с нее достаточно и она пойдет домой, однако Гергамора и тут опередила. Все так же пристально глядя в окно, пробормотала невесть кому:
– Светает уже. Жди теперь гостей. – И добавила, обращаясь уже к Ай-е: – А ты не торопись, деточка. Плутать – оно, конечно, долго можно. Тут ох какой терпеж нужен. Ну да я травки кой-никакой подброшу, глядишь, повеселей дело пойдет.
«Не нужно травки. Только время терять. Возьму лыжи – весь лес обшарю, а своего найду», – подумала Ай-я.
– Сядь-ка лучше посиди, – сказала, не оборачиваясь, старуха, – в ногах правды нет. Врала бы меньше. Глядишь, уже и нашли. Чую, не пускает его что-то. А то и вовсе будто нельзя ему сейчас домой. Вот и носит его невесть где. Лес – он свое дело знает. Береженого бережет. А захочет с дороги сбить – тут уж, не серчай, даже твоего собьет. Тропку какую в буреломе закрутит. Ведмедя не ко времени из берлоги выманит. А то и встречу какую пошлет. Не выпустит, коли время пришло. А не пришло, так не в нем – в доме твоем искать надо. А то и в тебе. Ты вот окна тряпками поукрывала, чужого глаза боишься. Неспроста. Вот я и думаю, отчего б? Богатству какому у тебя не с чего взяться. Мое баловство тебе ни к чему – раз избу подпалили, вроде как хватит. Помнится, сама сказывала (не мне – людям), ребеночка твоего лес прибрал. Уж не вернулся ли? – спросила Гергамора, не отрывая взгляда от окна. Спросила тихо, будто боялась, что ее голос может спугнуть правду, как одно неосторожное движение охотника спугивает лесную тварь. И может быть, поэтому дождалась столь же тихого ответа:
– Да.
3
Запах крови пьянил.
Не сходя с места, волк потянулся к угощению. Тощие бока его подрагивали, пасть приоткрылась, обнажив безукоризненно белые клыки. Шедший из волчьей пасти пар медленно, будто нехотя, таял в морозном воздухе. И без того острая морда зверя, казалось, вытянулась еще больше. Волк в последний раз покосился на стоявшую у двери женщину. Что-то прорычал на своем зверином языке. Мол, не вздумай со мной шутить, ты здесь одна и я один, поняла, женщина?
Наклонился над плошкой.
Лизнул уже почти замерзшую вязкую жидкость. Клыки тут же окрасились кровью, но ни женщина, ни волк не видели этого. Волк лишь вздрогнул всем телом, ощутив, как болезненно сжался пустой желудок. Женщина будто и не радовалась тому, что пришедший из леса зверь принял ее угощение. Она уже не улыбалась, напротив, брезгливо хмурилась; заиндевевшие пальцы нервно теребили платье на груди, губы были плотно сжаты, на побелевших от мороза щеках выступил странный румянец.
На мгновение волк оторвался от плошки и вновь зарычал. Он тоже почувствовал перемену в настроении женщины, счел нужным повторить предупреждение. Но и только. Острое чувство голода притупило другие чувства, желудок властно требовал пищи. Волк снова наклонился над плошкой и принялся жадно лакать, торопясь покончить с угощением прежде, чем мороз окончательно превратит его в мерзлый кусок льда. Он не видел, как женщина вдруг шагнула вперед, как покачнулась и замерла, будто раздумывая о чем-то, как пальцы ее вдруг сжались в кулак. Как побелевшая от холода нога в берестяном тапке ловко поддела краешек плошки и… Плошка с грохотом покатилась по обледенелым ступеням вниз. Волк же тряхнул заляпанной кровью мордой, испуганно рванулся в сторону, ударившись о деревянные перила. Бессильно лязгнул окровавленными клыками. Подался назад. Лапы скользнули по обледенелым ступеням, тело напряглось. Падая, волк на мгновение повернулся к обидчице, и женщина успела разглядеть невероятно большие и красные глаза зверя. Не глаза, а всего-навсего один глаз, безразличный, бесформенный, оплывающий вниз странными коричневатыми сгустками. Волк еще раз отчаянно тряхнул мордой – во все стороны брызнули коричневатые капли, – а потом неловко плюхнулся набок и покатился вниз.
4
Откуда? Из какой сказки, из какой лесной были и небыли пришла к ней эта девочка?.. Чужая, несмышленая, не умеющая говорить, с серыми настороженными глазами, один взгляд которых заменял тысячи слов, тысячи тысяч слов, ибо то был голос леса, голос души, голос маленького дикого сердца и тысяч других сердец, что бьются в каждом живом существе и разбиваются с невероятной легкостью – достаточно одного неосторожного движения: раз – и чашка уже летит со стола, падает на пол, раскалывается на тысячи бессмысленных глиняных черепков, которые уже не собрать воедино, если, конечно, чашка – это чашка, а не очередной бездельник повелитель, ну их, повелителей, а впрочем…
Не важно.
– Да, – тихо сказала Ай-я, и это слово показалось Ай-е невероятно тяжелым: оно скатилось с языка и камнем упало под ноги. И старуха, казалось, не услышала – увидела его; ее глаза смотрели куда-то вниз, не на Ай-ю, на камень; Гергамора шагнула вперед, и в какое-то мгновение Ай-е показалось, что старуха непременно поднимет этот камень. Жадно вцепится в него крючковатыми пальцами. Непременно поднесет к носу, чтобы как следует разглядеть, из каких же таких сомнений сложилось это мучительное «да». Но Гергамора лишь как-то странно причмокнула морщинистыми губами и пробурчала:
– Вот и хорошо, деточка, что не утаила. Вишь какое оно… Тяжелое. Теперича легче и про остальное. И про мужа твоего. Ведомое ли дело – целую жизнь с этаким-то ходить… («О чем это она?» – испуганно подумала Ай-я). Держи, – старуха черпнула из чана своего варева, протянула ковш гостье. – Не бойся, не отравлю. Самое время водицы моей испить. Не сладкая, знаю, мертвая водица-то. Ну да на меня погляди – пила я ее, уж сколько раз и не упомню, а, вишь, тыщу лет прожила, хоть бы одна хворь прилипла. Так что носа не вороти. Она тебе правду скажет. Я ведь не всякому предлагаю. Всякому оно и ни к чему. Потому и мертвая, что всякому-то с нее жизни не будет. Это как нутро примет. Ну да не о тебе речь. – Старуха шмыгнула носом. – Бери. Нелегко мне. На весу-то держать.
Ай-я с сомнением взглянула на протянутый ей ковш. Раз уж взяла. Мышку ловить. А что толку? Разве что сболтнула лишнее. Про найденыша. Так ведь не колдовство это. Измучилась вся. За два дня-то. Детям невесть что наговорила. Райнуса для науки ремнем отцовским огладила. К старухе уходила – не спал. Нос из-под одеяла высунул, думал, не заметит мамка. Глазенки настороженные, злые. Ремня все не может простить. А то и не ремня. Два дня из дома не выпускают. Отец опять же невесть куда пропал. Окна тряпками позанавешены. А ради чего? Шила-то в мешке не утаишь.








