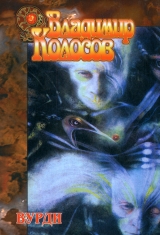
Текст книги "Вурди"
Автор книги: Владимир Колосов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Двор. Второй. Третий. Эта улица была пошире, и дома на ней выглядели подобротней, не такими скособоченными, как те, что ютились на самой окраине. И если там во дворах стояла тишина, то здесь нет-нет да и похрюкивали в своих загонах свиньи, сонно квохтали куры, позвякивали глиняные колокольчики на шеях спящих коров. Лишь в двух или трех окнах бродяга увидел тусклый пляшущий свет масляных плошек. Большая часть Поселка спала.
Большая, но не вся.
Проходя мимо одного из дворов, он услышал скрип колодезного колеса и, пригнувшись, приник к заборной щели, высматривая, кому это среди ночи потребовалось вдруг ходить за водой. Тем более, что света в окнах не видать, а значит, кроме стоящего у колодца, других бодрствующих нет. Мужчина? Женщина? Колодец он видел достаточно хорошо. Но тот, кто интересовал бродягу, был скрыт от него большим кустом черемухи, так что ему пришлось чуть сдвинуться вправо.
«Ага! Ну ты-то от меня не уйдешь».
У колодца стояла женщина.
Стояла спиной к бродяге, наклонясь вперед; в ярком лунном свете пришелец отчетливо видел лишь туго обтянутые ситцем ягодицы – не большие, не маленькие – в самый раз. Ног разглядеть не удалось – скрывала длинная юбка. Но и увиденного вполне хватило, чтобы бродяга тихо, одним прыжком перемахнул через забор. На мгновение замер – услышала, нет? Еще через мгновение он уже лежал за кустом черемухи и осторожно стаскивал с плеч драгоценный мешок. Стащив, положил рядом с собой. Погладил его рукой – теперь скоро. Не без удовольствия почувствовал, как тонкий скрученный жгутом ствол ползуна вдруг резко дернулся, будто пытался избавиться от непрошеной ласки. «Ага, живой». Убрал руку. Осторожно выглянул из-за куста.
Теперь женщина была видна целиком.
Она стояла у колодца и, наклонив ведро, жадно пила мелкими глотками, пила так долго, что Плешак засомневался: а здорова ли? Наконец оторвалась от ведра. Выпрямилась. Крякнула. Вытерла тыльной стороной ладони влажные губы. Бродяга смотрел во все глаза. Давненько он не видел женщин. Уже и забыл, какие они. Теперь, впрочем, вспомнил. И глядя на ту, что стояла перед ним, понял – она. Другой не надо. А надо именно такую. С пухлыми, красивыми руками. И губами – благо луна старалась вовсю, видно как днем – полными, все равно, сколько ни вытирай, влажными, даже слегка поблескивающими в лунном свете. С призывно распирающими ситец тыквами грудей. Даже с таким вот лицом (с лица воду не пить), слишком круглым (что висящая над Поселком луна), слишком бесформенным, зато и слишком жадным той особого рода жадностью, которая так и притягивает разгулявшихся по весне самцов.
«Ты одна? – мысленно поинтересовался бродяга у женщины. И тут же ответил сам себе: – С таким-то жадным до удовольствий лицом? Муж-то, верно, на охоте. Да, одна».
Тем временем женщина снова наклонилась к ведру. Сделала несколько, на этот раз больших и жадных, глотков. Потом оттолкнула ведро от себя, и оно с грохотом полетело в колодец.
Вовремя.
Плешак как раз развязывал тугой неподатливый узел и, не удержавшись, тихо выругался:
– Чтоб!..
«Тебя», – застряло в глотке – он испуганно взглянул на стоявшую у колодца. Нет, не услышала. Падавшее в колодец ведро грохотало так, что он мог ругнуться и в полный голос. Вскоре раздался плеск – ведро достигло дна. Плешак услышал, как женщина что-то пробормотала себе под нос, но слов не разобрал.
Проклятый узел («Сам же завязывал, дурак») не поддавался. Бродяга вцепился в него зубами, чувствуя, как все сильнее дергается в мешке ползун. «Да погоди ж ты!» Упрямый конец медленно заскользил из стягивающей его петли. И тут, к ужасу своему, бродяга-отшельник услышал:
– Эй! Ты кто?
Никакого страха в ее голосе не было. Скорее любопытство. И еще что-то странное, отчего пришельцу вдруг стало не по себе.
– За кустом ты, – уверенно сказала женщина, – вылезай. Не бойся. Не трону.
– Вот еще, – буркнул Плешак, – бояться… – Однако вылезать не спешил. И окончательно развязывать мешок тоже. Вроде кричать она не собирается. И не боится вовсе. А ну как добром пойдет?
– Ага! – довольно сказала женщина. – А я уж думала, зверь какой забрел. Собаки-то не держим. Сдох пес-то. Как хозяина не стало, так и… «Что ж это у них – на мужиков мор, что ли, напал?»
– Ладно, вылезай, – продолжила женщина, – чего под кустом бока отлеживать. Что-то я по голосу не пойму… Дрон, ты? Хотя нет, – сказала она сама себе, – Дрону хорониться ни к чему. Он свое дело знает. Гнилуха, что ли? Я ж тебе сказала: будешь шастать – болтушку-то оторву. Не про тебя честь… Эй! Уснул, а?
Плешак приподнялся на локте, выглянул из кустов:
– Не-е…
Почему-то он был уверен – эта не закричит.
– У! А волосья-то! – сказала женщина, и опять в ее голосе не чувствовалось страха. Даже любопытства не было. Только простая бабья уверенность – раз пришел, значит, надо. И понятное дело, чего. Она сладко потянулась: – Ладно, вставай, поздно уже. Я только Гнилуху не люблю – от него чесноком воняет. А не чесноком, так зубами его гнилыми. Знаешь Гнилуху-то?
– Не-е. – Бродяга встал с земли, крепко сжимая в руке мешок, ибо ползун вовсю рвался на волю. А зачем ему воля, коли баба сама в руки идет? Хоть и потаскушка, сразу видать, ну да это его не пугало – в лесу-то, кроме него, мужиков днем с огнем не сыщешь.
– Не-е, – повторил он.
– Вот я и гляжу – не встречала вроде. – Она облизнула полные губы. – Вот пью, видел? Никак напиться не могу…
– Ага, – глупо сказал бродяга, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. Уж больно складно все получалось: ни тебе крика, ни страха в глазах, вроде как даже наоборот приглашают – мол, давай, что же ты стоишь, не видишь, какая я?
– Хорош! – весело сказала женщина. Ее взгляд бесцеремонно ощупал пришельца с головы до ног. И уж конечно от него не ускользнули ни потрепанный вид стоявшего перед ней мужчины, ни то, что почище всякого ползуна рвалось из его штанов. Он поймал этот взгляд – жадный, не по-женски откровенно грубый, – и ему снова стало не по себе.
Углядела и мешок.
– Чего спер-то? Надеюсь, не у меня?
Он что-то неразборчиво хрюкнул.
Она коротко хохотнула, показав белые зубы, и торопливо сказала:
– Ладно, это я так. Нечего у меня красть. Мне ваш брат носит, так ведь надолго не хватает. А что есть, вот оно, на месте. – Она показала рукой куда-то в глубь двора. – Только что проверяла, знаю. Плевать мне на твой мешок. А то вон к соседям могу пустить – у них свинья опоросилась, тащи, коли унесешь. Хочешь?
– Не-е.
– Как немой прямо. Только и знаешь некать. И стоишь как чурбан. Ты мне вот что – ведерко из колодца достань. Не могу я – жажда замучила. Полведра вылакала, а будто и не пила вовсе. Достанешь?
Он пожал плечами. Странная жажда. Вроде и не больная – веселая, в теле, взгляд хоть и лихорадочный, так понятно вон как на колодец глядит, будто весь до дна разом выпьет. Он снова вспомнил о вурди. И о колышке, запрятанном в голенище сапога.
– Мешочек-то брось.
«Будет тебе. Баба как баба, у страха-то глаза велики».
Однако мешок свой, понятное дело, не бросил. И к колодцу прошел осторожно, бочком, не выпуская из виду глядящую на него женщину. Ее красивую дебелую шею. Грудь. Пухлые губы, на которых играла усмешка: мол, пришел мужик, тоже мне, вроде к бабе, а от бабы чуть не шарахается, вроде болтушка аж штаны рвет, да, видать, без толку.
– Убогий ты какой-то. – Голос ее звучал почти презрительно. – Так-то ничего, мало таких крепких мужиков в Поселке осталось. И не молодой уже. А как к бабе подойти, не знаешь.
– Знаю, – глухо сказал он, свободной рукой крутанув колодезное колесо. Цепь нехотя заскрипела.
– Черпнул?
– Полное. Тебе хватит.
– Ну вот. Хоть слова дождалась. Значит, не немой, язык есть. Только уж больно басовитый. Говоришь, что рычишь…
– Не нравится?
– Почему ж?..
– Думаешь, соседей разбужу? – Он уж и думать забыл, что может попасться, как лесной зверь.
– Детей. – Она усмехнулась. И пристально посмотрела на него. – А ведь ты не наш. Отшельник ты. Из леса. И как это я сразу не поняла?
Он вздрогнул, но колесо не отпустил – видел: говорит она безо всякого страха. А глаза стали и вовсе масленые, небось на своих, на соседских, так и не смотрела никогда.
– Значит, не боишься? – Он вытащил полное ведро, поставил на край колодца.
– Я?!
– А то кто же?
– Боялась бы, так ты бы здесь не стоял…
– Это почему ж?
– Кричу громко. – Она усмехнулась. – Показать?
Он выразительно мотнул головой: нет уж, не надо, верю.
– А вот ты трусоват. Ишь глазюки как бегают. Даже колышек осиновый припас… Вон, в сапоге… Думал, не вижу?
Он молча подвинул к ней ведерко: на, пей.
Она поняла. Улыбнулась: успеется. «Дай хоть поглядеть на тебя. А то над ведерком-то склонюсь, тут ты мне по макушке и дашь. Очнусь где-нибудь середь леса – кричи не кричи, а кроме тебя, волосатого, на семь дней пути никого. За бабой пришел?»
Он пожал плечами: мол, сама видишь.
– А зачем же еще? – ответила на свой безмолвный вопрос женщина. – Хочешь помогу?
Он усмехнулся. И опять промолчал. Хитрая баба. Знает, чего хочет. Палец в рот не клади.
– А то заявился, ишь ты!.. С колышком!.. Видать, сто лет в лесу. Не то знал бы – нету их, вурди. Сто лет, как нету. Повывелись все. Будешь, дурак, от каждого куста шарахаться… Так помочь?
– Пей, – сказал он на этот раз вслух.
– А ну ее! – Она похлопала рукой по животу. – Брюхо что у беременной. Ишь как раздулось. Не с руки будет… Нам… С тобой…
Он хмыкнул.
– Значит, согласен?
– Да.
– Вот и хорошо. Не пожалеешь. Я потом соседку выманю. Ласку. Тебе понравится. Только потом. – Женщина выразительно взглянула на пришельца. – Потом, слышишь?
– Ага.
– Идем. – И она поманила его рукой в сторону дома.
Однако повела не в дом. Они миновали крыльцо, темное слюдяное окошко, завернули за угол, и Плешак увидел скособоченную сараюшку с дырявой крышей, без окон, без дверей, если не считать приставленной рядом с темным входом, видать отвалившейся, дверцы. «Да и что это за дверца, – подумал Плешак, – сплетенная из ивовых прутьев, ни от зверя, ни от человека, так, баловство».
Женщина шла впереди, доверчиво повернувшись к нему спиной. По всей видимости, считала – сейчас не опасно: какой же мужик от удовольствия откажется? Тем более с такой болтушкой в штанах? Плешака же так и подмывало открыть мешок, тем более, что его вновь начали охватывать сомнения. Повывелись! Как же! Вчера, может, и повывелись. А сегодня – уж не заманивает ли она его? «Эх, как бы не того…» – думал он.
Но шел за женщиной как на привязи. И вместо того чтобы выпустить ползуна, на ходу завязал мешок, вытащив из-за пазухи припрятанный обрывок веревки. Не сильно завязал – дерни и готово, но ползуну не вылезти. Незачем пока. Все-таки сама, добром идет. И с бабой помочь обещалась. А кто его знает: может, Ласка не хуже будет?
Возле сараюшки женщина остановилась:
– Здесь.
Он тоже остановился, вопросительно посмотрел на нее. Лезть туда первым не хотелось.
Она поняла. Кивнула:
– Пугливый.
И, нагнув голову, чтобы не стукнуться о низкую притолоку, нырнула внутрь. Плешак подошел к темному входу. Оттуда сладко тянуло прелой травой, яблоками и едва уловимым запахом цветов.
– Ну же! – Ее голос из сараюшки звучал ласково и призывно. Но главное – успокаивающе.
На всякий случай плюнув через левое плечо (не очень-то он верил в эти обереги), Плешак пролез внутрь… И не успел как следует оглядеться, как чьи-то сильные и мягкие ладошки толкнули его в бок. Он инстинктивно отмахнулся рукой, при этом чувствительно ударившись локтем о сучковатый дверной косяк. Потерял равновесие и полетел в мягкую травяную постель.
За спиной выразительно хихикнули.
– Тьфу! Дура! Так-то зачем?
– Так ты б до утра гляделки пялил, – смешливо ответила женщина.
– Как звать-то? – буркнул он, чувствуя, как кто-то (она, кто ж еще?) торопливо стаскивает левый сапог. И то хорошо. Нож и колышек были в другом. – Как звать-то тебя, а? – повторил Плешак, а сам торопливо согнул правую ногу в колене, быстренько скинул обувку, отложив ее в сторону. Но недалеко. Чтобы и нож, и колышек, оставшиеся в голенище, были под рукой. Рядом с мешком.
– Зовушкой звать, – весело откликнулась женщина. Она наконец стащила сапог, и тут же послышалось деланно брезгливое: – Фу!
– Взопрели малость. Что поделаешь – без сапог по лесу никак.
– Да ты ноги-то когда моешь?
Во зловредная баба!
Плешак сердито хрюкнул, на что она весело рассмеялась:
– Да ладно! С гнильцой оно и вкусней!
Зашуршала солома. Женщина лезла к нему. От пряных запахов кружилась голова. Сосало под ложечкой. Солома казалась теплой, почти горячей. Рубаха на спине моментально взмокла. Он торопливо развязал шнуровку. Попытался сесть, чтобы скинуть одежку через голову, но тут же получил легкий толчок в грудь: лежи, я сама.
Мягкие руки Зовушки ласково касались его плеч, рук, живота. Вот они ухватили рубаху, потянули куда-то вверх.
– Приподымись.
Он послушно приподнялся, рубаха будто сама собой скользнула через голову. Он снова лег, почувствовав щекочущее прикосновение сухой травы. И боль в локте – все-таки поранился, когда отмахнулся у входа; а зачем отмахнулся? От кого?
Глаза постепенно привыкали к темноте. Бродяга запрокинул голову: сквозь драную соломенную крышу просвечивали звезды. Струился серебристый лунный свет, который рисовал на полусгнивших бревнах стены замысловатые рисунки. Взгляд скользнул по стене – в углу поблескивало острое лезвие косы. Рядом – ржавые вилы, несколько непонятного назначения чугунков. Они не стояли на полках, а висели на вбитых в бревна гвоздях. «Такие в доме хранят, не вурди знает где», – подумал Плешак и снова выругал себя за опасное для здешних мест ругательство. Ох, не верил он этой Зовушке.
– Ты это… – начал было он и тут же почувствовал, как ее торопливые руки начали развязывать шнуровку на холщовых штанах. Его бросило в жар.
– Ты это… Со мной-то… почему?
Ее руки замерли, как испуганные зверьки.
– Ты что, не знаешь?
– А что знать-то?
– А то!
Она зло дернула за узел.
– Так не развяжешь. Дай-ка я сам.
– Угу. Ты и впрямь не знаешь, да?
Он кивнул. Глаза окончательно привыкли к темноте, и теперь Плешак прекрасно видел сидевшую возле него женщину. Ее распущенные волосы. Голые (и когда это она успела скинуть платье?) плечи. Белые руки. Широкие бедра, которые так и хотелось огладить, но было не до того – он пыхтя развязывал натуго затянутый шнурок. В темноте да спешке – не очень-то и развяжешь. Он беззлобно ругнулся. Женщина насмешливо шлепнула его ладошкой по голому животу:
– Что, никак? Кто ж так завязывает? А если по нужде?
– По нужде-то оно проще, – проворчал бродяга.
– То-то и видно – нынче-то большой нужды нет.
– Будет тебе…
– Ничего. Разговеешь. Я горячая.
– Оно и видно.
– Знаешь, это хорошо, что на мой двор забрел. А то попал бы к этой дуре Стешке, чего доброго в лес бы ее уволок – тебе бы потом житья не было.
– Это отчего ж?
– Ты про Стешку?
– Нет. Про тебя.
– А! – Женщина отбросила со лба непослушную прядь. – Примета такая – кто из баб с отшельником встретится да леса избежит, той и муж добрый, и зло стороной обходить будет.
– Да?
Узел наконец поддался, и бродяга торопливо стянул с себя штаны. Зовушка легла рядом, прижавшись теплым животом к его боку, упругие груди легонько касались плеч отшельника. Руки нежно обвились вокруг заскорузлой шеи. Он почувствовал ее теплое дыхание на губах.
– Значит, муж? – усмехнулся он. – Тебе-то такой зачем?
– А какой? – В ее голосе зазвенела обида. Она на мгновение отстранилась, но тут же прильнула к его рту горячими влажными губами.
Он задохнулся.
Голова кружилась, горячий шар катался от макушки до самых пят. Бродяга грубо облапил женщину, потянул к себе. Она оторвалась от его губ:
– Погоди. Пахнет…
– Лесом?
– Нет. Сладко. Что-то мне нехорошо.
Он сжал ее сильнее. Зовушка уперлась кулаками ему в грудь:
– Погоди ж ты, все кости переломаешь… Дурак!
– Говоришь, сладко? – Он тяжело дышал. – От сена это. Горит оно.
– Нет. – Женщина попыталась высвободиться из его объятий. – Не сеном. Чем-то другим пахнет. Отпусти ж!
Плешак выругался, но руки разжал. Знакомая тревога холодком пробежала между лопаток. Пахнет, вишь! Ох, крутит баба! И чего, спрашивается? «А то ты забыл, – зло подумал бродяга, – все они горазды хвостом вилять». Эта мысль успокоила отшельника. Плешак вновь потянулся к женщине.
Она заискивающе погладила его локоть. Вдруг вздрогнула, будто обожглась обо что, поднесла ладонь к лицу. Жадно обнюхала пальцы; резко отстранилась от бродяги и села, широко раздвинув поджатые под себя ноги.
У Плешака зашлось сердце.
– Эй! – призывно выдохнул он.
Женщина не отозвалась. Затуманившиеся глаза ее смотрели куда-то в сторону. Рот был крепко сжат, а белые плечи мелко вздрагивали – то ли от холода, то ли смеялась беззвучно. То ли плакала…
– Эй! – зло повторил бродяга.
Она скосила глаза на него. Растерянно моргнула. Вдруг улыбнулась и, потянувшись сладко, подставила под холодные струи лунного света пухлые груди. Только сейчас Плешак разглядел на сосках женщины тяжелые белые капли.
Женщина проследила за его взглядом, лукаво улыбнулась:
– Нравится? Вишь, капает… Хочешь? Много его. Моему-то столько не надо. Все одно сцеживать, а?
И снова улыбнулась. Как-то недобро, показалось бродяге, но он тут же забыл об этом, ибо женщина и в самом деле наклонилась так, что упругий сосок ткнулся ему в губы. Прохладный, влажный. В рот брызнуло теплое молоко – Плешак судорожно глотнул. Женщина странно хихикнула, навалилась ему на лицо мягкой грудью.
– Пей. Только смотри, – ее грудь вздрогнула, – бешеное оно у меня.
– А?
– Шучу… Пей…
Он пил до тех пор, пока не высосал все до последней капли, потом блаженно откинулся на спину. Грудь тут же исчезла, словно растворилась в ночном сумраке. Остался лишь стук сердца да шумное дыхание Зовушки. Где-то совсем рядом, где-то очень и очень далеко.
Бродяга вытер ладонью влажные губы, подбородок. Дремотная истома растекалась по всему телу. Он не чувствовал ни рук, ни ног – лишь приятный жар в голове. Немного успокоившись, повернулся к женщине – она смотрела на него. Странное дело, Плешак вовсе не хотел ее. Разве что обнять, погладить по распущенным волосам, ткнуться носом во влажную ложбину меж двух белоснежных холмов. Она же, словно чувствовала это, сидела подле без движения и лишь неотрывно смотрела на его немного растерянное лицо. Он протянул руку, чтобы коснуться белоснежной груди. Женщина перехватила ее, острые ноготки ощутимо впились в кожу:
– Не надо. Тебе понравилось?
Он молча выдернул руку:
– Эй! Больно же так!
– Сладкое?
– Горчит.
– Перестояло. Лишнее оно. Вот и захотелось. Глупо, да?
– Тебе холодно?
– Вовсе нет.
– А дрожишь, – буркнул бродяга, вглядываясь в ее размытое сумраком лицо. Доселе бесформенное, рыхлое, оно заострилось, в нем чудилось что-то птичье. Сейчас она казалась ему даже красивей, чем там, у колодца. Ей шли и этот игривый лунный свет, и этот немного грустный, немного хищный разрез глаз, который появился только теперь, – а может, раньше он просто не замечал его? Даже взгляд, жадный и одновременно жалкий, притягивал бродягу. Он вновь подумал, что не надо ему никакой Ласки, полежит еще немного вот так, рядом с Зовушкой, и выпустит-таки ползуна, и унесет это прекрасное тело с собой…
Разморенный, дремотный («А сонное молочко-то»), он закрыл глаза. Почувствовал, как она схватила его руку.
Услышал ее низкий с хрипотцой голос:
– Теперь я…
– Ты о чем?
– Ни о чем. Руку-то поверни.
– Неудобно.
– А ты на живот ляг. Так лучше. Вишь, поранился, сам не чувствуешь, что ли?
– А? – Он зевнул. Сладкая дрема овладела всем телом, даже язык, и тот ворочался с трудом. – Это я о косяк. Пустяки.
– Кровь-то идет, эй, слышишь? Еще как идет. О гвоздь что ли? – Она не говорила – бормотала. Что-то в ее голосе было странное. Нервные, надрывные нотки зазвучали в нем – казалось, она пытается сдержать в себе нечто большее, чем это бормотание, – крик ли, плач?
«Будто немного не в себе, – сонно подумал бродяга, – хотя давно уж не в себе», – внезапно мелькнуло в его голове. Он снова зевнул и тут ощутил, как ее горячий язычок лизнул локоть. Усмехнулся:
– По-звериному, да?
– Капля. Капелюшечка, – хрипло, чуть нараспев сказала женщина, – раз – и нету. Сладко. Ты спи, лесной человек, спи. Заживет у тебя. Быстро заживет. – И она что-то неразборчиво забормотала себе под нос.
Боль в локте утихла. «Умеет заговаривать-то, – сонно подумал бродяга. – Вишь, как вылизывает. И запах… Да. Странный. Вроде как человек, а вроде… Жажда опять же. Там, у колодца… Голос…»
Голос Зовушки все более отдалялся от него, и слова, как капли, размеренно падали с ее губ, завораживая, дурманя и без того засыпающее сознание.
– Капля… Капелюшечка… Лесной… Спи…
Он уже засыпал, когда непослушная рука дотянулась до припрятанного в соломе сапога. Колышка в голенище не было. Только нож. «Выронил, что ли?» – с дремотным безразличием подумал бродяга. Ухватил нож и несколько раз с силой ударил женщину в такую белую, такую желанную грудь…
4
Ай-я открыла глаза.
Слюдяное окошко светилось ярким серебристым светом. Во дворе шелестела листва, где-то вдалеке занудно лаяла собака. В доме стояла духотища, и Ай-я невольно посмотрела на запертую на щеколду дверь. Вот бы отпереть! Ну хоть чуточку! Хоть на пол-ладошки! А лучше – выйти на двор, поглядеть, как там ее любимец. Тот самый. С пятнышком. Просто посидеть и поглядеть. Интересно, съел ли он принесенную Ай-ей траву? Съел, наверное. Он голодный. Утром, днем, вечером – всегда. Даже ночью. Мама говорила, это потому, что он маленький и ему надо расти. А еще потому, что кролики живут по ночам. Вот смешная – как же это, по ночам? Ай-я вздохнула. Вытерла ладошкой вспотевший лоб. Тело била мелкая дрожь, однако вовсе не от холода, – ночь была жаркой, и девочка без труда представила себя лежащей на разогретой печи. Очень уж разогретой. Ночная рубаха неприятно липла к ногам.
– Ма!.. – тихонько позвала девочка и, будто испугавшись собственного голоса, осеклась, смутилась, неловко ударила ладошкой по губам. Мама спит, без дела ее будить нельзя. А как хочется! Ай-я всхлипнула (почему-то хотелось плакать). Зажмурилась – из глаз выкатились две большие соленые капли и медленно поползли по пылающим от жара щекам.
– Плохая! – прошептала девочка, укрывшись с головой.
Однако тут же откинула одеяло. Так еще жарче. И совсем нечем дышать. Она тихо шмыгнула носом. Спать не хотелось. Зато хотелось пить, хотелось плакать, хотелось избавиться от страшной рези в желудке, которая заставила Ай-ю свернуться калачиком, обхватив руками влажный от пота живот. Девочка плотно сжала губки, провела язычком по пересохшему нёбу. Пить. Почему-то очень хочется пить. И в животе, наверное, режет оттого, что в нем так же сухо, как на пыльной дороге в те дни, когда даже мама нет-нет да и посмотрит на безоблачное небо, бормоча себе под нос:
– Ишь как распогодилось, а давненько уж не было дождя…
И Ай-я представила себе дождь. Он хлынул прямо с потолка, но почему-то был совсем не мокрый, а сухой и жаркий. Как песок. Ай-я подставила ладошки – капли-песчинки струились меж пальцев, похожие на тонкие ниточки маминых волос. Вспомнив о маме, девочка не удержалась и снова всхлипнула. Нарочно погромче, чтобы та услышала, проснулась, подошла к лежанке. Провела обветренной ладонью по волосам:
– Ну что, глупенькая, что?
Но мама спала – Ай-я слышала, как она что-то пробормотала во сне. Перевернулась на другой бок. Может быть, и хорошо, что не проснулась, а то бы еще рассердилась: мол, такая большая, а носом хлюпаешь, прямо-таки беда с тобой… «Беда», – мысленно вздохнула девочка.
С трудом разогнувшись, она кое-как слезла с лежанки. Прошла на цыпочках к стоящему возле окна столу. Ухватила обеими руками глиняный кувшин. Поднесла к губам. Торопливо глотнула и разочарованно поставила кувшин обратно. Глоток. Всего один глоток. Ай-я жадно посмотрела на запертую дверь. Потом на мамину лежанку. Боль в желудке согнула ее пополам. Она тихонько ойкнула, не разгибаясь присела на краешек табурета. Такое уже случалось с ней. Но так больно не было никогда. Наверное, это от воды, подумала девочка. Вот если бы не один глоток, а много, целый кувшин, тогда бы все прошло. А с одного глотка только хуже. Лучше бы и не пила… Ай-я закусила губы, пытаясь унять боль, жажду и охвативший ее необъяснимый страх. Сердце болезненно сжалось, на мгновение в желудке стало так холодно, будто она проглотила изрядный кусок льда. Потом снова жарко – лед расплавился, забурлил, содержимое желудка подкатило к самому горлу. Ай-я сидела скрючившись на табурете, а сердце едва не выпрыгивало из груди.
Она снова шмыгнула носом. «Дура! Дура!» – мысленно сказала себе девочка, чувствуя, что уже не в силах сдержаться и сейчас расплачется, разбудит маму и вообще будет вести себя как глупая девчонка, совсем не так, как должна была бы вести себя та, взрослая, из-за которой вчера сцепились два вовсе не знакомых ей человека: вонючка охотник и нескладный парень, убежавший слишком быстро, чтобы она, Ай-я, успела сказать ему…
«Вот глупая! Он бы и слушать меня не стал. Сказал бы, таких дурочек еще поискать. Маленькая, а туда же». Ай-я взглянула на руку. Вот, пускай всего лишь грязная тряпка. Но все равно! Она не снимет ее до того дня, когда… (Девочка вспомнила ироническую усмешку матери, покраснела). Упрямо тряхнула головой – все равно! И едва не закричала от боли – кто-то страшный, безжалостный обманом проник в ее маленькое тельце и теперь рвал его на куски…
– Мамочка! Мама!
Терпеть не было сил. Ай-я судорожно дернулась, больно ударившись коленкой о ножку стола. Руки стали словно чужие. Правая висела плетью – Ай-я почти не чувствовала ее. Зато левая, с повязкой, была тяжела, ох как тяжела! Даже ведро с водой было бы легче поднять, чем эту руку. Сонный мамин голос проворчал:
– Опять бродишь, мерзавка?
Голос действовал успокаивающе.
– Мама? – встревоженно сказала девочка, боясь, что мать уснет.
– Ну что тебе?
Ай-я снова всхлипнула. И – случайно – взглядом скользнула по собственной руке.
– Что это?
– Рука?
Деревенея от ужаса, девочка смотрела на то, что еще недавно была ее рукой, а теперь…
Она попробовала пошевелить пальцами…
Пальцев не было, но то, что было вместо них, послушно поскреблось по столу.
Этот тихий скребущийся звук особенно поразил Ай-ю…
– Что это?
– Рука?
– Вишь, неймется ей по ночам. – Голос матери звучал где-то далеко. Ай-я едва расслышала его.
Приснилось?
Да! Да! Да!
– Мамочка! Мама!
Лежанка скрипнула, и до Ай-и донесся сонный голос:
– А?
Только не спи…
– Ай-я, что с тобой?
– Рука…
– Что «рука»?
– Не знаю… Мне страшно…
– Болит?
– Нет, – неуверенно сказала девочка. Боль отпустила, но лучше бы не отпускала вовсе. Она тысячу раз перетерпела бы эту боль. Даже куда более страшную боль. Даже самую-самую ужасную на свете. Лишь бы не видеть того, что видели ее глаза.
Приснилось?
Да! Да! Да!
Девочка подумала было ущипнуть себя за щеку, но тут же вздрогнула от отвращения. Ущипнуть? Чем? Этой? Рукой? Она торопливо отвернулась – не смотреть, не видеть, все, что угодно, волки, ведмеди, оно, только не эта чужая и одновременно ее собственная… Уродливая. Похожая на головешку и одновременно покрытая…
– Спи. Утром погляжу… Коли не болит, – зевнув пробормотала мать.
– Посмотри… Какая она… Странная. – Девочка вдруг успокоилась и тихо добавила:
– Ты только посмотри. Я – зверюшка, да?
5
– Баю-баюшки-баю. Вот так. Ляг. Дай-ка я тебя укрою. И ручку твою больную укрою. Положи ее на одеяльце… Не гляди. Незачем тебе глядеть. Я ее вот этой тряпочкой укрою. Спрячу. Вот так. Ну-ка! Что у нас с другой ручкой? Видишь? Ручка как ручка…
– Мам, вовсе нет!
– Я кому сказала не смотреть!
– Мам, а у Тишки тоже?..
– Что «тоже»?
– Ну, такое бывает, да?
– Какого еще Тишки?
– Он у реки живет.
– Не знаю я никакого Тишки.
– Это тот, из-за которого ты…
– Вот глупости! Рано тебе еще об этом думать. Ты мне вот что скажи: опять шалила, да?
– Мам, а откуда ты?..
– Да уж знаю, как не знать…
– Я колдунья, да?
– Ты горе мое луковое.
– Нет, правда, это из-за того, что я немножко…
– Ага! Значит, было?
– Да.
– Выпороть тебя хорошенько!
– За что?
– А за все! Ну-ка закрой глазки. Вот лучше, выпей.
– Ф-фу! Ты за этим на улицу бегала, да?
– И тебе нисколечки не нравится?
– Ну, если по правде – вкусно. Голова кружится. Это хмель?
– Еще какой!
– Маленьким нельзя.
– Взрослым тоже.
– Вот еще! Я сама видела…
– Ай-я, помолчи!
– Мам…
– Ты пей.
– Я так быстро не могу.
– Это потому, что говоришь много.
– Оно вязкое.
– Ай-я!
– Мам, а у тебя? У тебя такое было?
– Ай-я, не болтай.
– Это страшно, правда?
– Вовсе нет. Видишь, я не боюсь.
– А вот и неправда. Вон у тебя как руки трясутся.
– Опять глаза открыла, мерзавка!
– Оно красное… Мам, а я знаю, куда серый кролик делся. Я тогда подглядывала. Сидела под крыльцом и все видела. Ну, как ты его… Ты ведь и сейчас хлебнула, да?
– С чего ты взяла?
– А ты губы плохо вытерла. И вон на платье капелюшка. Мам, а кроликов для этого держат? Они же такие маленькие… Добрые…
– Тебе лучше?
– Ага. Только колет. Нет, щиплет… Так и надо? Да? Мам, можно я посмотрю?
– Дай-ка кружку. Хватит тебе. И смотреть нечего. Спи. Закрой глазки и спи. И не ерзай под одеялом…
– Так щиплет же!
– Ничего. Пощиплет и перестанет. У кошки болит, у собачки болит, у Ай-юшки все заживет.
– Мам, а я вурди видела!
– Ай-я, что за глупости?!
– Видела, видела! Вечером. Я к своему, с пятнышком, ходила, а он за забором прятался. В кустах. Ты ведь не моего с пятнышком убила, да? – Девочка вздохнула. – Что с тобой? Мам, ты плачешь?..
– Нет. Это так. Капелюшки. Спи, деточка. Спи. Все будет хорошо. Но кое-что я должна тебе рассказать…








