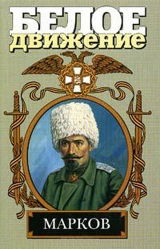
Текст книги "Наука умирать"
Автор книги: Владимир Рынкевич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Подвести бригаду к штабу, окружить. Направить туда орудия и пулемёты, войти с группой офицеров и подготовить новый приказ о назначении командующего Добровольческой армией. Думай, генерал Марков. Этого требует дело спасения армии, спасения России!
В начале восьмого синие сумерки вспыхнули дружным огнём пулемётов и винтовок Офицерского полка, загремело победоносное «Ура!». Красные ответили ураганным огнём, настолько сильным, что даже не смогли услышать, как прекратили стрельбу офицеры и скрытно, повзводно покинули позиции в казармах и собрались у заводов. Здесь полк был построен в походную колонну и направился к ферме, к штабу. Ещё до полуночи роты, заняв обе дороги на Екатеринодар, заняли оборону на склоне высоты, тянувшейся от берега Кубани до болотистой лощины. Расположились организованно, удобно и для отражения противника, и для отдыха, и для разговоров – заволновались, заговорили офицеры, когда им объявили наконец, что Корнилов погиб, а заменить его хотят Деникиным.
Небо чёрное – ни луны, ни звёзд. Родичев, пройдя чуть ли не всю позицию полка, едва нашёл Маркова. У генерала, как всегда, ни штаба, ни большой свиты, ни охраны – только он сам, Тимановский и офицеры связи, что расположились на травке. Родичев попросил генерала отойти с ним в сторонку и начал вполголоса взволнованно:
– Леонидыч, полк хорошо стоит. Скомандуй: «Кругом!» – и на штаб. Они сейчас с фермы перешли на ту сторону, в сосенки. Подходишь и принимаешь командование армией. Романовский будет за тебя – потому и вызвал твой полк сюда. Я прошёл почти все роты, и везде одни разговоры: «Командующим – только Маркова. Деникин весь поход проехал в обозе. Его никто не знает. Марков – единственный генерал, завоевавший полное доверие, абсолютную преданность, любовь, исключительный авторитет. Он ковал славу Офицерскому полку, вёл к победам, ему доверяет вся армия. Марков был правой рукой Корнилова».
В густой тьме едва различаются тёмные фигуры. На востоке – громада города с редкими огнями. Редкие вспышки выстрелов. Там прикрывает отход бригада Богаевского.
– Гаврилыч, приказ-то подписан.
– Но не объявлен. Романовский ждёт твоего решения. Решай.
– Ох, Гаврилыч!.. В бою я мгновенно решаю, а здесь...
– А они наоборот. В обозе, в тылу хорошо решают. Думаешь, на самом деле Деникин был болен бронхитом? Я же сам его осматривал. Притворялся, чтобы умыть руки, когда Корнилов планировал злополучный штурм, а тебя загнал в обоз. А что Степаныч?
– Полный день думали – так ничего и не решили. Отложили на вечер, когда от противника оторвёмся. Вот оторвались, а так ничего и не придумали.
Подозвали Тимановского, от которого попахивало хорошим вином.
– Чехословацкая охрана Алексеева достаёт вино, – объяснил он и замолчал.
– Степаныч, надо решать, – потребовал Родичев.
– Решают в штабе, – ответил Тимановский.
– Ты же знаешь, что там уже решили, – горячился Родичев. – Строить полк – и в штаб. Тогда решат по-нашему.
– Полк нельзя, – возразил Тимановский. – Командир полка – Боровский. Он... такой. Мы пойдём с Леонидычем вдвоём.
– Вдвоём уже поздно, – разочарованно сказал Родичев, махнул рукой и исчез в темноте.
– Что ж, Степаныч. Романовский давно нас ждёт, чтобы объявить приказ. Пошли связного Боровскому – пусть остаётся за меня.
Поднялись по дороге к роковому домику: выбитые окна, разбитая стена, обломки. Здесь закончился путь Корнилова, путь Добровольческой армии под его командованием. Не время его судить. Время идти дальше. Кто поведёт? Куда поведёт?
Штаб помещался в большой палатке, от её входа тянулась тонкая полоса света, резавшая ночную темноту.
Охрана окликнула, пропустила.
Если бы всё шло по правилам, то следовало бы доложить Деникину о том, что полк занимает оборону и готов к походу. Если бы ты, генерал Марков, был уверен в своём праве и не мучился бы сомнениями, то решительно сказал бы, что требуешь изменения приказа. Конечно, ты уверен, что тебе не нужна разбитая армия, а ты сам необходим офицерам и солдатам, потерявшим веру в успех и готовым разбежаться и бесславно погибнуть. Только ты, генерал Марков, сумеешь спасти этих людей, вывести их из-под удара противника, вернуть уверенность в победе и привести к победе. Но как объяснить это старому больному Алексееву, нуждающемуся в спокойствии и боящемуся конфликтов, – с Корниловым настрадался. Как убедить Деникина, что он не сумеет вести армию. Он – генерал той, большой войны, а в этой не выиграл ни одного сражения. Даже не участвовал ни в одном бою.
Нет. Не погубит, потому что в любом случае армию поведёт Марков, а он, командующий Деникин, будет по-хозяйски приглядывать за порядком, поглаживая бородку и мечтая о молодой жене. Ещё выговор тебе за что-нибудь объявит. Здесь всё наоборот. Он не нужен армии – ему нужна армия. Алексеев – сын солдата, Деникин – сын крепостного крестьянина, дослужившегося до майора... Мужички. Они знают свой дом, свою землицу, знают неизменный порядок жизни: весной – сеять, осенью – жать. Не страдают дворянско-интеллигентской рефлексией. Никогда не поймут, как можно что-то не взять, если оно само идёт в руки.
Сидели мужички, глядя на волнующегося потомственного дворянина, и ждали, что он поймёт незыблемый порядок и подчинится ему. Для больных стариков характерен стыдливо виноватый взгляд: стыдно за своё разваливающееся тело, мучает чувство вины за многочисленные жизненные ошибки, а то и за всю жизнь – сплошную ошибку. У Алексеева такой взгляд. Чувствует вину за то, что заставил отречься государя?
– Помните, Сергей Леонидович, наши разговоры по вечерам во время похода? – так начал сложный разговор Алексеев, старший среди присутствующих. – Мы говорили о тяжком бремени, лежащем на плечах главнокомандующего армией. Теперь это бремя взял на себя Антон Иванович, и мы все должны ему помочь.
– Я обязан выполнить волю нашего мученика, погибшего великого русского полководца Лавра Георгиевича, – даже слезинка появилась у Деникина и вышитый носовой платочек. – Единственное, что даёт мне надежду на успешное выполнение этой тяжкой миссии, – ваша поддержка, Сергей Леонидович. Твоя помощь, Серёжа. И ваша помощь, Николай Степанович. Мы же однополчане с 1914 года.
На лице Романовского – глубочайшая серьёзность, появляющаяся в тех случаях, когда никто не должен догадаться, каково истинное мнение начальника штаба. Он сказал, как о чём-то само собой разумеющемся:
– По мнению штаба, все боевые решения по армии могут приниматься только при участии Сергея Леонидовича.
«А ты когда-то писал матери, надеясь погибнуть от японской пули: «Такие, как я, не годны для жизни, я слишком носился с собой, чтобы довольствоваться малым, а захватить большое, великое не так-то просто. Вообрази мой ужас, мою злобу-грусть, если бы к 40—60 годам жизни сказал бы себе, что всё моё прошлое пусто, нелепо, бесцельно». И вот через 3 месяца тебе исполнится 40 лет, и ты не смог, да никогда и не сможешь занять подобающее тебе место в армии, в жизни. Не поведёшь победоносную армию на Москву а кто, кроме тебя, может совершить такой поход? Так и будешь поднимать цепи в атаку, размахивать нагайкой, пока не найдётся наконец твоя пуля».
– Среди офицеров идут разговоры... – начал было Тимановский, но Марков его перебил:
– Не надо о разговорах среди наших офицеров, Николай Степанович. Мы сумеем убедить их в правильности принятых решений.
– Теперь о дальнейших боевых задачах, – вздохом облегчения прозвучали слова Романовского. – Объявляем, что идём на север, в направлении станицы Старо-Величковской, но затем круто поворачиваем на восток с целью пересечь железную дорогу. В авангарде 1-й Офицерский полк 1-й бригады...
Покидая штаб, Марков получил экземпляр приказа.
Ǥ 1
Неприятельским снарядом, попавшим в штаб армии, в7ч30м31 сего марта[49]49
«...31 сего марта» – дата указана по старому стилю.
[Закрыть] убит генерал Корнилов.
Пал смертью храбрых человек, любивший Россию больше себя и не могший перенести её позора.
Все дела покойного свидетельствуют, с какой непоколебимой настойчивостью, энергией и верой в успех дела отдался он на служение Родине.
Бегство из неприятельского плена, августовское выступление, Быхов и выход из него, вступление в ряды Добровольческой армии и славное командование ею известны всем нам.
Велика потеря наша, но пусть не смутятся тревогой наши сердца и пусть не ослабнет воля к дальнейшей борьбе. Каждому продолжать исполнение своего долга, помятуя, что все мы несём свою лепту на алтарь Отечества.
Вечная память Лавру Георгиевичу Корнилову – нашему незабвенному вождю и лучшему гражданину Родины. Мир праху его!
§ 2
В командование армией вступить генералу Деникину.
Генерал от инфантерии М. В. Алексеев».
Возвращаясь в бригаду, Марков сказал помощнику:
– Объявишь приказ, Степаныч. Я не могу.
– Но, Сергей Леонидыч, офицеры должны знать твоё отношение к новому командующему. Если не увидят тебя, не услышат твоих слов, то могут... Даже боюсь предположить, что они могут сделать.
– Хорошо. Пусть Боровский строит полк в походную колонну – я подъеду и что-нибудь скажу.
Роты растянулись в колонну по дороге и ожидали команды на марш. Марков подъехал к 1-й роте и сказал громко, стараясь придать голосу убедительность и спокойствие:
– Господа! Командование армией принял генерал Деникин. Беспокоиться за судьбу армии не приходится. Этому человеку я верю больше, чем самому себе.
Хлестнул лошадь я поскакал вперёд, в ночь, к новым боям. К смерти. Такие, как он, не годны для жизни.
Жизнь вечная неизменно равнодушна к бесконечному множеству своих проявлений, мгновенно забывая о проходящем. У самой опушки хвойной рощи заставил остановиться неожиданный, успокаивающим теплом проникающий в душу запах только что испечённого хлеба. Под охраной сержанта возле дороги, на брезенте, сложены штабелем булки кубанского пшеничного.
– Для кого хлеб? – спросил генерал.
– Для кавалерии генерала Эрдели, ваше превосходительство. Они три дня не получали. Теперь вот в арьергарде пойдут.
– Отломи-ка мне горбушечку, сержант...
– Сергей Леонидович, – прозвучал знакомый голос. – Присоединяйтесь.
На валу, окружающем ферму по опушке, сидел генерал Богаевский с адъютантом. Они тоже ели свежий хлеб. Марков присел рядом. Хлебный дух жизни повернул мир другой стороной, почти исчезли тени погибшего командующего и связанных с ним ненужных воспоминаний, и оказалось, что в ночной роще холодно.
– Ваши уже подходят, – сказал Богаевский. – А я ещё здесь покурю.
– Хорошо вам в шинели, а я в своей куртке мёрзну.
– Найдём для вас шинель, Сергей Леонидович. Новенькую, генеральскую.
– Спасибо, но стоит ли? Лето скоро.
– Где-то мы будем летом? Вместе ли? Может быть, сейчас придётся в разные стороны разойтись, чтобы оторваться от красных. Вот и ваши.
Дружный топот сотен ног по сухой дороге, тёмная колышущаяся колонна с проблесками офицерских погон ц пуговиц. У некоторых на фуражках ещё остались белые ленты.
Савелов мог вернуться в полк – это опять война, и следующий снаряд уже не пощадит; мог идти с теми, перешедшими грань, бросившими винтовки и бредущими куда-то с пустыми лицами и потухшими глазами. Думал, сомневался, приходил в лазарет к Гулю, советовался с ним, но вечером 13 апреля выбора не стало: нет Корнилова – нет армии.
Пришёл в церковную сторожку, когда там грузились. К подводам тянулись на костылях, забинтованные, некоторых тащили на носилках. «Господа! – кричал обозный офицер. – Сначала только тех, кто может передвигаться. Только легко раненных. За тяжёлыми сейчас же вернёмся. Выгрузим легкораненых на артиллерийские повозки, кого и на передки посадим, и вернёмся за тяжелоранеными. Господа! Барышни сёстры! Несите обратно носилки. Тяжелораненых потом!..»
Выздоравливающий Гуль уже сидел на подводе. С ним рядом сидели и лежали ещё четверо. «У вас мало на подводе! – кричал офицер. – По семь человек приказано!..» Гуль отмахнулся и поднял воротник шинели.
– Что с вами, Роман? – спросил Савёлов. – Рана открылась?
– Не могу смотреть на это, – и продолжал шёпотом. – Тяжелораненых бросают. Нарочно лгут про артиллерийские повозки, чтобы успокоить раненых. Оставляют с ними красных заложников, доктора и сестёр. Вряд ли большевики кого-нибудь пощадят. Их-то не щадим.
Савёлов вошёл в опустевшую сторожку. Кажется, что опустела, – слышны стоны, кто-то ворочается на соломе... В слабом свете маленькой копящей лампы увидел лежащего навзничь в углу с бледным лицом, с невидящими глазами. Спросил тихо:
– Кто здесь? Сестра?
– Нет. Я контужен. Все уехали... бросили... На расправу бросили...
– За вами приедут. Посадят лёгких на артиллерию...
– Врёшь. Не приедут. Застрели меня...
Прапорщик выбежал из сторожки. Подвода с Гулем ещё не уехала. Теперь на ней было уже семеро, и Роман прилёг, чтобы занять место. Рядом с ним – капитан с перевязанной головой, говорит вполголоса:
– 300 раненых решили бросить большевикам на расправу. Нет, при Корнилове этого никогда бы не сделали. Он бы не допустил.
– А вы, Савёлов, что решили?
– Уйду! В горы, в степи, в болота, к чёрту!.. Только из этого ада, где надо или убивать, или умирать.
– В России такого места нет, – сказал капитан.
Армия шла всю ночь с 13 на 14 апреля. К утру колонны расстроились, превратились в маленькие толпы, растянувшиеся по дороге, роты перемешались. Где-то далеко справа шёл бой – конная бригада прикрывала отступление. На доносившиеся привычные звуки не обращали внимания. Утром небольшой привал, и снова вперёд. Несколько конных разъездов охраняли колонну. Марков ехал впереди 1-й роты Офицерского полка, мрачно задумавшись. И день, кажется, обещал быть таким же мрачным, сырым и задумчивым. Вдруг впереди – хлёсткие ружейные залпы, и посыльный от разъезда мчится навстречу.
– Ваше превосходительство, в станице красные. До батальона!
Марков словно очнулся:
– А у нас полк, трою мать!.. Даже бригада! Генерал Боровский! К бою! По две роты в цепь. Я впереди!
Для того он и генерал Марков, чтобы вести людей в бой, на смерть. Это и есть его жизнь. И его смерть.
Станица в небольшой лощине за перекрёстком дорог. Огороды, хаты, плетни охвачены зеленоватыми вспышками выстрелов.
Пули над годовой, и выбивают струйки земли из-под ног..
Атаковали настолько неожиданно, что красногвардейцы в панике, не разобравшись, откуда их атакуют, бежали назад, не в свой тыл за станицу, а куда-то в сторону. Черкесы-кавалеристы, следовавшие за Офицерским полком, врубились в бегущих, те толпой бросились обратно, на штыки офицерских рот.
Для марковцев – привычная победа. Привычная расправа над пленными. Мушкаев участвовал – они же хотели убить его. Загнали пленных на околицу, к большой канаве, и по обыкновению били из винтовок почти в упор. Уставший после ночного марша, ещё не отошёл Мушкаев от екатеринодарской бойни и спокойно целился и стрелял в серые шинели, в скованные страхом, уже почти умершие лица. Выбросил затвором последнюю гильзу, взял винтовку на ремень, пошёл, не оглядываясь на распростёртые окровавленные тела. Офицеры шли рядом, говорили о Маркове, о несправедливости – он должен был принять командование армией. Мушкаев соглашался, но чувствовал несообразность вокруг – чего-то не хватало. Вернее – кого-то.
– А где Корнеев? – спросил у спутников. – Ранен, что ли? Он же всегда...
– Вон он бродит у той хаты. Там наши молоко пьют.
Корнеев с непривычно растерянным лицом озабоченно суетился среди отдыхающих офицеров. Подошёл и к Мушкаеву:
– Василий Павлович, у вас есть нож?
– Какой нож?
– Острый.
– Решили ножом казнить большевиков?
Корнеев обиженно отмахнулся и побрёл дальше, обращаясь к другим, тоже, наверное, искал нож.
Марков после этого короткого боя преобразился. Сам скомандовал полку строиться и, когда колонна двинулась, зашагал впереди. Обернулся и, улыбаясь, крикнул:
– Господа, песню!
Запели охотно:
Марш вперёд... Труба зовёт,
Марковцы лихие!
Впереди победа ждёт,
Да здравствует Россия!..
Ещё не почувствовали, что они – разбитая армия.
Почувствовали это в немецкой колонии Гначбау, куда пришли ночью. Мушкаев, Бахманов, Биркин и ещё несколько офицеров узнали, что в колонии есть клуб, где продают пиво. Успели туда первыми, и аккуратные блондиночки приветливо усадили их за длинный стол, принесли пиво в глиняных кружках, но через несколько секунд сюда ввалилась алчущая толпа, и испуганные немки, замахали ручками и завизжали, что у них остался только чай.
Сидели усталые, озлобленные, хлебали чай, некоторые счастливцы по дороге раздобыли копчёные колбасы и окорока, заготовленные к приближающейся Пасхе. Разговоры были злые: «За Деникиным армия не пойдёт... Романовский – скрытый социалист; надо гнать его из штаба... Мы сами его погоним... Кавалеристы уже договорились... Дисциплина в армии – это только внешность; мы добровольцы на четыре месяца и не обязаны подчиняться старым уставам...» Прозвучало и такое: «Армия погибла, самим надо спасаться!»
После холодной ночи – серое неприветливое утро. Согреться негде. Еды у немцев не раздобудешь – покупали даже муку и зерно. Жгли костры, пекли муку на жестянках, лопатах, жевали зерно. Корнеев ходил от костра к костру и спрашивал, есть ли у кого острый нож. Опять подошёл к Мушкаеву.
– Ты что, зарезаться хочешь? – спросил тот.
– Не прикидывайся дураком. Сам-то знаешь, что делать, – в красных ходил. Надеешься, опять примут?
– Не надеюсь я ни на что. Только на нас надеюсь, что мы вместе выстоим.
– С кем вместе? Видишь, у того костра бумаги разложены? Это они достали большевистские документы. У пленных из карманов. С ними будут пробираться.
– А нож зачем?
– Погоны и пуговицы срезать. И ты думай, пока жив.
А что же Марков? Длинное пасмурное утро, уже десятый час, а приказа на поход нет. Неужели и генерал в растерянности? Проходя по колонии, Мушкаев услышал оживлённый шум в большом белом доме, крытом красной черепицей. Там разместилась какая-то рота. Оказалось – 4-я. Мушкаев вошёл туда и увидел Маркова. Он сидел в кресле, откинувшись, дымя папиросой,– отдыхал и разговаривал с офицерами, заполнившими хозяйскую гостиную.
– Господа, отдыхайте, – говорил он. – Здесь такие диваны. Можно и Полежать. Пользуйтесь передышкой.
– Ваше превосходительство, можно вас спросить, куда пойдём? Окружают ведь нас красные.
– Не очень-то и окружают. Не такое у нас скверное положение. Выход есть, и мы обязательно выберемся. Придётся, конечно, сражаться, но мы же всегда побеждаем.
– Ваше превосходительство, многие офицеры уходят. Что делать?
– Чёрт с ними!
Стрельба началась около 10 часов утра. И на севере, и на востоке. Корнеев ушёл на юг. Побродив по целине и по буеракам, наткнулся на дымок из овражка. Рискнул подойти. У костра сидели трое в шинелях без погон. Рядом – стреноженные лошади. Встретили его спокойно.
– Оттуда? – спросил один, кивнув в сторону, где всё гуще стреляли. – Вот уже и орудие грохнуло.
– Погоны-то давно спорол? – спросил другой. – Мы только сегодня.
– Вот и я сегодня.
– Садись, грейся. Можем хлебом угостить. Запаслись. Нам бы надо ещё человек пять, чтобы дело сделать.
Пятерых не нашлось, а подошли четверо: поручик Савёлов и с ним корниловцы, встретившиеся по дороге. Расселись все вокруг костерка, поглядывали по сторонам, не появится ли ещё кто-нибудь из этой бесконечной унылой серо-зелёной степи. Прислушивались к звукам боя. Разговаривали, называя друг друга по именам, наверное, вымышленным. Что-то бродяжье, неуютное, разбойничье висело над ними. Если в армии поручик ежедневно, чуть ли не ежеминутно ждал ужаса смерти, но в то же время жил, то есть к чему-то стремился, чего-то избегал, чему-то радовался, то теперь всё оборвалось: сиди под тучами и жди, когда тебя поймают те или эти и пристрелят, как собаку.
Однако случайные спутники искали выход. Кавалеристы же всё заранее обдумали. Один из них, черноусый, говорил негромко, но со значением, изучающе поглядывая на слушающих:
– Россия бунтует, а бунт имеет свои законы. Помните Пугачёва? Его в плен не взяли. Его повязали свои казаки и выдали. За что получили прощение от власти. Это можем сделать и мы. Если б Корнилов остался жив, армия не развалилась бы и нам не пришлось бы искать спасения. Слышите, бой идёт всё на одном месте. Большевики не отступают, а нашим некуда отступать. Добивают наших. Если мы сейчас сумеем проникнуть в штаб и арестовать Деникина, Романовского, Маркова – мы спасены. Мы трое представляем целый эскадрон кавбригады. Они ждут нашего сигнала. Кто-то должен пробраться к штабу армии и дать синюю ракету. Вот ракетница...
– Я пойду, – решительно сказал Савёлов.
Офицерские цепи отстреливались, заняв позиции к северу и востоку от Гначбау. В штабе, расположившемся в клубе, где ещё недавно офицеры пили пиво, шло совещание, в котором принимали участие Деникин, Романовский, Марков, штабные офицеры. Красные вели огонь по колонии из четырёх орудий, били неприцельно, снаряды рвались по всему посёлку, пугая жителей, внося панику в обоз, где было много раненых, не поместившихся в домах. Генералы и штаб привыкли к такому обстрелу и не прекращали обсуждение, останавливаясь или повышая голос в случае близкого разрыва.
Деникин был обеспокоен: срывался его замысел обмануть противника, продемонстрировав движение на север, скрытно повернуть на восток, к железной дороге Екатеринодар—Тимашевская.
– Придётся ждать, когда стемнеет, – сказал он. – И даже это не даст большого преимущества: ночью придётся Медленно двигаться с обозом, медленнее переходить полотно. Иван Павлович, штаб подсчитал, сколько требуется времени для того, чтобы армия перешла железнодорожное полотно примерно в районе станции и станицы Медведовской?
– Четыре часа, Антон Иванович.
Близкий разрыв артиллерийской гранаты, и сразу же вбежал взволнованный адъютант.
– Ваше превосходительство, прошу простить. Снаряд попал в дом генерала Алексеева!
– Неужели и он? – почти с ужасом воскликнул Деникин.
– Пойду проверю! – Марков быстро поднялся и направился к двери. Ему навстречу в комнату вошёл бледный, взволнованный штабс-ротмистр Шапрон дю Ларрэ. Участники совещания ждали подтверждения страшной вести.
– Нет, господа. Слава Богу, Михаил Васильевич невредим, – сказал Шапрон. – Погиб наш писарь. Но, господа, нам только что сообщили, что в армии измена. Два полка договариваются с красными. Выдают им всех высших командиров и казну. К нам для охраны Михаила Васильевича уже прибыл офицерский эскадрон.
– Прекратите панику, ротмистр! – резко остановил его Деникин. – Не слушайте болтовню испугавшихся людей. В армии нет изменников. Мне тоже предлагали специальную охрану, но я отказался. Продолжим, господа. Итак, ещё засветло мы начинаем демонстрацию: часть армии выступает по Ново-Величковской дороге, привлекая внимание противника. С наступлением темноты выступает настоящий авангард на Медведковскую. Как мы распределим силы?
– Первыми выступят обоз и вспомогательные части, – предложил Романовский.
– В авангарде с наступлением темноты пойдёт мой Офицерский полк, – сказал Марков, как о чём-то не подлежащем обсуждению. – Я сам поведу офицеров. Разобью заслоны красных и буду оборонять переход через железную дорогу, пока не пройдёт вся армия.
Мысленно он добавил: «Кроме меня, это никто не сможет сделать».
– Четыре часа придётся стоять, Сергей Леонидович, – напомнил Романовский.
– Значит, буду стоять четыре часа.
– Готовьте приказ, Иван Павлович, – согласился Деникин. – -Выход на Ново-Величковскую дорогу в 18, на Медведовскую... Во сколько, Сергей Леонидович?
– Попозже. 18 вёрст? Тогда в 23 или в 24.
Когда совещание закончилось и участники вышли на улицу, артиллерийский огонь почти прекратился, но удивило их не это. Вокруг здания клуба стояли офицерские шеренги, вдоль которых прохаживался Тимановский, дымя любимой трубочкой.
– В чём дело, полковник? – возмутился Деникин. – Кто приказал расставить здесь офицеров? Или вы хотите нас арестовать и выдать красным?
– Докладывай, Степаныч, – сказал Марков, подмигнув Тимановскому: меня, мол, не выдавай.
Тимановский доложил, что к нему почти с того света явился поручик Савёлов, считавшийся убитым прямым попаданием снаряда. Как оказалось, он всего лишь был сильно контужен – до потери памяти, – попал в лазарет в Елизаветинской, уходил пешком как легкораненый, отстал, напоролся на дезертиров. Они втянули его в авантюру и послали сюда на разведку.
– Поскольку где-то рядом находятся авантюристы, которые готовы совершить именно то, о чём вы, Антон Иванович, говорили, я решил поставить охрану у штаба.
– Что будем делать, Антон Иванович?
– Как что? Разумеется, снимать охрану.
– Ас дезертирами-авантюристами? Они же ждут сигнала от своего разведчика.
– Решайте сами. Я иду с Иваном Павловичем.
Решили с Тимановским собрать группу офицеров и, взяв с собой Савёлова, выйти по направлению к указанному им месту, устроить засаду и дать синюю ракету.
Эту маленькую операцию Тимановский успел провести ещё засветло, но на условный знак никто не вышел. Тогда группа направилась к овражку – Савёлов хорошо помнил дорогу. Вокруг тёплого ещё пепла лежали зверски изрубленные трупы. Особенно мучили Корнеева – выкололи глаза, кромсали грудь и живот, пытаясь вырезать какой-то знак – не то крест, не то звезду.
В Екатеринодаре, в штабе Вооружённых сил Кубанской Советской республики, Руденко, нарушая революционную дисциплину, спорил с главнокомандующим Автономовым:
– Нет, Алексей Иванович, они лягут на другой курс. Не норд, а норд-норд-ост или норд-ост. На Тимашевскую или Медведовскую. Обязательно вильнут кормой. Эти ...ые генералы ещё поумнее Корнилова: Деникин, Марков. Я всю ночь буду дрейфовать по курсу Екатеринодар—Тимашевская.
Автономов поглядывал на матроса с некоторым насмешливым превосходством: не понимает, в чём теперь главный вопрос. Не от кадетов надо Кубань спасать, а от московского начальства и от немцев. На нынешнем съезде удалось отбиться от объединения с Черноморской республикой, на следующем наверняка объединят. И будет Кубанью править жид Рубинштейн, или Рубин – как его там. Да и матросики-большевички нам не нужны. Пусть кадеты побольше их перебьют. А от немцев придётся вместе с Деникиным защищаться. Добьют французов во Фландрии, и жди их на Кубани.
– Ты, Олег, тоже дело говоришь – могут они вильнуть на Медведовскую. Но и ту линию – от Тимашевской на Новороссийск – нельзя бросать. Если б не съезд, сам бы с тобой поехал. Завтра закрытие. Надо присутствовать. Договоримся так: от Тимашевской курсируешь по обеим линиям.
– Есть, товарищ главнокомандующий. Встречу генерала Маркова. Давно мечтаю.








