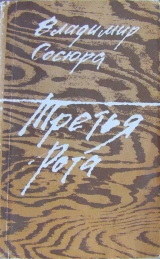
Текст книги "Третья рота"
Автор книги: Владимир Сосюра
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
XXXIII
Паровоз летел по бескрайним полям, заходило солнце, и его лучи, как кровь расстрелянных, заливали травы и платформу с пушками, где я сидел, мечтая о Констанции.
За синие горизонты садилось солнце. И в монотонном перестуке колёс передо мной плыло бледное склонённое лицо. Я смотрел на него, и оно заливалось румянцем любви, алой кровью. Эта кровь, сливаясь с багряными потоками зари на холодных вечерних травах, шумела в моих жилах.
Констанция…
Вот она стоит босиком, такая родная, у своих ворот. Солнце уложило венок на её волосах и золотым дождём залило одежду.
Солнце!..
А поезд летит, грохочут и качаются вагоны, холодно поблёскивают дула пушек, и маячат вдали синекрылые ветряки, станции и сёла, залитые вечерним багрянцем.
Неприятно гудят телеграфные провода и пролетают то вверх, то вниз перед моим затуманенным взором.
И вновь тихий Бахмут, и в вечернем шуме деревьев синий взгляд и покорные любимые губы.
В Констанцию влюбился один казак и земляк мой Митя Дыбтан. Он встретил меня в тёмном углу и схватил за грудки:
– Уступи.
– Кого?
– Котю.
– Да что она – башмаки мои, что ли?
Но он меня не слушал и зарубил бы меня тесаком, если бы я не успел захлопнуть перед ним двери.
Он говорил хлопцам:
– И за что она его любит? У него и каблуки скривлённые.
Было уже темно. Я пошёл к Коте. В комнате горело электричество и никого не было. Котя повела меня в спальню и, когда мы поцеловались, выключила свет и упала на кровать. Я упал на неё, и, хотя Котя говорила, что я могу делать с ней, что захочу, я не сделал того, что сделал бы каждый на моём месте. Потому что знал, что могу сгореть в огне близкого восстания, а ей это на всю жизнь. И что будут думать обо мне её родители, такие добрые и хорошие.
Нет!
Котя заплакала, а я поднялся, ничего не сделав.
В июне нас расформировали.
Я попрощался с Рудзянскими и, одинокий, пошёл на вокзал.
Котя дала мне промокашку, взяв с меня слово не читать, что там написано, пока я не сяду в вагон.
И когда прозвучали последние звонки, я развернул промокашку. На ней булавкой было нацарапано: «Люблю».
Закончился мой отпуск, и я приехал в школу. Там стоял батальон немцев, и, не будь у меня свидетельства, что я был казаком, меня бы расстреляли.
Один педагог, которого мы прозвали «Артишок» за его манеру двигаться и фигуру, подошёл ко мне и сказал:
– Хитрость жизни.
Меня исключили из школы.
XXXIV
Я снова в селе.
В шуме ветра, в дрожании звёзд и волн надо мной плыл, и таял, и снова прояснялся образ Констанции.
По вечерам под горой в чёрных перекрестьях рам жёлто горели окна больших господских домов, и на их фоне чёткой тенью вырисовывалось дорогое лицо.
Грудь моя, рана моя… Кто налил в вас вечную боль, с которой суждено мне идти до конца моей дороги…
И в кино, в рыдании пианино душа моя разрывалась от крика и, как птица с подрезанными крыльями, билась в крови и муке.
Пианистка всегда играла одну вещь, где был такой аккорд, от которого внутри у меня всё гремело и я с безумной ясностью представлял себя птицей, рвущейся в синий простор, куда ей уже никогда не взлететь, на крыльях у неё следы смертельных ран… Она бьётся в тоске, из последних сил тащится по земле, оставляя на ней пятна крови и перья…
Только теперь я узнал, что вещь эта называется «Раненый орёл».
И летели дни, полные грусти, забытья, одиночества и буйства молодой крови.
Иногда я забывал о Констанции и тогда становился снова смуглым, весёлым селюком.
Нет, нет… Ведь когда я целовал девушку, то, закрывая глаза, представлял, что целую Констанцию.
По-прежнему шумел завод, но в пронзительных криках паровозов уже звучала тревога и гнев миллионов.
Мою тётку Гашку Холоденчиху в молодости соблазнил и бросил один парубок Михайло. Тогда её брат Федот поймал его и врезал по левому уху так, что из правого брызнула кровь.
Михайло женился на Гашке и вскоре умер.
Федот жил за «чугункой» возле Вовчеяровки. Его сосед, сторож заводской бани, выбирал всю воду из Федотова колодца и поливал свой садик, а Федотовой семье не оставалось даже для питья. Они часто из-за этого ссорились.
От слов перешли к делу. И однажды высокий Федот насел на маленького банщика и стал его избивать. Ясно, что банщик долго бы не продержался. Но он вытащил нож и пырнул Федоту в сердце. И великан встал, сделал три шага с ножом в сердце и с криком: «Ох, Химка, меня зарезали!» – упал на землю.
Банщика судили и оправдали. Он и теперь жив, ходит по Третьей Роте, петухом поглядывая на Федотовых сыновей-великанов.
Федька Горох стал налётчиком и ходил только ночью, вечно озабоченный, бледный и насторожённый.
Ларька поступил в художественную школу, жил в городе и рисовал кухарок, а они за это его кормили.
На каждой станции стояли отряды оккупантов. У них были могучие кони, и оккупанты восседали на них словно вылитые из меди. Гордо звучали по городам Украины чужие песни завоевателей.
Я повёз свои стихи в большой город.
Одинокий и потерянный, бродил я в гомоне толпы и звоне трамваев, а в голосе всё звучали слова полузабытого поэта:
И только кашель, только кашель
терзает, пенясь и рыча,
набитое кровавой кашей
сухое горло палача.
Ночевал я на вокзале, и меня там обокрали. Утащили мои стихи и бельё. И я снова вернулся в село.
По перрону нашей станции я шагал так нервно и размашисто, что вооружённый немецкий постовой с гранатами за поясом испуганно повернулся ко мне.
XXXV
Каждый год 14 сентября у нас бывает ярмарка. А вечером хлопцы идут на улицу к девчатам.
Я не знал, что из Лисичего к нам приехал карательный отряд и что запрещено позже десяти вечера выходить на улицу. Но, очевидно, если бы и знал, то всё равно выходил бы. Вы же понимаете – тёплые сентябрьские ночи и девчата… Смех под звёздами, сладостные пожатия горячих и жадных рук.
Я почему-то смеялся больше всех, смеялся так, что хлопцы говорили:
– Ой, Володька, должно, не к добру смеёшься, битым будешь…
Я не обращал на это внимания и смеялся, смеялся…
Расходиться начали в десятом часу.
Иду я по Красной улице. И до хаты уже остаётся шагов сто, как вдруг вижу, летит всадник и немилосердно лупит нагайкой человека, а тот истошно кричит от боли.
Я иду спокойно. Думаю – кто-то проворовался на ярмарке, а мне-то что… Иду и не заметил, как оказался в кругу всадников…
– Ты кто?
– Володька.
– Откуда?
– Так отсюда. Вот и хата моя. Видите, окно светится?
– А оружие у тебя есть? – говорит всадник и, наклонившись, ощупывает мои карманы.
А другой всадник склонился ко мне да как перетянет нагайкой раз, другой… И всё норовит по лбу, а я отклоняюсь чуть в сторону, и он попадает по плечу.
– За что?
И наезжает на меня конской грудью их красавец капитан и кричит мне:
– Беги, сукин сын, не то пристрелю, как собаку!..
Я бегу, а он за мной… Да разве от коня убежишь…
Я перемахнул через забор и затаился. И вот слышу:
– Ах вы, буржуазные лакеи, так вас и так…
Кричит уже избитый хозяин гостеприимного двора, где я спрятался, рабочий Свинаренко.
Рабочие возвращались после десяти с завода, а каратели стали их лупить, как и всех.
Конечно, кричал он это, когда казацкие кони стучали копытами уже далеко внизу по Красной улице.
А наутро… У всех хлопцев шишки, у кого на лбу, у кого на виске. На что уж Сашко Гавриленко, хоть и на костылях, а парень красивый, его любили валахские молодицы – правда, за то, что у его отца пивная, – так и того не пожалели. Он кричит:
– Я инвалид…
А они его шпарят…
Я уж рад и тому, что у меня хоть и багрово-синие подтёки кругом, но под френчем не видать.
Ну а в ноябре – восстание.
Рабочие обезоружили карательный отряд и красавца капитана, что гнался за мной, посадили его на проходной в конторке. И каждый рабочий, идя на работу, мог поглядеть на него, плюнуть и дать свою характеристику – языком и ногами… А у нас характеристики очень меткие.
Потом в село прибыл 3-й гайдамацкий полк. Расстреливает карателей, обезоруживает немцев…
Вам понятно, как это могло повлиять на наивного парня, начитавшегося Гоголя и Кащенко, с детства бредившего грозовыми образами казатчины…
А тут она живая… Воскресла моя синяя вымечтанная Украина, махнула клинком, и зацвела земля казацкими шлыками…
Да ещё и говорят:
– Мы большевики, только мы украинцы.
Ну и я украинец. Чего ж ещё надо? И записался к повстанцам в такую вот минуту.
Поехали на Сватово обезоруживать немецкую конницу.
Наш эшелон спокойно подъехал почти к перрону…
Идёт немец с чайником кипятка. И какой-то идиот взял его на мушку… И не стало немца, не стало далёкого фатерлянда и белокурой Гретхен… Только мозги, будто кипяток из разбитого и покорёженного чайника, расплескались по рельсам… Немцы мирно отдали бы нам оружие, а теперь они: «Цум ваффен…»
Наши – в вокзал… Немцы отступили… А потом начали наступать подковой. Хлопцы же вместо того, чтобы взяться за оружие, стали надевать на себя сразу по нескольку штанов и шинелей, распухли, как бабы, и стали жабами…
Немцы с боем прогнали нас от станции…
В бою надо быть быстрым, а куда тут, если на тебе несколько штанов и шинелей… Те хлопцы, которые ворвались в здание вокзала, конечно, не успели выскочить из него…
У двери стал немецкий офицер и каждого, кто выбегал, бил прямо в голову…
А потом немцы вместе с горой трупов отдали нам и своё оружие.
Казаков хоронили с музыкой…
А обезоруженные немцы сумрачно и грозно, спокойными синими колоннами шли на гору к татарским казармам.
И думал я: если бы немцы захотели, только сопли остались бы от моей любимой синей Украины…
Но я ещё верил…
Ведь изо всех сёл шли к нам дядьки в свитках и с котомками. Записывались и спокойно, как в церковь, шли на смерть… Будто кабана колоть…
И я всегда смотрел им в глаза… Перед боем у одних глаза бывают печальные и слезливо прозрачные, а у других весёлые и мутные…
И те, у кого перед боем были печальные глаза, больше никогда не возвращались, а люди с весёлыми глазами хвалились, скольких они убили…
Когда же немцы стали нас бить так, что небо и снег становились чёрными от шестидюймовок, хлопцы начали драпать по домам, конечно, с оружием и обмундированием.
– Пусть придут к нам в село. Мы им покажем… – похвалялись они, оглядываясь по сторонам: не видать ли немцев.
Вот одного поймали (с Боровского за Донцом – русская колония) и стали шомполовать…
Казаки возмутились.
– Мы революционная армия. Позор. Долой шомпола! Отпустите его!
А сотник Глущенко:
– Без разговорчиков! Сейчас позову старых гайдамаков и всех перестреляю.
И я узнал тогда, что такое «старые гайдамаки».
«Боровчанина» всё же отпустили…
Но нас, чуть что, пугали: «старые гайдамаки»…
Это те, что в январе 1918 года расстреляли в Киеве красный «Арсенал», ядро полка.
Я терпел, терпел да и тоже удрал.
XXXVI
Декабрь 1918 года.
Мобилизация.
Моему году идти.
Мать гонит меня из дому: я скоро без штанов останусь. Говорю ей: «Подождите, красные уже близко…»
А она мне:
– Пока придут твои красные, будешь светить голой… Иди, сукин ты сын, до каких пор будешь сидеть на моей шее…
Что поделаешь…
Пошёл.
Только не в Бахмут, а снова в тот же полк, штаб которого стоял в нашем селе. Думал, всё равно. Все одинаковые, а Бахмут далеко. Так хоть ещё немного похожу к девчатам. (Ох, девчата, девчата! Может, и вы виноваты, что я стал петлюровцем.)
Ну и снова бои. Теперь уже с белыми, на Алмазной» в Дебальцево (где я родился)…
И вот занесли снега дорогу, «чугунку»… И поехали мы на паровозе очищать от снега «чугунку»… И запел пьяный кочегар: «Смело, товарищи, в ногу…» И заплакал я, ощутив так остро и отчётливо, что долго, долго я не буду со своими, буду против своих.
Ещё одна мелочь. Собственно, тогда это уже не было для меня мелочью.
Холодный, пустой вагон. Я приехал в Сватово записываться к повстанцам…
Тихо. И вдруг:
– Сосюра…
– Что?
Никого.
– Сосюра!
– Что?..
Трижды меня кто-то окликал, и трижды я отзывался.
Старые люди говорят, что не надо откликаться.
А меня три раза звали, и три раза я откликался.
Это – к смерти.
Но я записался.
И ещё.
Расстреливали стражу. Ночь. Караульное помещение – 11-й класс нашей станции. Привезли обезоруженных карателей и их начальника с синей от побоев, как чугун, мордой, он тыкал нашего есаула в грудь и, покачиваясь, всё пытался ему что-то доказать и никак не мог…
Их выстроили. И между ними стояли два белых летуна, хлопцы случайно сбили их аэроплан на станции Нырковой. Один капитан (раненый), а второй – стройный и невозмутимый, с мраморным благородным лицом, потомок графа Потёмкина.
Тот, что с мраморным лицом, снял со своего пальца перстень, протянул его нашему есаулу и сказал:
– Передайте моей жене.
Их увели.
XXXVII
Вагоны. Пахнет самогоном, патронами и подсолнечным маслом, пахнет снегом и кровью…
На меня и теперь иногда зимой… когда снег и я один, бывает, подует каким-то ветром и запахнет… снегом и… кровью… Правда, теперь не так часто… (может, потому, что нэп и меховая доха…).
Ещё пахло овчиной и казацкими онучами…
Нас отправляют на позиции.
И чудно. Я был беспричинно весёлым… Будто меня это не касалось… Только сестра моя стояла возле звонка и грустно, грустно смотрела на меня…
Она умерла в 1919 году, я так её больше и не увидел.
А мать не пришла меня провожать, потому что не знала о нашей отправке на фронт…
Мы пели «Чумака».
Нам было весело, словно ехали мы не на смерть, а разоружать немцев…
(Только почему нас посылают на Сватово?.. Там же нет врага. Враг в Дебальцево, в Алмазной… Только почему нам вчера по приказу батьки Волоха всем завели оселедцы?..)
Едем.
И уже на сватовском перроне… (Ночь… Снег… Ветер…) Куренной говорит нам (нас приехало три сотни: 9-я, где я, 11-я и 12-я):
– Мы с большевиками не воюем. Но они захватили Купянск. Мы только отобьём у них Купянск, а воевать с ними не будем. Пусть они сами по себе, а мы сами по себе.
Пошли в разведку.
Конечно, селяне нам не говорят, где красные.
Все сёла – большевистские.
На следующую ночь я был назначен роевым. (Вы не глядите, что я лирик, я боевой.) Я – караульный по службе. Под утро, в пятом часу, мне идти на кухню.
А знаете, что это значит? Это значит: наесться вволю мяса, которое тогда казалось слаще шоколада «миньон». Я представляю, как буду есть мясо, и с этой мечтой засыпаю… Гостиниц для казаков не хватило, некоторых размещали в хатах. Меня и ещё одного казака из моего роя – в хату.
Мы с ним будто дома; разделись до белья, бомбы положили на окно, винтовки поставили в угол. Спим.
А сон у меня такой, что хоть из пушки над ухом пали (это тогда…), не проснусь.
Вдруг вбегает хозяйка (2 часа ночи).
– Ой, деточки мои, вы ж пропали!
– Что такое?..
– Ваши все побежали на станцию, стрельба была, пули по садку свистели.
Мы не спеша оделись. Я, как караульный по кухне, засунул за пояс только штык. Идём чистить картошку. Оружия не взяли.
– Это, – говорю, – так, просто паника какая-то.
Мне не верилось… немцев побили, стражу побили,
Киев наш, а тут на тебе… удрали… бросили… И даже не разбудили…
«Нет! Мы идём чистить картошку».
Выходим. Снег. Туман. Улица ведёт прямо к вокзалу.
Тихо. Ужасно тихо. Даже собаки не лают.
Только на станции тонко и одиноко кричат паровозы.
Из тумана появляется казак с винтовкой за плечами.
– Что такое?..
– Та наши все побегли на станцию… Стрельба была, кричали «слава», «ура».
Мёртвая тишина.
Идём чистить картошку.
Я ещё не верю, что это конец.
И вот из тумана смутно, а потом отчётливо: «Кони!»
«Не наши», – что-то сказало мне, и я прижался к плетню.
Мои товарищи остановились на полшага впереди меня. Мы в полукружье всадников.
– Кто идёт?
– Свои.
– Пропуск.
– Олена.
– Какая Олена?.. Руки вверх!
Не знаю, подняли мои товарищи руки или нет, но я почувствовал что-то страшное в голосе того, кто кричал «руки вверх», перескочил через плетень за копну… Бегу по огородам… а сзади слышу удары по чему-то мягкому и «ой… ой…» – тихое и тоскливое. А взгляд машинально схватывает кривую чёрную вишенку на белом фоне снега, смутные контуры плетней, копён и хат.
Шлык я сорвал… но оселедец сорвать нельзя. Да и шапка у меня кавалерийская, лохматая. Её скинуть? Холодно, да и оселедец сразу увидят…
А если попадёшь в плен с оселедцем, церемониться не станут… Смерть…
А какой из меня старый гайдамака? Красные думают, раз с оселедцем, значит, старый гайдамака. «К стенке!» Или: «На рубку!..»
Только во время боёв я узнал, почему они не стреляли мне в спину. Просто они подумали, что мы – дозор, а сзади цепи. Они тихо нас и сняли, то есть тех двоих – порубили… У них тоже были оселедцы (а они шахтёры…). Об этом я узнал только в 1921 году (что их порубили…).
И началась стрельба…
Ночь то и дело пронзали алые мечи выстрелов… Я вырыл в снегу небольшой ров и лёг в него… Проплывали образы Констанции и бабушки, которые меня очень любили… Констанция тогда, а бабушка и теперь – ей 102 года. Образа матери не возникало… Да и всё это как миг. Какая-то тихая покорность смерти. Иногда я не выдерживал, вставал и шёл прямо на огонь, но снова ложился. Вода капает мне за ворот, стекает по щекам… Потом я вошёл во двор и влез под завалинку (в хату не пустили, я стучал, но они по голосу поняли, что я из «побеждённых»…).
И вот красные занимают село…
Почти что час гремела улица… Это батареи (между прочим – на волах), обозы, конница… И всё цокает, цокает, цокает… Наконец стало светать. Я вылез и снова пошёл в город. Сквозь щели в заборе было видно, как идут по воду бабы… И вот ударили колокола. Воскресенье.
Я вышел как во сне на улицу… Там… Там…»Там… Стоят кучками красные… А у меня ж лохматая шапка и обмотки побелели от воды (а были зелёные, новые). Я иду прямо на красных, всё как во сне… Я даже голосов их не слышал…
И никто меня не окликнул, не задержал…
Всё село – большевистское.
Я вошёл в крайнюю хату. Дома дядька и его сын.
– Остригите мне оселедец.
Сын стрижёт мне оселедец.
Но ведь голова у меня бритая.
Я дал дядьке сахару (у меня было немного в платке), а он дал мне хлеба, и я пошёл.
Вышел на гору. Смотрю, бежит один казак… Бледный от страха, один глаз больше, другой меньше, и трясётся, будто ему очень холодно… Сбежал из-под расстрела.
Это – старый гайдамака.
– Ну, – говорю, – идём на Святые горы (75 вёрст – вроде в соседнюю хату), а оттуда поездом домой.
И какой же я дурень (а может, хитрый… это такая тонкая штука). Идут бабы с хуторов на базар, а я им кричу:
– Вы не говорите, что мы сюда пошли. Мы – гайдамаки.
– Не скажем, деточки, не скажем.
И не сказали.
Заночевали мы на хуторе. Товарищ мой сказал, что мы мобилизованы Петлюрой, бежим домой. Лежим на печи. А дядька хитро прищурил глаз, подошёл к нам и говорит:
– Та признайтесь, хлопцы, вы ж гайдамаки? Вас же разбили на Сватовой?
Я отвечаю:
– Да, мы гайдамаки.
Дядька ничего не сказал.
Но я долго не мог заснуть и всё глядел на топор в углу…
А неподалёку от Святогорской станции (кругом красные партизаны), в одном селе, когда мы лежали на полу, вошёл лысый старикан – староста – и потребовал у нас «пачпорта».
– Какой «пачпорт», ежели мы мобилизованы?
– Да что там с ними болтать! В штаб их!
А женщины не отдают нас, плачут и приговаривают:
– Та они ж такие, как и мы: и чернобровые, и говорят по-нашему.
И проснулся во мне поэт-агитатор… Я начал говорить и кто мы, и за что такая нам доля, стал читать им свои стихи…
И странное дело… Лысый «пачпортный» староста просит переписать ему на память стихи. Помню начало… (О мои стихи, такие же наивные и зелёные, как моя вечная молодость…)
Пісня ця родилась в темнім, темнім гаю
I тепер по світу хай вона блукае.
Хай вона до зброі всіх рабів скликае.
Пісня ця родилась в темнім, темнім гаю…
1918
Вот такие слова… Но вы бы послушали, как я тогда декламировал. У меня даже мурашки бегали по коже от воодушевления…
Нам дали сала, огурцов и хлеба и отпустили.
Пришли на станцию. Вернее, я один пришёл на станцию. Товарищ мой исчез… Его дядьки не пустили… Я и до сих пор не знаю, где он… Было это так. Когда мы выходили, один дядька, который молча слушал мои стихи, подошёл к моему товарищу, взял его за плечи и сказал:
– А ты, хлопче, останься, побалакаем…
И до сих пор балакают…
Спрашиваю на станции у телеграфистов, где красные, где петлюровцы, а мне не говорят…
Подходит поезд (пассажирский). Сажусь. Еду. Поезд – на Харьков. В Харькове с вокзала не выйти. Я ведь не штатский.
И я был вынужден прикомандироваться к Мазепинскому полку[8]8
Мазепинский полк – гайдамацкий полк войска С. В. Петлюры, носивший имя гетмана Мазепы.
[Закрыть].
В Харькове у меня дядька, слесарь Иван Локотош… Но с вокзала-то не выйдешь.
Мазепинцы отбили у карателей две цистерны горилки, и нам выдавали ежедневно почти по котелку.
Как-то нам выдали по целому котелку горилки. Мы выпили. Нас построили и повели в город. Впереди с наганами идут старшины и каждого из прохожих, у кого руки в карманах, заставляют поднимать их вверх… Приходим на какой-то завод. До сих пор не вспомню, на какой, только знаю, что шли мы к нему очень долго… Едва открыли заводские ворота, как грянули выстрелы…
Мы – назад…
Потом снова – к заводу… У нас ручные пулемёты. (Я попал в пулемётную ватагу, но был ещё с винтовкой.) На заводе тихо, никого нет… Только грустные чёрные окна да убитый шальной пулей реалистик во дворе…
Идём дальше… Ну, понятно, котелок горилки весьма повлиял на мой «котелок». Заходим в какой-то двор. В доме в подполе много оружия и листовки с призывом к восстанию.
О мои винтовки, смазанные маслом, мои рабочие винтовки… Это же я своими руками клал вас на повозки и ел абрикосовое варенье… Только мне чудно было, что хлопцы забрали и одёжу, и поросёнка, и коньки… Ну, цигарки (десертные), ну, варенье… Варенье я с детства люблю. Но при чём тут панталоны и поросёнок?..
Потом мы полили улицу из пулемётов и вернулись на вокзал.
Отступление.
На Новой Баварии[9]9
Новая Бавария – железнодорожная станция в предместье Харькова.
[Закрыть] я встречаю броневик 3-го гайд-полка.
– А, Володька?
– А мы ж сказали твоей сестре, что тебя зарубили на Сватовой.
Между прочим, на Сватовой нас разбили левые эсеры, «сахаровцы».
Жаль, что они отбили у нас тогда вагон с обмундированием. Шинель у меня была рваная и старая… Мне как раз обещали выдать новую, а теперь жди, когда выдадут…
Я всё не верю… Думаю, что это недоразумение, что мы с большевиками не воюем.
Лозовая. Декабрь 1918 г.
Делегация немцев едет в Москву. Мы её пропустили. Хотели отбить у Махно Павлоград, не мы, а Павлоградский полк. А Махно пустил казаков в Павлоград, а потом как взял их в пулемёты…
Больше Павлоградский полк не ходил отбивать у Махно Павлоград.
Сотенный Глущенко взял меня и нескольких казаков из моего роя, и мы пошли на базар. Когда мы стояли на углу, к нам подошёл мой бывший товарищ по сельскохозяйственной школе Гнатко. Он был в штатском, и мне как-то дико было говорить с ним о прошлом, я только сказал ему:
– Жаль, что мы встретились с тобой при таких обстоятельствах.
– Направо!
И мы беспрекословно отправились делать своё дело. Мы арестовали двух кавалеристов из Павлоградского полка. В руках они держали подмётки, хромовые вытяжки и вообще всё, что нужно для сапог. Когда мы вели их на станцию, к нам подскочили несколько кавалеристов из их полка. Вид у них был очень воинственный: смуглые, с чёрными шлыками, за поясом чингалы и кривые сабли. Ну вылитые запорожцы. Они стали кричать на нас и размахивать руками, требуя отпустить арестованных. Сотенный Глущенко хрипло прокричал:
– По бандитам – огонь…
Я вяло и робко сделал то, что требуется. Мы были готовы стрелять. Павлоградцы побледнели, поникли. Их лица враз похудели, и противно было слушать, как они, заикаясь, забормотали:
– Да што, да мы ничего… Да мы ничего… – и жалко попятились назад.
На станции нас окружила толпа павлоградцев. Размахивая бомбами, они наседали на нас. Наши хлопцы тоже размахивали бомбами. Кричали, что быть того не может, чтоб свои да своих же расстреливали. Павлоградцев было больше, и мы отдали им арестованных.
Ещё. Арестованы два еврея – студенты из Одессы. Ехали в Одессу. Настроение у них понимаете какое… Приходят пьяные казаки и бьют их табуретками по морде, а они только заслоняются руками и смотрят как кролики…
И вот им, ведь студенты же, я читаю свои стихи о Констанции, о звёздах и ландышах… А они в смертельной тоске улыбаются мне, говорят, что я – поэт. Правда, я предчувствовал, что их не расстреляют, и всё время утешал их. Но лезть к ним со стихами, да ещё такими… Когда люди уже за гранью жизни…
Этих студентов освободили, но, разумеется, отобрали у них все деньги… И они, бедняги, сидят у стола на вокзале и не знают, что им делать. Я подошёл к ним с одним из своих товарищей, и мы отдали им все деньги, которые получили за месяц службы. Они не знали, как нас благодарить, и дали нам свои визитные карточки на всякий случай… Я спрятал карточки в шапку. Но шапку потом отдал какой-то тётке на Подоле за хлеб… (а интересно было бы увидеть этих студентов).








