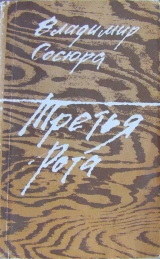
Текст книги "Третья рота"
Автор книги: Владимир Сосюра
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
XXIII
Пушистая и серебряная зима в холоде багряных зорь и далёкого солнца поскрипывала по улицам Третьей Роты, когда мы с отцом уезжали искать счастья на Полтавщину. Неподалёку от Черкасс, возле местечка Мошны, в сосновом бору жил наш родственник Николай Уваров. Он был лесным инженером, и отец хотел найти у него работу.
Возле Черкасс нас высадили из вагона, потому что мы ехали «зайцами». Была ночь. Уставший отец лёг и уснул у станционного буфета, прямо на паркете. К нему подошёл жандармский офицер и носком блестящего сапога пнул его в бок.
– Вставай!
Отец встал. Его лицо налилось кровью от неожиданного оскорбления.
– Вы должны вежливо сказать, что здесь спать нельзя. Как вы смеете бить человека в бок ногой? Неужто только для этого вы получили образование и считаетесь интеллигентным человеком?
Напрасно официант испуганно шептал ему на ухо: «Он тебя засадит в тюрьму», – отец не обращал на это внимания и так отчитал жандарма, что тот стал извиняться, купил нам билет до Черкасс и, прощаясь, горячо пожал отцу руку.
Из Черкасс мы шли шумящим бором тридцать вёрст к Уварову. А когда вошли в большой белый дом, Уваров, высокий, стройный и тёмноволосый, заорал на отца:
– Ты почему здесь?
– Я – муж Антонины Дмитриевны Локотош.
Лицо Уварова сразу стало приветливым, и он протянул отцу руку.
Я попал в настоящий рай. Море книжек и конфет. Дети Уварова росли как цветы, беспечные и счастливые. У них был репетитор, роскошные комнаты и масса развлечений. Они играли на пианино, играли в шахматы и учили меня танцевать. Но я был неловкий и застенчивый. Я мог только читать и мечтать.
Мы ходили на охоту, катались на коньках, и мне казалось, что я вижу сладостный и дивный сон. Казалось, стоит лишь выглянуть из-под одеяла, и я услышу голодный плач братьев и брань матери, натягивающей на себя плохонькую одежонку, и в заснеженные окна заглянет враждебное солнце, и голубые окна зальёт гомон нового голодного дня.
Отцу наскучило жить в лесу, и снова знакомые трубы нашего завода задымили надо мной.
Снова потянулись кошмарные ночи, полные укоров матери, водочного перегара и голодных слёз в душной и тесной мазанке.
Я стал ходить на щебёнку.
Ещё не вставало солнце, и вместо гудков пели петухи, и холодная заря едва занималась над селом, а мать уже будила меня, и я шёл туда, где в грохот «чугунки» и гул поездов вплетались удары сотен молотков, где нам выдавали на завтрак ржавую селёдку и тяжёлая тачка со щебёнкой натирала мои руки до кровавых мозолей.
На щебёнке работало много девушек, и часто после работы под холодными звёздами в шуме трав и молодой крови они звали меня с собой ночевать в овин, полный золотой соломы и лунного света.
Мы возились до утра и наконец засыпали с бледными и утомлёнными лицами, оплетая друг друга ногами.
А потом снова грохотал камень, сновали в пыли наши призрачные тени, а мимо каменоломен пролетали поезда, и я мечтательно смотрел на девчат, которые с песнями проносились в шумных вагонах и кричали мне:
– Чернявый, поедем с нами!
Краснощёкие и чернобровые, с икрами, словно налитыми солнцем, вишневогубые, они дымно улетали вдаль, и их грудные голоса напоминали мне о румяных степях, приветливом шуме лесов и любви под звёздным бархатом неба. Часто я не выдерживал тяжёлой и монотонной работы, бросал её и шёл к своим книгам и мечтам. А меня хлопцы провожали маршем, колотя молотками по вёдрам.
Вечерами в заводском саду играл оркестр, и мы ходили туда на гулянье, глотали пыль и заигрывали с девушками на главной аллее.
Но мне не нравилось без толку бродить по пыльным аллеям и смотреть на одни и те же лица. Я шёл на станцию, где шум верб над Донцом говорил мне больше, чем деланно весёлые лица в саду.
За спиной гудел залитый электричеством завод, и огоньки звёзд сливались с его огнями. А надо мной мечтательно качались вербы, и луна набрасывала на их ветки серебряную паутину.
На середине Донца одиноко темнели лодки с влюблёнными парочками, смутно долетал звон гитары и поцелуев. Или гармошка рыдала и жаловалась над спокойной излучиной реки.
По ту сторону шумел и качался лес, и далёкие тёплые зарницы полыхали над ним.
Всё так ясно и радостно над рекой. Смотреть бы так без конца на изумруды далёких звёзд в воде и на небе и ощущать себя счастливой частичкой любимого и яркого мира.
А потом я шёл на печальный свет каганца в окне нашей мазанки и до утра сидел над книгой, где приключения и любовь в средневековых городах или в жарких пустынях Африки брали меня в свой сказочный плен, действительность причудливо переплеталась с мечтами, – и мне казалась сном моя настоящая жизнь, казалось, будто бы я нахожусь не в нашей мазанке, а в роскошном дворце властителей Индии или ищу в тайге сокровища неведомого народа.
XXIV
Сашко Гавриленко торговал в пивной и часто на лавочке рассказывал мне про бахмутских проституток, вышибал и бандерш, про весёлые гулянки, «котов», артисток и вино, что льётся рекой под звон чарок в далёких золотых городах.
Я ему играл на гитаре и писал любовные письма к валашкам. Он не мог ходить, и у него были костыли. Вся сила у него из ног перешла в руки, и никому не удавалось вырваться из жутких клещей его пальцев.
В тёплые янтарные вечера он плакал и пел об изменах и цыганках, о звёздах над тихим Доном, о буйной казацкой воле и слезах дивчины, что «полюбила козаченька, при месяце стоя». И как-то не вязалось его сплевыванье сквозь зубы, разговоры о домах терпимости и вульгарные частушки с невыразимой грустью его склонённого лица и слезами, тоскливо скатывающимися по щекам и капавшими на грязный, залитый пивом пол.
После работы в пивной собирались хлопцы, и снова ухал пол под буйными молодыми ногами.
Потом хлопцы дрались из-за девчат, кольями из тынов и кизиловыми палками проламывали друг другу головы, ломали рёбра и вспарывали животы ножами.
Животы зашивали, присыхали раны на головах, срастались рёбра, и недавние враги как ни в чём не бывало снова пили бесконечные магарычи, целовались и пьяно клялись друг другу в вечной дружбе.
Был среди них Юхим Кричун, высокий, русоголовый и длиннорукий, с синими наивными глазами и детской улыбкой на полнокровных, словно нарисованных губах. В карьере на него наехала вагонетка и придавила так, что он попал в больницу, а оттуда вышел косоглазым, худым и сплющенным, словно конверт.
Но вскоре он поправился и перестал косить глазами.
Однажды ему очень захотелось курить. А Гавриленко как раз бросил большой окурок, его хотел подобрать Заяц, которому тоже захотелось подымить. Но не успел он подбежать, как окурок очутился в длинной руке Юхима.
– Отдай.
– Отскочь.
И Юхим с наслаждением затянулся.
Разъярённый Заяц хотел вырвать окурок из железных рук синеглазого великана, но ему это не удалось, и он стал бить Юхима. Но это всё равно что бить в железную стену. Юхим даже не пошевелился. Он спокойно стоял себе и покуривал, пока Заяц не выдохся. Потом он выплюнул окурок и раздавил его ногой.
– Ну а теперь покажу, как у нас бьют.
Гляжу, а его кулак уже гудит у нашей хаты. Он ударил бедного Зайца всего один раз, и тот очутился на земле с полным ртом крови и выбитых зубов.
Его отливали водой.
Но Кричун был ребёнком по сравнению с Серёгой Дюжкой, которого боялось всё село.
Когда он дрался, то не вырывал кольев из тына, а ухватится за тын – и нет тына, ухватится за ворота – и нет ворот. А когда сбивал противника с ног, то брал его обеими руками за штаны и за пиджак и бил о землю.
Иду я как-то по «чугунке». Гляжу, а возле будки куча народу. Подхожу ближе, и – о ужас – наш непобедимый Серёга лежит весь мокрый и избитый. Он был пьяный, и какой-то мужик сбил его с ног кизиловой палкой.
У Серёги было два брата. Они работали на заводе, каждый – по сажени роста. Ночью они пришли к хате того мужика, который побил Серёгу, и стали его вызывать.
Мужик этот был храбрый и находчивый. Он взял большую макитру и, держа её перед собой, открыл дверь. От града камней макитра разлетелась на куски, в его руках осталось только донце…
Старый Гавриленко работал в карьере и был большой выпивоха. Он часто танцевал под аккомпанемент моей гитары до тех пор, пока мои пальцы не могли уже касаться струн, и всегда перетанцовывал меня.
Наш сосед, валах Арифей, повздорил с ним, но, будучи слабосильным, отомстил Гавриленко вот как.
Была поздняя осень, и во дворе стояли огромные лужи.
Гавриленко попросил у Арифея четвертак на водку, но тот пообещал поставить полбутылки, если Гавриленко искупается в луже.
И Гавриленко согласился.
Подошёл к луже и погрузился в неё по пояс.
Арифей стоит на сухом, пританцовывает от радости и кричит:
– Ныряй с головой!
Гавриленко нырнул.
– Ныряй ещё.
Трижды кричал Арифей, и трижды нырял в лужу старый Гавриленко. Так отомстил Арифей.
А Гавриленко выпил и на следующий день как ни в чём не бывало отправился в карьер рубить мел.
XXV
Дядька Кирилл Науменко, муж тётки Гаши Холоденко, троюродной моей тётки, был спокойный и молчаливый труженик. Он много лет работал на заводе, но имел и клочок земли. Батраков у него не было. Вместо них, фактически как батраки, день и ночь работали его сыновья Ягор и Ульян.
Ульян вечно что-то мастерил на подворье или в хате, и я никогда не видел, чтобы его руки не были заняты.
Такой же был и Ягор.
Он прекрасно, с мечтательно-соловьиным вдохновением пел: «По синим волнам океана» Зейдлица в гениальном переводе Лермонтова (или, кажется, Гёте в переводе неизвестного автора):
Оружьем на солнце сверкая,
под звуки лихих трубачей,
по улицам пыль поднимая,
проходил полк гусар-усачей.
У него был полный сундук книжек, которые все перечитал.
Он был добрым и отзывчивым, не отказывал мне. Особенно мне понравилась одна книжка про разбойников и их песня:
Я твой, когда заря востока
моря златит.
Я твой, когда сапфир потока
луна сребрит.
Я твой…
(тут я не помню)
когда пришлец блуждает
в горах в седом тумане…
и конец:
И в хоре звёзд рубиновых мелькает
мне образ твой.
Как ни странно, но песня «Оружьем на солнце сверкая»:
А там, чуть подняв занавеску,
чьих-то пара голубеньких глаз…—
которую пел Ягор, и конец песни разбойников оказались духовным толчком для исканий моего юношеского сердца, когда я в третий раз влюбился, уже не в серые и карие, а в голубые глаза и представлял их себе так же, как тот разбойник в горах, когда в море звёзд за раздвинутыми моим воображением стенами казармы её лицо, огромное, как небо, склонялось надо мной и тёплые, родные губы с ощущением физической реальности прижимались к моим горячим и жадным губам…
XXVI
Шёл июнь 1914 года…
У проходной конторки стояло множество людей, с тревогой вглядывающихся в крупные чёрные буквы воззвания.
Германия объявила нам войну.
Потом была общая мобилизация, закрыли казёнки и по улицам ходили манифестации с портретами царя и оркестром, которым руководил австриец с белым печальным лицом.
Грустные сцены проводов на фронт, станция, заполненная рыданиями и песнями, последние звонки и не последние слёзы…
Торжественно прохаживались полицейские, все в чёрном, с медалями на груди.
Ещё маленьким я, глядя на них, всегда чувствовал себя в чём-то виноватым и боялся смотреть им в глаза.
Как-то ночью иду с завода и что-то насвистываю. Подходит полицейский и говорит:
– Не свисти.
– Что же тут такого, что я насвистываю?
– А может, ты кого-то вызываешь.
Я перестал свистеть.
Грузно ходили эти вороны с серебряными медалями по перрону, залитому слезами матерей, подкручивали свои длинные усы и, как коты, поглядывали на осиротевших солдаток.
А где-то шумели поезда, переполненные людьми в серых шинелях, оторванными от привычного труда, с холодными дулами пушек на площадках, мчались на далёкие смертельные поля.
Я поступил в агрономическую школу, которая находилась возле станции Яма.
Зимой мы учились, а летом работали в поле и в экономии.
Я был стипендиатом.
В дымке воспоминаний встаёт лицо Сергея Васильевича Смирнова, преподававшего у нас русский язык.
Сухой и сдержанный, он, бывало, приходил к нам, когда мы учили уроки, наблюдал и записывал. С ним же длинными зимними ночами мы пели песни, и русские, и наши.
Вот проплывают лица товарищей с глазами, затуманенными песней, а она льётся в холодном классе, и нам тепло, тепло…
Украіно моя мила,
краю пам’ятливий.
Там любив я дівчиноньку,
там я був щасливий…
И мне кажется, что я уже много пережил и где-то на чужбине вспоминаю свой край, мою далёкую Украину, печальные карие очи покинутой девушки, и я вяну от грусти с полными горячих слёз глазами…
А то лечу я «Вниз по Волге-реке, с Нижня Новгорода» на «стружке, на снаряжённом», где «сорок два молодца удалых сидят». Все весёлые, с лихо заломленными шапками, в яркой одёже, в серебряном и золотом оружии. Только я один грущу… По ком?.. «Стружок» летит, и где-то на синих волнах могучей реки ждут нас смерть и слава, где-то кровавые и жадные губы персиянки прижимаются к моим, вернусь ли я к русым косам и синим очам единственной, что где-то там ждёт своего «буйна молодца»?.. А песня летит, и колышется река, шумят дремучие леса, и кровавый месяц грустно плывёт над ними…
Это – песня.
А товарищи…
Вот хулиганистый Алехин заливает чернилами тетрадку Кривсуна:
– Докажи, что это я залил твою тетрадь.
Мы все смеёмся. А Кривсун, длинный и кучерявый, тупо уставился на Алехина и молчит.
Он был не только глупый, но и скупой. От отца, лесника, он привозил полный сундучок сала. Сундучок был объёмистый и не влезал в общий шкаф с отделениями для каждого. И он замыкал его на большой замок. По углам, чтоб никто не видел, он уминал своё сало, а мы смотрели голодными волками на его сальные губы и сытые глаза.
Мы решили без спроса Кривсуна взять его сало. Но никак не могли открыть замок. Сундучок находился на третьем этаже, и мы в открытое окошко просто выбросили его на землю. Он разбился, и мы взяли сало.
Кривсун молча смотрел, как Алехин ест его сало. Алехин даже прямо говорил ему об этом:
– А докажи, что я ем твоё сало.
Где ты теперь, мой кучерявый дурачок? Поумнел ли ты или, может, твоё тело в длинной кавалерийской шинели навеки занесли снега нашей великой революции?
Вот Гнатко, с железными ручищами, иссиня-чёрными волосами и окаменевшими чертами лица. Он очень больно бьёт меня, чтобы я не матерился, а ночью мы ходим с ним в кухню спать с девчатами.
Вот беленький и нежный Вася Демский в убогом рыжем пиджачке расчёсывает пальцами свои волосы. Говорят, его пылко любила дочка помещика, а он её не любил и женился на простой дивчине с экономии.
Бурдун Даня, чернявый, похожий на индуса, он зажимает меня по углам и таинственно шепчет:
– Думаешь ли ты, Володя, о бедном народе? Как нам помочь бедному народу?..
И его тёмные, горячие глаза наполняются слезами от великой муки и любви. Его брат, революционер, сидел в тюрьме, и Даня горел его огнём.
В селе Звановке жила моя бабушка, и я у неё проводил каникулы. Она была религиозная фанатичка и имела на меня большое влияние.
Ещё маленьким она водила меня в церковь. Над головами селян дрожало марево от их дыхания, пахло ладаном, холодом и свечками. Мне нравилось смотреть на стройные ноги ангелов, лики святых и синие горизонты за ними. Только мне неприятно было молиться богу и чувствовать себя его рабом. Он тяжко давил на мою душу и никогда полно и искренне не увлекал меня. Иногда ночью, когда все спали, на меня накатывало желание упасть на колени и долго молиться, но порыв исчезал, и я засыпал без молитвы.
В школе было много журналов, и меня увлекали напечатанные в них патриотические стихотворения. Я тоже стал писать стихи.
Сергей Васильевич объяснил мне, что такое стопы и размер.
Первые стихи мои были о боге и Руси. Апухтин и Надсон являлись для меня недосягаемым идеалом, и мои тетради были исписаны их стихами.
Начинал я писать по-русски.
Помню первые строчки:
Господь, услышь мои моленья,
раскаянье моё прими.
Прости мои ты согрешенья,
на путь святой благослови.
Милая родина, многострадальная,
милая, светлая Русь.
Я о спасенье твоём, лучезарная,
жгуче и жарко молюсь.
Ребёнок. Что я мог и что понимал в то безумное и страшное время?
В конце учебного года мать написала мне, что отец заболел и ей не на что жить.
Мне пришлось оставить школу.
Отец сухо и гулко кашлял, у него расширились вены, и он почти уже не вставал. Он прерывисто дышал, лёжа на рядне, и удивлялся, почему к нему так липнут мухи. А они уже чуяли мертвечину и черно облепляли его.
Спокойно ждал он смерти. Только глаза его, большие и светлые, были полны муки и ужаса перед неизвестным. Он страшно исхудал и был не в состоянии откашливать мокроту, она душила его, и мать вынимала у него изо рта полные пригоршни вонючей, зелёной слизи.
Ему было всего лишь тридцать семь лет, а он был обречён на смерть.
Он давно уж не говел и говорил, что попы дурят народ. Ещё он говорил, что если бы немцы нас побили, было бы лучше, они дали бы нам культуру.
А его ноги уже заливала лимфа, и одна совсем опухла и посинела. Перед смертью он попросил положить его на пол. Солнце садилось, и мы положили его у порога.
Он лежал на спине и страшно подрагивал острыми коленками.
Начиналась агония.
Приехала бабуся. Она плакала мелкими старческими слезами, воздевала кверху руки, и я слышал сквозь её тонкий плач скорбное и монотонное:
– Ох, Коля, Коля.
Я побежал за врачом, а когда возвращался назад, встретил мать и по её бледному, залитому слезами лицу понял, что отца больше нет.
Его любили люди, и за гробом шло всё село.
Мокрой от слёз землёй засыпали моего отца.
Дожди смыли печальную надпись на белом кресте, а потом и он сгнил вместе с костями того, кто дал мне горячее сердце и мятежную душу.
Я стал носить рыжий пиджак отца и поступил на завод.
Часто мы ездили с помощником маркшейдера на шахты и в душных, мокрых штольнях делали съёмки для чертежей.
Замурзанные шахтёры по колено в воде гоняли тяжёлые вагончики и, матерясь, долбили уголь. Иногда под дикий свист коногона пролетала цепочка вагонеток, и мы прислонялись к подпоркам, чтоб вагонетки нас не раздавили.
Самая страшная смерть – в шахте. Я не мог себе представить, как это можно умереть вдали от солнца с горой земли на груди.
Мы ходили согнувшись, и с непривычки я ударялся головой об «матки».
А когда клеть, как безумная, выталкивала нас на поверхность, наступал вечер, и звёзды, холодные и далёкие, светились над землёй.
XXVII
Сапожника Кривовяза (он действительно был кривошеий) провожали на фронт, и его брат пригласил меня на прощальный вечер, потому что у меня была гитара. Он сказал, что у них будет одесская артистка.
Когда я переступил порог хаты Кривовяза, то увидел девушку с красными розами на щеках, тонкими чертами лица и чёрными бровями, птицей влетевшими в мою душу, и моё семнадцатилетнее сердце сладко сжалось в холодный комок от одного счастья только смотреть на неё. Меня закрутил сладостный вихрь первой любви.
Было очень весело и грустно.
Поразила меня песня:
Козак від'їзжаэ,
Дівчино-о-нька плаче.
Куди від'їджаэш,
Мій милий козаче!
А он отвечает:
Я іду на той пир,
де роблять на диво
з крові супостата
червоніє пиво.
И мне казалось, что это не Кривовяз едет на фронт, а плачет по мне моя первая любовь (её звали Докия, Дуся).
И с тех пор, как только зазвучит во мне этот мотив, особенно то место, где «Дівчино-о-нька плаче», сразу же вспыхивает свет того мгновенья, когда меня пронзил молнией холодок счастья первой настоящей любви.
Мы играли в фанты. Пришла и моя очередь исповедоваться.
Я сел, а напротив меня на стуле – Дуся.
Нас накрыли большим платком. И Дуся спросила меня своим задушевным, грудным голосом в той сладкой и таинственной полутьме, где так волшебно светилось её навек дорогое лицо:
– Грешен?
– Да.
– Сколько раз согрешил?
– Десять раз.
По условиям игры мы должны были поцеловаться десять раз. Но мы потеряли счёт поцелуям, целовались до тех пор, пока с нас не стащили платок нетерпеливо дожидающиеся своей очереди хлопцы.
Мы договорились встретиться на следующий день у нашей станции. Дуся жила в Лисичем, но на свидание она пришла с подругой.
Но это ничего.
Я был неизъяснимо счастлив только от того, что смотрел на неё и слышал её голос. Весь мир светился и пел. Когда же мы простились и они с подругой ушли, весь мир сразу стал тёмным и пустым, словно на мои глаза опустилась чёрная завеса.
И потом часто, после работы, я ходил в Лисиче, чтобы только увидеть её, только услышать, как она скажет своим бархатным любимым голосом, пленявшим мою душу: «Володя!..»
И этого мне было достаточно.
Однажды у её дома, на Базарной улице, я сказал ей:
– Дуся! Я хочу тебе что-то сказать… Давай отойдём в сторонку.
Мы были не одни.
Она, словно зная, что я скажу, чуть поколебавшись, отошла со мной за угол дома, где было темно и не было людей.
И звёздная зимняя ночь услышала мой хриплый от волнения голос:
– Дуся!.. Я люблю тебя…
– Ну?!
Я неловко взял её за плечи, а она стала на цыпочки и припала горячим ртом к моим жадным губам…
Она целовала меня не так, как в игре в фанты, а взасос и так крепко, что даже стало больно зубам и голова закружилась от огромного, как мир, счастья.
Три года я любил её, как никого и никогда не любил до неё.
И пришла ночь, которая стала золотым, полным радости и цветов днём.
Был апрель 1917 года.
Приближалась пасха, и Дуся назначила мне свидание у церкви, она выйдет с исповеди – и мы встретимся.
Я снова был учеником сельскохозяйственной школы и пришёл в форменной шинели и фуражке, на которой были золотые грабли, коса и колосья.
Ночи ещё стояли прохладные и сырые.
Мы пришли на Дусин огород. Я снял шинель и постелил на влажную чёрную землю, и мы с Дусей сели на неё.
Я обнял её и прижал к своему сердцу, задыхаясь от любви, а она заплакала и стала просить меня, чтобы я не покидал её, чтобы поклялся ей в верности, что я с радостью и сделал, поклялся ей, как Демон Тамаре.
Только почему, когда она плакала, её ресницы под моими губами были сухими?..
Потом она спросила:
– Ты завтра придёшь?
– Нет, у меня болит голова.
– Все вы такие!..
Её девичий венок ещё до меня был растоптан, хотя она уверяла меня до минуты слияния, что никогда и никого до меня не любила.
Так разбилась моя первая любовь.
Она, как подстреленная жестоким охотником чайка, волочила перебитое горячим свинцом окровавленное крыло по терниям и каменьям моей муки и никак не могла взлететь в небо…
В ночь, когда разбилась моя любовь нежной головкой об острые каменья, Дуся показала мне дорогу к Донцу через яр, чтобы я не шёл по улице, где меня могли встретить лисиченские хлопцы, верные давней шахтёрской традиции.
Встретив чужака, к тому же не поставившего им магарыч, они берут его за руки и за ноги, поднимают над головой и со всего маху – местом, что пониже спины, – бьют, как трамбовкой, о железную донецкую землю.
Ну а после этого у человека всё внутри отшибется или повисает как на волоске, и вскоре погребальный звон по нём холодно звучит в синих и безразличных небесах…
Идя от Дуси из Лисичего, где всё пахло углём и юностью, я по дороге заходил в помещение нашей станции погреться после путешествия по холоду, потому что одет я был не очень-то тепло.
В толпе людей я часто видел смуглую девушку с широкими бёдрами и полными стройными ногами.
Она украдкой смотрела на меня, но когда я заглядывался на неё, она тут же отворачивалась, делая вид, что не видит меня.
И вот пришло лето. Осокори и вербы над Донцом в зелёных своих платьях гляделись в зелёное зеркало вод и мечтали, как девушки, любуясь своей красотой в волшебном стекле, отражавшем их в зыбящейся глубине.
Каждый вечер мы ходили на станцию встречать пассажирский поезд, который подлетал к перрону с синими искрами, сыпавшимися из-под колёс.
Ровно в семь он тяжело дышал, отдыхая от бешеного бега под уклон от полустанка Вовчеяровка до Переездной, как называлась наша станция.
Однажды в толпе я увидел Дусю, которая стояла спиной ко мне и сладостно-знакомым жестом поправляла тонкими пальчиками волосы у нежного, милого ушка. Она обернулась, и на меня глянула сестра Дуси, очень на неё похожая.
Я так любил Дусю, что, когда видел её, у меня враз, как у боягуза на фронте перед атакой, схватывало живот… И это после того, как мечта моя разбилась вдребезги и осколки остро впились в сердце, полное любви и сожаления…
Проводив поезд, мы, заводская и сельская молодёжь, шли к скверу, расположенному между станцией и заводом, и под заливистые звуки заводского оркестра гуляли по пыльным аллеям. Парни заигрывали с девчатами, а детвора швыряла в третьеротских красавиц репейником, который цеплялся к их юбкам…
Мы ходили взад-вперёд по главной алее двумя длинными рядами, и головы первого ряда были повёрнуты к головам второго ряда.
Мой товарищ сказал мне:
– С тобой хочет познакомиться одна загорянка.
Загорянами у нас называли всех, кто жил в заводском посёлке на горе.
Я спросил:
– А она красивая?
Товарищ усмехнулся:
– Как на чей вкус. Да вот она идёт!
Напротив нас шла та, что частенько украдкой посматривала на меня на станции чёрными, полными любви глазами. Мы познакомились.
Её звали Татьяна.
Рядом с большим сквером был сквер поменьше, куда почти никто не заглядывал.
Мы пошли с Таней в тот скверик. Сели на скамейку.
Долго молчали.
И вдруг Татьяна в томной истоме склонила своё лицо мне на грудь…
– Володя!.. Я люблю тебя!.. – прошептала она и почти без чувств застыла на моём плече…
Поздно ночью я провожал её на гору мимо татарских казарм.
Приближалась гроза, и травы страстно и пьяно шумели на ветру…
Молнии пронзали небо, а сердца наши пронзали другие молнии…
Я не любил Татьяну. Мне просто было приятно, что она меня любит.
Потом мы долго сидели на крыльце её хаты. Целовались в сполохах молний. И Татьяна, разгорячённая и растрёпанная, всё не давалась мне, боролась со мной, любящая и страстная…
А потом гроза ударила о землю рясными слезами неба…
И Татьяна в тёмных сенях, горячо дыша мне в лицо, сказала:
– Ты же не говори никому.
Мы часто ходили с ней в каменный карьер за посёлком, и я любовался её покорной красотой, залитой морем серебристого сияния небес…
Мне было странно и диковато-сладко оттого, что она, такой же человек, как и я, но вот я могу повести её куда захочу и делать с ней что захочу.
Моя работа в шахте лишала меня возможности помогать матери, как я хотел бы, и я решил продолжать учиться в сельскохозяйственной школе.
Я сказал об этом Татьяне. Она грустно посмотрела на меня:
– Тогда я тебя потеряю.
Когда я гулял с Дусей по центральной улице Лисиче-го, за нами всегда ходили стайки девчат, и за спиной я слышал их комплименты в мой адрес:
– Хорошенький!..
– Хорошенький!..
И мне приятно было это слышать. А то ещё у нас на «чугунке», около завода, где мы прогуливались по путям, валахские девчата от души хлестали меня верболозом в вербную неделю.
Так они выражали свою симпатию ко мне. Словом, я был ничего себе хлопец. И даже сестра Зоя говорила, что я красивый.
И вот, когда я гулял в садике кинотеатра, возле шахты «Дагмара» в Лисичем, парнишка передал мне записку, в которой было написано, что со мной хочет познакомиться одна девушка.
Я посмотрел, куда показал мне парнишка. Навстречу мне шла пышная смуглянка, настоящая библейская красавица.
Мы познакомились.
Её звали Юлия.
После кино я проводил её домой.
Было уже поздно. Пошёл дождь. И мы остановились под козырьком базарной будки.
Я стал её целовать.
А она как-то чудно раскрывала губы, так что вместо поцелуя получался лишь свист, и я целовал её дыхание…
Я рассердился и оставил её одну.
После каникул в каменскую школу пришло пространное письмо от Юлии, в котором она писала, что «Ваш поцелуй прожёг меня насквозь…», «хоть бы гром неба разразил мою душу…».
Я думал: и какой уж там поцелуй, и как он её мог прожечь насквозь, когда его и не было, а только пустой свист…
Мне было неприятно, что Юля написала письмо со стихами Бальмонта и Северянина на бланках своего отца, который служил управляющим на угольных складах.
И снова Лисиче…
На улице Камни по вечерам гуляла молодёжь, гулял и я.
В толпе я увидел Юлю. Она была в белом, как вишнёвый сад, платье и шла с подругой.
Я пошёл ей навстречу. Юля что-то шепнула подруге, и та исчезла в толпе.
Мы пошли за село.
И вот… В лунном свете лежит на камнях роскошная Юля с огромными чёрными очами и от нетерпения рвёт белыми, красивыми зубами лакированный ремешок моей фуражки…
Вся душа моя рвётся к ней, а я, точно каменный, стою над нею, смотрю на её наручные часики и говорю:
– Поздно. Мне пора домой.
А она не поднимается и властно ждёт.
Меня возмущало то, что её глаза имели надо мной какую-то почти необоримую власть.
Потом она писала мне в школу, что я – её мечта и она хочет с этой мечтой «реально столкнуться».
Но до «столкновения» не дошло, потому что я не любил её.
Юля поднялась с камней, отдала мне фуражку и пошла провожать меня за Лисиче, в противоположную сторону, к Третьей Роте…
Когда мы вышли за село, она смотрела мне в глаза грустно-грустно…
И этот взгляд был такой властный, что душа моя едва не рассталась с телом, чтобы навеки слиться с её душой… Но я стоял как вкопанный.
Тогда Юля подошла ко мне близко-близко и спросила:
– Значит, надежды нет?
И с моих равнодушных губ холодно слетело:
– Нет.
Юля чёрной тенью повернулась с опущенными плечами и руками и, сгорбившаяся, полная скорби, ушла в ночь. Моё сердце рванулось за ней, но я был словно каменный.








