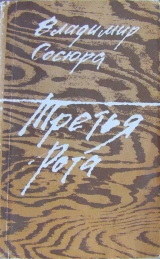
Текст книги "Третья рота"
Автор книги: Владимир Сосюра
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
ХLV
В Одессе, в нашем политотделе, я встретил своего товарища по заводу. Мы много с ним говорили, и он выхлопотал мне командировку на политические курсы, которые находились тут же, при политотделе дивизии.
И я остался на курсах.
Море было синее и прекрасное. На лекциях говорили, что «бытие определяет сознание», что душа «продукт производственных отношений…». И мне стало жутко, что вот я, человек, который управляет своими мыслями и поступками, оказывается, нахожусь в подчинении какой-то табуретки и вообще мёртвых вещей.
Мне не хотелось больше жить, и я договорился с одной курсанткой, что мы повесимся…
Но море было такое чудесное и по вечерам на Дерибасовской улице золотой нитью мерцали в небе фонари, воздух был нежным, тёплым и бархатным – и я передумал умирать.
Я познакомился с одесскими поэтами, они приняли меня в свой кружок. Раз в неделю мы собирались и читали стихи. Я был очень застенчив. Особенно я стыдился своих белых обмоток. Однажды я читал стихи, а из-за пианино на меня смотрела смуглая девушка в буржуазной одежде, с янтарными бусами на шее.
Вообще на меня смотрели многие девушки, и от этого я ещё больше смущался. Девушка с бусами попросила у меня прикурить. Я протягиваю ей зажжённую папиросу через пианино, но она не берёт, а хочет, чтобы я дал ей прикурить изо рта. Я взял папиросу в губы и наклонился к ней через пианино, и наши глаза почти сблизились… Когда её папироска зажглась, она сказала:
– Как хорошо жить!
Вечером, после чтения стихов, она провожала меня к политотделу дивизии. Когда мы целовались, меня поразило, что у неё такой большой рот, мой рот потонул в нём, и мне стало неприятно. Потом, когда увидел её голой на пляже, я совсем разочаровался в ней. У неё было полное смуглое тело, и на нём, точно на тесте, оставались ребристые отпечатки камешков, к которым она прижималась. И вообще все эти буржуазные женщины, которые любили мои стихи, на меня смотрели как на дикаря, наивного дикаря, напоминавшего им героя Гам-суна, и это отталкивало меня от них, ведь я был красноармейцем и душа моя вовсе не такая, как они представляли: я тоже любил красоту и понимал её. А они подходили ко мне дико и страстно. Им, наверное, надоели все эти рыжие форсуны, которые их окружали и которые только и умели поднимать платочки и говорить с французским прононсом. И их кавалеры не пахли кровью, как мои губы. Они говорили, что у меня «одухотворённое лицо бандита», и не верили, что я не убил ещё ни одного человека. А в лунные ночи они ходили со мною к морю. Стояло лето. Природа была такая незнакомая и так глубоко меня волновала. И влюбилась в меня девчонка. Маленькая девчонка. Она ходила со мной к морю, слушала мои стихи и всё просила, чтобы я поцеловал её, но я не хотел, потому что она была такая маленькая. У этой девочки были черты женщины. Она ревновала меня, особенно к девушке с янтарными бусами. Одна поэтесса с революционной фамилией ходила ко мне на курсы. Я жил в отдельной комнате с бархатной малиновой мебелью, а окно закрывалось ставнями изнутри. За окном был коридор. И мимо часто пробегали курсанты. Так я, чтобы они не заглядывали в окно, закрывал его ставнями. И мне было странно, что поэтесса смеялась, когда я брал её… Она говорила:
– Товарищ Сосюра, давайте жить вместе.
Мне было неловко:
– Как же мы будем жить вместе, я ж красноармеец – сегодня здесь, а завтра там?
Приближался выпуск. Однажды я пошёл в политотдел армии за назначением. Я вошёл в приёмную и увидел на диване… Ольгу… Она была в кожаной куртке Андрея, в лохматой шапке и с маузером. Чудно выглядела: верхняя половина мужская, а нижняя женская. Чёрная юбка и те же самые стоптанные башмаки.
– Здравствуйте.
Она смотрит на меня и не узнаёт. Нам выдали костюмы из мешковины, и ещё на мне была французская шапочка с маленькой красной звёздочкой.
Я уже был членом партии.
Случилось это, когда поляки захватили Киев.
– Не узнаёте?
Глаза её вдруг стали тёплыми и ясными, и вся она аж подалась ко мне. Но ей нужно было идти на приём, и мы успели лишь договориться о встрече. Я сказал ей свой адрес. Она пообещала прийти ко мне в два часа дня.
Но мне не верилось, что она придёт, она же такая аристократичная и с высшим образованием, а я всего лишь красноармеец. Я не пошёл на курсы к двум часам и до вечера бродил по городу. Было уже темно, когда я вошёл в свою комнату. В углу сидела Ольга, а на столе возле неё лежало бог знает сколько окурков.
– Что же вы меня обманули?
Я сказал, что не поверил её обещанию прийти ко мне. Она засмеялась, и мы сразу же перешли на «ты».
Она курила папиросу за папиросой, я тоже стал курить папиросу за папиросой. Мы очень волновались и всё говорили про любовь. Она про свою любовь к Андрею, а я к Констанции. На следующий день я не пошёл на лекцию. Ольга снова пришла ко мне. Когда она смотрела на меня, губы её словно наливались кровью. Она говорила, что с закрытыми глазами может узнать человека, если возьмёт его за руку, и брала мою руку. Нам вместе надо было ехать в политотдел армии в Жмеринку.
Ольга говорила:
– С тобою опасно ехать, – и смеялась.
Она почему-то стала гладить мои волосы, а я был такой инертный и чувствовал себя словно девушка. Её лицо близко склонялось к моему, и мне стало жутко и сладостно, когда она стала меня целовать. Она целовала меня так долго, что у меня перехватило дыхание. Мы встали с дивана и, словно во сне, ходили по комнате, опрокидывая стулья, а Ольга всё целует меня: и шею, и руки. Она встала передо мной на колени и стала целовать мою одежду. Я подумал: «Равенство и братство» – и тоже стал на колени. Уже вечерело, и мы вышли из гостиницы. Ольга зашла к себе переодеться. Она вышла в той же кожаной куртке, и я подумал: что же она переодевала? Мы пошли вниз к морю. Над нами на Николаевском бульваре шаркали подошвы гуляющих. Ведь это юг с тёплыми вечерними огнями и шумом моря. Мы подошли к разрушенной стене у моря. Под нами бездна. Волны били в руины какого-то здания, где испуганно метался огонь. Я сел на стену. Ольга сказала:
– Давай ляжем.
Я почувствовал, что кустарник колет мои щёки, а Ольга снова стала меня целовать. Это был какой-то огненный смерч. Он закружил меня в своей круговерти. Ольга распахнула куртку, под ней сверкнуло молодое, белое и упругое тело. Мы начали дрожать. Всё сильнее и сильнее. А потом я забыл обо всём. Я утонул в горячем тумане. Меня не было совсем. Были только расширенные глаза Ольги, её частое дыхание, и всё… А потом мы снова стали целоваться и дрожать. Это было какое-то безумие. Я даже испугался. Может, это от моря?
Ольга:
– Я хочу выстрелить.
Я:
– Зачем тратить патроны – они пригодятся для панов.
Но Ольга выстрелила в ночь, в море, прямо в огонь разрушенного дома… Огонь испуганно заметался и погас. Утомлённые и счастливые мы шли вверх. А Ольга всё целовала мои руки. А я не целовал её рук. Я только, как девушка, позволял ей целовать свои.
Приехали итальянцы, привезли пленных солдат бывшей царской армии. Одна итальянская миноноска наскочила на мину. Хоронили итальянцев на Куликовском поле. Выступал Серрати[19]19
Серрати Джачинто Менотти – один из руководителей Итальянской социалистической партии, участник II конгресса Коминтерна. Умер в 1926 г.
[Закрыть]. Мы не понимали итальянского языка, но мы ощущали революционный огонь и кричали «ура» и «даёшь» под траурные залпы орудий.
Ольга шла со мной по городу. К ней прицепился итальянский лейтенант, но она что-то сказала ему по-французски, и он отскочил от неё как ошпаренный. Как-то грустно любила меня Ольга. Она всё отбрасывала волосы жестом Андрея и хмуро глядела перед собой.
Однажды она не пришла, хотя и говорила, что придёт. Мне было так тяжело, будто изрубили меня на куски и я весь сочусь кровью… Я уже не знал, кого я люблю больше – Ольгу или Констанцию. На следующий день Ольга пришла. Но я всё время был грустным. Она спросила меня – почему я грустный? Я долго не хотел ей говорить, а потом сказал: потому что не было её. Она радостно и счастливо засмеялась, заключила меня в объятия – и снова был тот огонь…
Она сказала, что ходила к портнихе.
Приближался день отъезда. Получилось так, что Ольга едет раньше меня.
Наступил вечер. Мы пошли к морю через Александровский парк. Стоял золотой октябрь. В парке было так хорошо, что мы остались там.
У Ольги уже не было юбки. Она сшила себе синие галифе и красные сапоги. Когда я давал ей свою шинель, она напоминала мне юнкера с тонкой, подвижной фигурой. Мы легли под деревьями. В парке никого не было. Где-то далеко в вечернем небе догорали золотые руины, и мне казалось, что это средневековый замок, а мы с Ольгой – молодые феодалы, возвратившиеся из далёкого путешествия, и этот замок в вечернем золоте – наш.
Проходили изредка торговки, и мы покупали у них дыни. У нас не было ножа, и Ольга тонкими и нежными пальцами ломала их. Мы целовались – два парня. Я расстегнул на ней одежду и ласкал её, а из кустов кто-то в полосатых штанах подглядывал за нами, да так увлёкся, что выдал себя шуршанием травы. Ольга вскочила и выстрелила по кустам из маузера. Кусты испуганно зашумели, и снова в парке пустота, янтарные ковры листьев, красные губы Ольги и её молодое, девятнадцати вёсен, тело. Она рассказывала про красную Венгрию, где она работала, как там задушили советскую власть. О своей первой любви к венгерскому революционеру, о подполье и тюрьме. С ужасом и мукой говорила, как её насиловал жандарм.
Мы шли к морю. Было уже темно. Прожектор огненными пальцами ощупывал ночь. Мы подошли к стене. Открыли узенькую чугунную калитку. За стеной свежо дышало море, а внизу, на развалинах, белая коза. Мы отошли чуть в сторону от калитки и легли на мою шинель. Только начали целоваться, как открылась калитка и на нас двинулась толпа людей. Я скатился с Ольги прямо в ярок, и мы тихонько лежали, пока прошли люди.
Завтра Ольга уезжает. Грустный, провожал я её на станцию. Душу мою жгли огнём последние звонки. Когда я подсаживал Ольгу в вагон, у неё на колене лопнуло галифе, и я на прощание припал губами к её колену. Вокруг смеялись люди, а я не обращал на них внимания, я видел только Ольгу и её тёплые глаза под лохматой шапкой. Отгремели прощально вагоны, а я всё стоял и видел бледную тонкую руку в полуденной синеве.
…Вскоре мы отправились на фронт. Под стук колёс, летевших на далёкий голос смерти, мы пели революционные песни. Они были такие яркие и хорошие. Это нас так волновало… В открытые окна вагонов мириадами далёких и вечных огней заглядывала ночь… Юные голоса дрожали, будто слёзы, которыми был залит «мир безбрежный»… Поезд мчался, и в нём мы с радостью несли в огонь свои жизни, чтобы осушать эти слёзы.
В политотделе армии я встретил товарища моего детства – Павку Евсеенко. Он был уже начальником политотдела дивизии и, знакомя меня со своими товарищами, немного иронично рекомендовал меня:
– Знакомьтесь, это бывший петлюровец.
Мне тяжко было слышать, что я «бывший петлюровец», и захотелось, чтоб меня ранило на фронте. В Каменце я отдал в политотдел дивизии свои документы и пошёл гулять. Ко мне подошёл парень с винтовкой и спросил документы. Я сказал, что документов у меня нет, что я отдал их в политотдел дивизии, и просил его пойти со мной туда, но он не захотел идти и повёл меня в ЧК.
В ЧК спокойный рабочий с железным лицом взглянул на мой партбилет, сказал: «Это наш», – и отпустил меня.
Меня назначили сотрудником дивизионной газеты «Красная звезда». Недалеко от Гусятина стоял наш эшелон, а где-то вдали гремели пушки. Там наступала наша дивизия. Мы меняли у пастухов газеты на яблоки, устраивали митинги и киносеансы в сёлах, освобождённых от панов. Стояли холодные лунные ночи с серебристыми тополями и длинными тенями от них. Наконец мы подошли к Гусятину. Он был весь разрушен ещё во время сражений империалистических армий. Ночью я ходил на развалины и всё мечтал об Ольге. В политотделе армии я отыскал в анкетах её фамилию, но куда она назначена – неизвестно. Мимо проносились эшелоны с новыми частями, и я всё смотрел, не блеснут ли из-под лохматой шапки тёплые Ольгины глаза.
Враг остановил наши армии, и на фронте стало тревожно. Меня посылают на фронт. Я хотел попасть в полк Андрея, но его полк не был ещё в распоряжении политотдела дивизии, и меня послали заведующим библиотекой в сапёрную роту. Я чуть не плакал, потому что очень хотелось попасть к Андрею, меня же направляют библиотекарем только потому, что хотят сохранить поэта.
Рота стояла где-то под Монастырисками. Я едва нашёл её. Только стал составлять каталог книг, как из тыла полетели снаряды, рвутся прямо под моим окном у униатской часовни. Связь была плохой. Наши части ночью отступили. И мы оказались под польским и нашим огнём. Не было ни подвод, ничего. Мы опрокинули арбу с сеном, которую вёз какой-то дядька, уложили туда кое-что из телефонного имущества и взбежали на гору. За горой стояли наши батареи и пулемёты, но надо же спасать ротное имущество. О библиотеке я и не думал, она осталась в комнате с моим недописанным каталогом. Пошли семь человек во главе с военкомом и командиром роты Прокоповичем на лошади. Пробыли они там недолго. Прибежали бледные, без командира роты, у военкома разорвана шинель, а лицо от бега налилось кровью. Оказывается, на них налетела конная разведка черношлычников.
Случилось это так: едва хлопцы спустились с горы, как на горизонте показались движущиеся чёрные точки. Они быстро приближались. Кавалеристов было восемнадцать человек. Начали отстреливаться, но винтовки японского образца после второго выстрела стали почти непригодны для стрельбы. Затвор словно прикипал, и его надо было отбивать ногой, а враг приближался со сказочной быстротою. Но и черношлычникам было нелегко. После выстрела конь под кавалеристом останавливается и вертится на месте. Тогда мишень оказывается неподвижной, и конник валится на землю. Черношлычники спешились и залегли в цепь. Под их огнём наши хлопцы стали отступать. Перескочили через плетень, а командир роты не смог, он был на коне. Четыре всадника летели на них. Два красноармейца не выдержали и побежали… За ними погнались двое конников. Первый кавалерист пролетел возле комроты, но не успел нанести удар саблей, которую выхватил, когда нёсся мимо. Второй всадник кричит комроты: «Бросай винтовку!» Прокопович бросил винтовку, выхватил наган, но почему-то не стреляет, комроты забыл, что наган не самовзвод, и черношлычник рубанул его по голове саблей, комроты упал, хлопцы не могли помочь ему, потому что отстреливались от петлюровцев, которые залегли за домами. Черношлычник подскочил прямо к плетню, он ладно и стройно сидел на коне, а с клинка его сабли ещё стекала кровь комроты. «Панове большевики, бросайте оружие!» Но товарищ с правого фланга вместо того, чтобы сдать оружие, выстрелил ему в голову из японского карабина…
Отступаем на Гусятин. Но в Гусятине уже поляки. Расстроенные, злые, стоим у шоссе, а мимо с музыкой проходит триста шестьдесят второй полк, которым командует Андрей Минский. Почти все красноармейцы – солдаты, вернувшиеся из французского плена. Позади на тачанке едет Андрей. На нём обыкновенная ватная фуфайка и старая солдатская фуражка без звезды.
– Ты почему здесь? – кричит он мне. – Поехали со мной!
Его полк шёл на ликвидацию прорыва. Я уже занёс ногу на тачанку, но на плечо мне опустилась рука моего военкома.
– Нельзя.
Я грустно смотрел вслед Андрею. Где-то за поворотом исчезли синие колонны, и только слышны были приглушённые звуки оркестра.
Мы отступаем через леса на Сатаново. В ночной тьме батареи увязают в глине, и мы вытаскиваем их руками, освещая себе дорогу факелами из соломы. Наскочит из-за кустов враг, и наступит смерть. Мы шли почти последними, и я декламировал про себя стихи, посвящённые Ольге.
Части сбились и перепутались. Говорили, что у поляков есть женские конные отряды, – похоже, что они переживают нашу керенщину, надеются, что мы вернёмся назад.
Перешли Збруч, и уже в Сатаново кто-то не выдержал, крикнул:
– Теперь мы на своей земле, да здравствует советская власть!
Но и на своей земле мы в панике отступаем. Мимо мчались обозы. По дороге катились буханки хлеба, а мы шли в пыли, голодные, босые, и смеялись над трусами.
Все настораживались, когда на горизонте холодно сверкало оружие и раздавались крики: «Поляки!» С нами отступало много галицийских солдат. А ночью, в сарае, под тревожные, близкие выстрелы пушек и хохот пулемётов, я рассказывал товарищам о своей любви к Ольге, они слушали и по-доброму смеялись надо мной. Так и обращались ко мне:
– Тов. Ольга, пошли в разведку.
Меня снова отозвали в политотдел дивизии для работы в «Красной звезде».
Наступил октябрь. Наш вагон стоял на Вапнярке. Ночами было страшно холодно. Бельё я променял на хлеб, и у меня остались только галифе и гимнастёрка, которые я взял у пленного петлюровца. Ещё с детства я привык спать нагишом. И в вагоне со слезами и проклятиями я раздевался догола, расстилал на газете гимнастёрку и штаны и укрывался дырявой шинелью. За ночь я раз двадцать просыпался, а когда одевался, снова ныл от холода, проклиная свою судьбу. А рядом, в вагоне политпросвета, под пальцами пианиста, обутого в постолы, гремел марш Гинденбурга.
После примирения с поляками меня посылают на военно-политические курсы при политотделе армии. Заведующим курсами был товарищ Скворчевский.
Курсы находились в Елисавете. Был уже ноябрь. После голода на фронте (по пять дней мы ничего не ели, а когда удавалось поесть, то это были в основном яблоки из господских садов) у меня началась дизентерия. Я сказал завхозу, чтобы он дал возчика, пусть отвезёт меня в больницу, потому что я босой, а на улице грязь и идёт снег. Но он не дал мне возчика, и я босиком пошёл в больницу. Она находилась далеко, где-то за вокзалом. Иду и плачу, а мимо проходят красноармейцы, гремит «Интернационал», и от этого мне ещё больше жаль себя. Прохожие глядят на меня жалостливо, качают головами. Когда я проходил через вокзал, ко мне подбежал спекулянт и хотел купить мою шинель. Это было так дико и страшно, ведь я босиком, а он хочет совсем меня раздеть.
Пока мне выделили койку, я восемь дней лежал и мучился на грязном и заплёванном полу в изоляторе.
Однажды в изолятор вошла женщина – военком госпиталя. Это была наша дивизионная политработница. Она узнала меня и дала мне постолы.
Когда я выходил из больницы, наступила уже зима. На политкурсах обстановка была бодрая, весёлая, только когда я ел хлеб, чёрный тяжёлый хлеб, мне казалось, что в желудке камни. Но это не мешало мне вместо Ольги любить политэкономию. Я даже хотел бросить писать стихи и стать просто политработником. Политэкономию преподавал Скворчевский. Преподавал очень хорошо – я до сих пор ни разу не встретил такого лектора, как он. От моих постолов остались одни ошмётки. Девчата сшили мне из шинели туфли, и я каждое утро выскакивал в них на улицу, бежал через квартал и на углу смотрел местную газету – нет ли там моих стихов. В то время выходила и анархистская газета «Набат». В «Набате» часто появлялись сообщения о выходе коммунистов из партии.
3. Т. Скворческий волновался и говорил:
– Разогнал бы этих сопляков, а то мы дождёмся, что они начнут стрелять в нас на каждом перекрёстке.
И вот как-то ночью (это было уже после победы на Перекопе) – «К оружию!» – мы все выбежали и с нервным смешком стали одеваться. У курсисток глаза горели энтузиазмом, они тоже были с винтовками и хотели идти с нами. Восстал Махно и хочет захватить
Елисавет. Все части вышли за город, двигались колоннами. Я вдруг растворился в могучем ритме шагов и покачивании рядов. Меня не стало. Поднявшаяся волна невообразимой силы затопила моё «я». Я почувствовал мощь и порыв миллионов «мы» революции… И было радостно идти на смерть.
Меня и ещё двух товарищей послали в дозор. Где-то далеко остались огни города и наша застава. А мы стоим в тревожном и пустынном поле, одиноко и жутко гудят провода, и вокруг ни души. Но вот из тьмы приближается неведомый отряд. Мы послали товарища сообщить на заставу о враге, а сами выстроились с винтовками «на огонь» и как безумные орём:
– Стой!.. Выезжай один!..
Отряд словно вгруз в снег. От него отделился один из всадников, их командир с наганом в руке, подъехал к нам.
Мы:
– Какой части?
Он:
– Нашей.
Мы:
– Пропуск.
Он:
– Орёл. Отзыв?
Мы:
– Тамбов.
И не успели мы оглянуться, как нас уже окружила конница.
Отзыв был не «Тамбов», а «Курск». И мы ждали, что нас начнут рубить. Мои плечи тоскливо сжались, словно уже почувствовали холодную страшную сталь.
– Кто начальник гарнизона?
– Не знаем. – Мои плечи сжались ещё сильнее, по костям пробежал чёрный ветер смерти.
– А ваш военком?
– Скворчевский.
– Ведите нас к вашему военкому.
Это был отряд ревтрибунала.
Махно пробился к Чёрному лесу. Захватил на полчаса Ново украинку. На следующий день он захватил её вновь, когда работали предприятия и всё было тихо, и удерживал пятнадцать часов. За это время он вырезал местную милицию и комсомол. В лесных боях, в кромешной ночной тьме, Махно смешал наши части, и свои били своих… брали в плен комрот наших полков. В поле шла конная дивизия. Начдив и военком с ординарцем отъехали далеко вперёд. Из леса выехали несколько тачанок и конница. Начдив посылает ординарца узнать, кто это. Тот подъехал к неизвестным конникам, стал разговаривать с ними. Значит, наши. Военком и начдив спокойно едут им навстречу. А это были махновцы. Под угрозой смерти они заставили ординарца молчать, и он молчал.
Махновцы подъехали:
– Кто такие?
– Я – военком такой-то.
– Я – начдив такой-то.
– Ага, вы-то мне и нужны. Слазьте с коней!
Махновцы поставили военкома и начдива на колени, на глазах почти обезумевшей дивизии наклонили им головы, изрубили и чёрной молнией исчезли в лесу.
А из окрестных сёл в Елисавет всё везут и везут на сельских фурах изрубленных юнаков. Махно был уже где-то под Уманью. Дал бой красноармейцам и помчался дальше.








