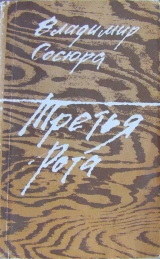
Текст книги "Третья рота"
Автор книги: Владимир Сосюра
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
XII
Мы снова в Третьей Роте. Жили мы у Ивана – портного с деревянной ногой.
Он был красивый и нравился девчатам. А когда ему на руднике в пьяной драке отсекли жестяным чайником кончик носа, он перестал нравиться девчатам. Особенно одной, с которой – до эстетической катастрофы с ним – у него был роман. Со своими младшими братьями он был очень строг и чуть что кричал:
– А где мой ремень? – и тянулся за своим сапожным ремнём, которого страшно боялся его младший брат Макар.
Второй его брат женился на курносенькой и веснушчатой девушке, которая стала ему весёлой жёнушкой, и они очень хорошо жили и все целовались у нового домика, который построили себе, как голуби тёплое гнёздышко.
Мы тогда были уже очень бедные. Отец продал надел земли, которым владел, кулаку Андрону за 250 рублей, хотя надел – пять десятин – стоил 1100 рублей. Андрон расплачивался с нами золотыми пятёрками, расплачивался долго. Но хотя мы и были бедные, я всё же иногда покупал фисташки, которые очень любил.
Когда курносенькая птичка, жена Иванового брата, увидела, что я ем фисташки, она при женщинах, пренебрежительно выпятив губки, сказала: «Голытьба, да ещё и с перцем!»
Потом мы перешли жить к валашке, вдове Кравцовой.
Я очень подружился с её сыном Миной и его сестрой, чернобровой и весёлой щебетухой Степанидой. Они учили меня своему языку. Я спрашивал, как что называется, они отвечали, а я записывал в тетрадку…
Мы живём у рыбака и сапожника Заливацкого. За чёрными воротами, направо, в доме живёт хозяин со своими помошниками-башмачниками, а налево – в бедной мазанке – мы.
Мне очень нравился старший подмастерье, юноша высокий, сильный и красивый. Я же был маленьким и завидовал ему. Я мечтал быть таким же, как он, красивым и отчаянным. Я представлял, с какой силой он ударил бы меня всем телом о землю…
И странная штука: словно я напророчил себе. Как-то я обидел его каким-то неосторожным словом.
Было это во дворе. Отца и матери дома не было. Они куда-то ушли.
Марко схватил меня, поднял и изо всех сил шмякнул о землю всем моим маленьким и замерше-перепуганным тельцем. Всё во мне загремело и опало. Я потом едва поднялся… Но никому не сказал об этом.
Я любил смотреть, как Марко с напарником сучат дратву, как молниеносно забивают в тугую тёмно-жёлтую подошву деревянные гвоздики, как из разрозненных вещей в их волшебных руках рождается единое и гармоничное целое.
Однажды они шили женские туфельки и заспорили, кто кого обгонит, у кого лучше получатся туфли. Я напряжённо следил за их соперничеством. Всё горело у них в руках… И когда они одновременно окончили свою удивительную работу, туфельки оказались одинаковыми.
Край села, где мы жили, назывался Валахи. Половина нашего села были валахи. Они очень похожи на украинцев. Та же любовь ко всему красивому, к чистоте, к цветам и к людям. Только они дружнее украинцев. Любовь к людям, гостеприимность и красочность их жизни удивительным образом сочетались в них с дикой, я бы сказал, доисторической жестокостью, особенно у детворы.
Они были храбрые, но только тогда, когда их много, а украинцев мало.
XIII
Я стою без штанов, в одной сорочке, по колено в зелёной воде Донца, неподалёку от запруды, а наискосок дымит содовый завод, наполненный железным грохотом, и растрёпанный дым космато плывёт над моей головой высоковысоко, там, где белые тучки улыбаются солнцу и ветрам.
В нескольких шагах от меня удит рыбу мой товарищ, а я стою у него за спиной и наблюдаю. Когда он забрасывает удочку, а делает он это часто, потому что вода быстрая, крючок с леской пролетают рядом или у меня над головой, и я думаю: «Наверное, он меня зацепит». Так и случилось.
Но зацепил меня он не как-нибудь, а за грешное тело, и так дёрнул, что крючок застрял по самую головку.
С рёвом шёл я без штанишек с товарищем, а он – ему было жаль рвать леску – так и вёл меня по селу с удочкой, как свою добычу, за терпение подаренную ему Донцом.
Уже знакомый нам вечно молодой и румяный фельдшер Трофим Иванович, увидев нас на пороге приёмной, с улыбкой сказал моему невольному палачу: «Что? Бубыря поймал?!»
И стал орудовать надо мной какой-то блестящей металлической ложечкой. Я ужасно кричал, а Трофим Иванович по-отцовски меня успокаивал: «Ничего, сынок! Ничего!..» И наконец, с кровью вытащив проклятый крючок, он победоносно, с доброй усмешкой показал его мне.
Товарищ мой, как очень бережливый и скупой человек, попросил крючок, побывавший во мне, у Трофима Ивановича, и тот отдал его: «Только не лови больше таких бубырей».
Так я побывал в роли худшей, чем дед Щукарь у Шолохова.
XIV
Когда мы жили в Воронеже (улица Дворянская… памятники Никитину и Петру Первому, мягкий предвесенний снег… кулачные бои), там я вместо «Дай кавуна!» научился говорить «Дай арбуза», вместо «Так що» – «Дык што», а когда приехали в село, мальчишки смеялись над моим русским произношением, как в Воронеже смеялись над украинским.
Мать заморочила голову дедушке и бабушке своими коммерческими фантазиями. Ей почему-то казалось, что в Третьей Роте будет огромный спрос на разноцветные китайские веера из бумаги.
Дедушка продал всё что мог, накупил несколько сундуков этих несчастных вееров, и мы переехали из Воронежа в Третью Роту.
Разумеется, дедушка «прогорел».
Никто вееров у нас не покупал, и мы бедствовали.
За то, что мы в среду и пятницу иногда ели скоромное, валахские дети, бегая мимо наших окон, кричали:
– Жиды-молоко!
– Жиды-молоко!
А я им кричал:
– А валахи-дуки поели гадюки.
Мы им говорим: «Дайте нам!»
А они отвечают: «Мало и нам!»
Бабуся, дочь Розы, ставшей потом Надеждой, была очень впечатлительной. Она уже однажды немного помешалась, когда узнала, что мой отец – алкоголик и матери с ним живётся тяжело. А теперь увидела это собственными глазами. Она не выдержала, и её разбил паралич. А ведь ей было только пятьдесят лет. Её мать, уже Надежда, умерла в Харькове.
Бедная моя бабуся!
Как я каялся, что изводил её своими настырными просьбами: «Расскажи сказку!»
Она, утомлённая дневными заботами, тихая и покорная, лежит на полу. Ей хочется спать, она зевает и крестит рот, а я всё донимаю её своим: «Бабушка, расскажи сказку!»
И она никогда не отказывала мне.
Её любимый сын Костя целовался со своей девушкой на завалинке под окном, за которым лежала на столе пожелтевшая и уже навеки спокойная бабуся.
А потом на лице бабуси появились зелёные пятна, и в комнате сладко и душно запахло мёртвым телом, уже начавшим разлагаться.
Приехал дядя Лёня, всё такой же курносый, но весь осиянный двумя длинными рядами огромных серебряных пуговиц на чёрной шинели.
Он работал кондуктором на железной дороге.
А дядя Ваня (Ванюша, который читал мне сказку про Ивана-богатыря – что за грозовые образы пролетали в моей голове!) безутешно плакал, весь опухший от слёз. Он больше всех любил бабусю, хотя она больше всех любила Костю.
Похоронили бабушку на нашем тихом старом кладбище под вишняком, плакавшим над ней багряными слезами, там, где перед ней навеки заснул мой дедушка Сосюр, где уснули тем же сном, сном вечности, и мой отец, и братик Коля, и бабушка, родная и милая моя бабушка Вера Ивановна, бывшая мне духовной матерью.
Но об этом дальше.
Дядя Ваня, на три года старше меня, был храбрым и очень сильным. Позже, когда он стал уже юношей и работал слесарем в харьковском паровозном депо – Балашевский вокзал, – то крестился двухпудовыми гирями. Однажды, когда мы шли от валахского колодца с водой (Ваня нёс воду, а я шёл «за компанию», как говорится: «Кобыла по делу, а жеребёнок – без дела»), к нам подошла ватага валахских парней и стала задирать Ваню:
– Да-ши? Да-ши?
А Ваня им:
– А що? А що?..
Они все подбадривали себя криками, а Ваня всё молчал и только грозно глядел на них.
Тогда они выпустили на Ваню самого храброго и сильного из них.
Перед Ваней встал маленький «ухарь-купец» в плисовой курточке и таких же штанцах, в блестящих чёбот-ках.
Руки в боки, он стоял перед Ваней как золотистый, задиристый петушок, готовый к бою.
Ваня поставил на землю тяжёлые вёдра и отцепил от них коромысло.
Я увидел только, как поднялась пыль, а что там делалось в этой пыли, не разглядеть. Вихрь какой-то, полный топота, ударов, хеканья.
Потом пыль развеялась, и я увидел… одного Ваню с коромыслом.
Валашат как не бывало.
Лишь откуда-то слышался плаксивый крик: «Еу ши цый цой да…», «Еу ой спуны луй нене!..»
А Ваня снова нацепил вёдра на коромысло, и мы пошли домой. Ваня, гордый своей победой, а я – Ваней, настоящим, моим, а не сказочным, Иваном-богатырём.
XV
Мы переехали жить в село Черногоровку, расположенное километрах в восьми от Звановки, где жила бабушка. Однажды она поссорилась со своей дочкой и решила пешком пойти к сыну (моему отцу), чтобы жить у него. Но она знала дорогу только до Родионовки, которая находилась между Звановкой и Черногоровкой.
Бабушка помолилась своему любимому святому (кажется, это был Микола-угодник), чтоб он помог ей встретить такого человека, который знал бы дорогу к моему отцу и проводил её к нему.
Бабуся была религиозной фанатичкой.
И вот какая-то могучая и властная сила потянула меня в поле.
Я бегу по чёрной и духовитой пашне (попробуй только по ней побегать, дядьки тут же тебе поломают рёбра).
Бегу и бегу всё по прямой линии, прямиком к Родионовке, а тёплый апрельский ветер раздувает и полощет мою красную рубаху без пояса.
Добегаю до плотины через Бахмутку и вижу: из Родионовки идёт моя бабушка.
Я взял её за руку и привёл к отцу.
Я очень любил своего братика Олега и часто брал его к себе на плечи и ходил с ним гулять в поле за село.
Но ходил не по пашне.
И вот Олежек заболел оспой.
Перед этим ему сделали прививку, но слишком поздно, и Олежка заболел.
Он лежал весь в язвочках, опухший и терпеливый. Оспинок он не раздирал ногтями, хотя очень мучился, всё у него чесалось.
Однажды он попросил у меня напиться воды. На табуретке стоял почти полный стакан. Я дал его братику.
Он выпил, не отрывая губ от стакана, и весь скривился:
– Кисло!
В стакане был уксус.
Я решил, что отравил братика, и сердце моё похолодело от ужаса.
Но всё обошлось.
Мне уже двенадцать лет.
Село было дикое и страшное.
Один бедняк украл у женщины кофту и полбутылки водки, их откопали в земле, куда тот зарыл краденое.
Как страшно его били! Лопатой. Её округлым и широким остриём ему рассекли голову, и он лежал весь окровавленный и сплющенный… Его пинали ногами, били тяжёлыми сапогами по бокам и по лицу, а он только тяжко стонал и охал… А потом затих.
Я, чтобы помочь отцу, носил из правления сельскую переписку в село за горой. Идти было далеко, а особенно по тому селу, бесконечно длинному.
В поле меня часто настигала гроза. Я очень боялся молнии, которая убивала людей, и в панике метался по дороге, когда гром багряно рвал надо мной грозные тучи…
Потом гроза проходила, и солнце наполняло мою душу.
Мы, мелкота, за гривенник в день обкапывали деревья у помещика в саду и оббирали гусениц с деревьев, обрезали сухие веточки ножницами на длинной палке.
Помещик, низенький, остроносый и надменный, иногда снисходил с высот своего величия и разговаривал с нами. Он спрашивал меня об отце.
Я сказал ему, что мой отец может быть не только писарем, что он работал и строителем, и маркшейдером, что он знает наизусть все законы, под каким они номером и от какого числа. А помещик, раскачиваясь передо мной на носках своих лаковых ботинок, сквозь зубы процедил:
– Видно сову по полёту, какова она.
Я молчал.
Что я мог сказать этому пустоголовому выродку, если он мне не верил.
И вот началась холера.
В селе запахло дезинфекцией, везде были разляпаны белые пятна извёстки.
Кулаки повели агитацию, что врачи и все, кто им помогает, травят народ.
Особенно один куркуль зверски ненавидел моего отца, натравливал на него тёмных людей за то, что отец очень активно боролся с холерой и разъяснял людям, что следует делать, чтобы не заболеть этой страшной болезнью.
Дочь у этого куркуля была очень вредная, она дразнилась, показывала мне язык, и за это я бросил в неё кремешком, которыми мы играли на завалинке.
Она расплакалась и помчалась жаловаться отцу.
И вот этот разъярённый бородатый бугай выскакивает и гонится за мной.
Я бегу быстро, хочется ещё быстрей, но не могу, от страха у меня немеют ноги. А за мной тяжело ухают куркульские сапожищи, и земля качается подо мной.
Но он меня не догнал…
Как-то он показывал своих лошадей управляющему экономией (Камянский оросительный участок). Тот в белом костюме и такой же шляпе приехал на фаэтоне с женой.
Грузно вылез из него и, заложив руки за спину, толстый и молчаливый, смотрел, как этот куркуль перед ним и перед беднотой, которая тоже потянулась на зрелище, хвастается своими чёрными, как вороны, скакунами с тугой, блестящей шкурой.
Смотрел управляющий, смотрели люди, но смотрели они по-разному.
В глазах управляющего – барская снисходительность, а у людей – печаль и гнев…
Однажды я отправился на подворье к соседу. Его сын, уже парубок, хорошо относился ко мне, и я по-детски к нему тянулся.
Я стоял во дворе, а он неподалёку от меня раскручивал над головой палку. Палка вырвалась из его рук. Я инстинктивно наклонил голову, и страшная смерть просвистела надо мной…
Девочка Оксана, дочь соседа напротив, очаровала мою юную душу своим задумчивым лицом и чёрными бровями.
Я любил её.
Конечно, моя любовь была чистой и наивной, как утренняя роса на травах, как голос соловья в кустах, когда веет сладкий предрассветный ветер.
Потом, когда я уже учился в сельскохозяйственной школе при Камянском оросительном участке, я часто встречал её во время дежурства на ферме, она там работала, и тогда меня по-прежнему чаровала её гордая красота.
Но я ей ничего так и не сказал.
XVI
У своих родственников, Сидора Сосюры и его жены, тёти Гали, я целое лето работал на току. За это в конце лета я получил пуд муки.
Муку я продал на базаре за 75 копеек и на эти деньги купил билет на право обучения в нашей «двухклассной министерской школе», в которой надо было учиться пять лет.
Но меня приняли не на первое, а на третье отделение, потому что отец подготовил меня к нему ещё тогда, когда учительствовал в сёлах Донбасса. Я стал учеником.
И это для меня было такое счастье, такое счастье!
Когда нам задавали уроки, например, по истории «от сих – до сих», то меня не устраивало читать «до сих», и я читал дальше. Мне было интересно, что дальше… Вообще в детстве я много читал.
Я уже полюбил бронзовые образы «Илиады» и «Одиссеи», плакал над «Кубком» Шиллера, был увлечён Зейдлицем и Уландом в переводах Жуковского и Лермонтова, ну и, конечно, заливал слезами страницы «Кобзаря» Шевченко.
Сказки Пушкина меня пленяли, как и «Демон» Лермонтова, и это одновременно с «Сыщиком» и «Пещерой Лейхтвейса» и «Индейскими вождями»…
Однако мешанины от всего, что я запоем глотал в то время, у меня в голове не было.
Словно какая-то волшебная рука старательно и нежно раскладывала в моей душе всё по полочкам, и душа моя всё росла и росла, и крылья её постепенно обрастали орлиными перьями – крылья знания и фантазии.
У нас в школе раз в неделю был общий урок пения, которое нам преподавал (теорию и практику) заведующий школой Василий Мефодиевич Крючко. На этом уроке всегда присутствовали ученики 3-го, 4-го и 5-го отделений.
Мы часто пели патриотические песни и чаще всего:
Гей, славяне! Ещё наша
речь свободно льётся,
пока наше верное сердце
для народа бьётся!
Там, в этой песне, есть слова:
Пока люди все на свете
превратятся в гномов!
Василий Мефодиевич спросил, обращаясь к ученикам всех трёх отделений (я тогда был на третьем):
– Кто мне скажет, что такое гномы?
Все молчали.
Тогда я поднял руку.
– Ну, Сосюра!
– Карлики.
А уже на четвёртом отделении, когда Василий Мефодиевич доказал у доски второй случай равенства треугольников и задавал уроки на следующий день, он вдруг спросил:
– А кто сейчас мне докажет эту теорему?
Все молчали.
Тогда я поднял руку.
– Ну, Сосюра!
Я вышел из-за парты и, слово в слово повторяя Василия Мефодиевича, доказал теорему.
Он говорил обо мне ученикам: «Сосюра блестяще владеет литературным русским языком, но он любит иногда задавать такие идиотские вопросы, что у меня просто уши вянут».
А я действительно иногда задавал ему вопросы, только у Василия Мефодиевича уши вяли не от стыда за меня, а за себя. Потому что он не мог ответить на мои вопросы, как когда-то моя мама, когда я пятилетним мальчиком спрашивал у неё: «Почему Бог создал человека таким непрочным?»
Вани уже не было. И я один носил воду в дом.
Но у нас не было верёвки.
Мне стыдно просить верёвку у людей, и вот я стою зимой на наледи от разлитой воды, в маминой тёплой кацавейке и больших отцовских сапогах, и молча мёрзну.
И тут подходит полная и румяная, тепло одетая богатая селянка. Она смотрит на меня и, сочувственно качая головой, тащит воду, приговаривая:
– Бедное дитя! Как замёрз-то! Уж и ручки и губёнки посинели!
Вытащила воду и пошла.
А вот подходит бедная женщина.
Она молча вытаскивает воду, сперва наливает мне, а потом уже себе и уходит, святая и вся сияющая в моём детском воображении, женщина-труженица с большой буквы.
И таких миллионы.
Потом уже, на фронтах гражданской войны, мы идём, после тифа, в обозе, худые, измождённые, пожелтевшие и голодные.
Идём через село.
А у ворот стоят толстые кулачихи и, скрестив руки на своих высоких, полных сала и молока грудях, сочувственно покачивают своими поросячьими головами.
Дадут ли хлеба?
– Бельё давай!
А где его возьмёшь, бельё, когда мы его давно променяли на хлеб. А бедная женщина молча выносит нам из последних припасов буханку хлеба, а то и накормит кислым молоком с мамалыгой.
Святые и прекрасные женщины нашего народа!
Они молча делали своё святое дело.
А куркулихи – не женщины нашего народа, это уродины без души, не имеющие никакого права называться людьми.
Мне нравится Василь Константинов, который потом, в войну, был добровольцем «батальонов смерти». Красивый, чернобровый и храбрый, он был очень сильным и горячим.
Не нравилось мне только, что он такой жестокий.
Я видел, как Василь с валахскими хлопцами (сам он тоже валах) убивали на глинище возле Донца собаку.
Делали они это радостно и самозабвенно, а Василь даже рычал от наслаждения, когда в залитый кровью глаз собаки вбивал палкой острую кость…
Жил в селе ещё один Василь Константинов. У него был могучий бас. Изо всей мочи он колотил себя кирпичиной в грудь, гудевшую как орган, и его дикий рёв долетал, наверное, от нашей хаты до завода. Он потом стал красногвардейцем и вёл себя геройски.
Мы часто купались в Донце, вели, можно сказать, водяной образ жизни.
Особенно мы любили купаться в горячей воде; вытекая из заводских труб под землёй, она вливалась в речушку Белую, которая впадает в Донец.
Нам нравилось из горячей воды (вода Белой на подходе к Донцу становилась совсем горячей) заплывать в холодные зелёные и быстрые воды Донца. Всё тело покалывало множеством иголок от внезапного перехода от горячего к холоду.
Донец… Река моего милого детства. Ты всегда во мне, в золотых моих воспоминаниях о тебе, о том сладостном и горьком, что снилось и отснилось моим карим и грустным очам, душе моей тревожной…
XVII
Мы шли от Донца в гору.
Юзефович, мой школьный товарищ, шёл последним за мной с выломанной из изгороди палкой, имевшей на конце твёрдый, как железо, сучок.
Неслышно приблизившись ко мне, он что было силы огрел меня этим сучком по левой половине головы, за ухом.
Голова моя слегка закружилась, и я упал, нет, не упал, а сама земля подлетала ко мне, и почему-то справа, как стена… И я лёг на неё, как на тёплую, уютную и мягкую подушку.
Пролежал я, должно быть, недолго, но не видел, как удирал «бочонок».
– Что ж вы стоите? – крикнул я хлопцам. Однако все растерянно молчали, а Нестор, тоже мой школьный товарищ, только пожал плечами.
Потом, когда в школе я узнал, как человек ощущает, стоит ли он, сидит или лежит, я понял, что удар Юзефовича на мгновение подействовал на жидкость в полукружных каналах среднего уха. Черепная кость за ухом не треснула, а лишь чуть вогнулась, сдавив слуховой нерв.
Я оглох на левое ухо, и с тех пор у меня в левой части головы постоянный шум, как отголоски звона, то усиливающиеся, то слабеющие.
«Бочонка» я позже поймал на том же Донце и тяжёлыми комьями ссохшейся земли загнал в капустник.
Удары глухо лупили по нему, а он, как хищный кот, оскалив острые зубы, прыгал по влажной земле и никак не мог прорваться ко мне сквозь гневный град комьев величиной с детскую голову.








