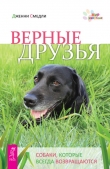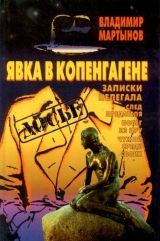
Текст книги "Явка в Копенгагене: Записки нелегала"
Автор книги: Владимир Мартынов
Жанры:
Cпецслужбы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
Посадка ночью в Дакаре, в Западной Африке. Пока заправляют и проводят техосмотр самолета, прогуливаемся по залу транзитных пассажиров. «Веста» пошла с дочуркой в дамский туалет, и вдруг я увидел, как туда вслед за ними направляется здоровенный негр в длиннополом коричневом балахоне. Я было насторожился и встал рядом с дверью. «Какого черта надо этому негру в дамском туалете?» – подумал я и уже взялся было за ручку двери. Но в туалет спокойно входили и выходили все женщины, а значит, причин для тревога не было. Вскоре из туалета вышла улыбающаяся «Веста» с дочкой.
– Что это еще за негр там ошивается в вашем туалете?
– А, этот симпатяга негр занимается уборкой, – сказала она, – и ведет себя, между прочим, очень скромно, потупив очи, и абсолютно mi на кого не глядит.
– А я уж думал было пойти вслед за вами, мало ли…
И снова борт самолета. К утру прилетели в Цюрих. Отель «Грумпи» удобно расположен почти рядом с железнодорожным вокзалом. Прогулялись по городу. Стоит жаркая летняя погода. Улицы полны туристов. Проставили отметку о прибытии. Взяли билеты на самолет на Копенгаген. Вылет через три дня. Нас это вполне устраивает. Мы решили посвятить это время полностью отдыху на открытом воздухе и знакомству с городом. Прогулка по Цюрихскому озеру на теплоходе и по окрестностям города. И вот мы снова в Копенгагене. Сходили в луна-парк «Тиволи». Покатались на самых разнообразных аттракционах, постреляли в тире. Оставив «Весту» с дочкой в парке «Тиволи», я через боковой выход вышел из парка на улицу и вскочил в отходивший автобус. Затем пересел на трамвай. Часа полтора проверялся по выверенному когда-то маршруту. Кажется, все чисто. «Хвосту» вроде бы неоткуда взяться, но все же. Пора выходить на явку. Встреча произошла у рекламных щитов напротив сквера, недалеко от канала. На явку пришел подтянутый, спортивного вида молодой человек, среднего роста, на вид около тридцати, черты лица тонкие, с виду энергичен, деловит, светлые редеющие волосы зачесаны назад, приветлив, быстр в движениях. Одет в деловой костюм серого цвета.
Пароль:
– Простите, мы с вами не встречались в Париже в шестьдесят пятом году?
Отзыв:
– Нет, вы ошибаетесь, я был в Париже, но в шестьдесят третьем.
Все это на английском языке.
– Значит, так, – сказал связной, переходя на русский язык, который в первый момент зазвучал для меня весьма странно, и в то же время приятно-волнующе. Ведь мы столько лет не говорили по-русски. Мы даже и думать-то по-русски разучились, и находили это не только необходимым, но и вполне естественным. – Мы встречаемся с вами через три часа на автомобильной стоянке на загородной станции городской электрички. Через три часа на встрече вы отдадите мне свои паспорта, взамен получите матросские книжки. С этого момента вы – члены экипажа советского пассажирского лайнера «К». Вы – матрос Жуков, ваша жена – буфетчица Жукова. Дочь вписана в книжку Жуковой. Там вклеены ваши фотографии. Ваши имена вписаны в судовой реестр. Запомните, судно пришло вчера вечером, уходит сегодня в ночь. Фамилия капитана – Романцов Сергей Анатольевич. Идти на судно вы должны налегке, без каких-либо вещей. Так, может, лишь пакет с фруктами. Вещи свои оставьте в боксе камеры хранения, ключ передадите мне при встрече. Пока все. До встречи.
Расплатившись за отель, на такси поехали на вокзал. Из багажа у нас были только небольшой чемодан и сумка. Побродили немного по вокзалу. В тот момент, когда мы закладывали вещи в автоматическую камеру хранения, «Веста» на секунду отпустила руку дочурки, чтобы поставить сумку в бокс. Когда она обернулась, девочки рядом не было. Только что была тут, нетерпеливо вырывая свою ручку, капризничала и вдруг – исчезла. А вокруг людская круговерть и суета большого вокзала, разгар отпусков и туристского сезона. Кинулись искать в разные стороны, договорившись встречаться у боксов через каждые десять минут. Быстрым шагом, лавируя между прохожими, я прошел галсами через весь вокзал, залы ожидания, после чего направился к выходу на привокзальную площадь. В висках стучало. Пот заливал глаза. «Куда же мог запропаститься этот чертенок?» И вдруг, когда я уже выходил на площадь, увидел полицейского в белой фуражке, который вел за руку нашу девочку, направляясь в полицейский участок при вокзале. Она спокойно топала рядом с ним, пока не увидела меня. «А вот и мой папа!» – крикнула она по-испански (а ведь на руках у нас уже были советские матросские книжки), пытаясь выдернуть руку, но полицейский держал крепко, у него не вырвешься. Я кинулся к ним. Полицейский что-то сердито изрек на своем датском языке, строго глядя на меня. Он сразу понял, что я – отец. Погрозив пальцем и мне, и дочке, он передал мне ее из рук в руки, и мы поспешили к боксам камеры хранения, где нас уже ждала бледная как полотно «Веста». Через три часа мы все трое были в обусловленном месте на загородной станции. На маленькой автостоянке, окруженной декоративным кустарником, рядом с серо-голубым «фольксвагеном» стоял, улыбаясь, наш связной.
– Здравствуйте! – сказал он, обращаясь к «Весте» на русском языке. – Приятно с вами познакомиться. Садитесь в машину.
Мы устроились на заднем сиденье «фольксвагена».
– Видишь, какая у дяди хорошая машина, – сказала жена, обращаясь к дочке по-испански. – Дядя нас немножко покатает на машине по городу.
– А потом мы с мамой и папой покатаешься немножко на большом белом пароходе, – сказал связной.
Дочка вопросительно посмотрела на нас. Я перевел его слова.
– Да, эту машину все хвалят, – сказала жена.
– И правильно хвалят, – сказал я. – Пол-Европы объехал на такой вот машине, и никогда никаких проблем. Отличная машина.
– А вы знаете, – сказал связной, – у нас стали выпускать машину ничуть не хуже этой. «Запорожец». Таких же размеров и двигатель также воздушного охлаждения. Отличная машина.
– Ну уж не скажите, не хуже! – сыронизировал я.
– Да, представьте себе, ничуть не хуже. Я когда вернусь, обязательно куплю себе только «Запорожец», – сказал он.
«Какой патриот, однако!» – подумал я.
– Значит, так, – продолжал он, переходя к делу. – Я вас оставлю в зоне порта. Ровно через час вы пешком идете прямо на причал и самостоятельно поднимаетесь на борт судна. А я тем временем заеду на вокзал за вашими вещами и буду ждать вас уже на борту судна. Если вдруг возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства при вашей посадке, помощник капитана сразу вмешается. Он будет стоять наверху у трапа рядом со мной. Дайте мне ключ от бокса, где хранятся ваши вещи.
Высадив нас в районе порта, связник ушел. Через полтора часа, погуляв по скверику в районе порта и полакомившись мороженым, мы не спеша прошли на территорию порта и направились к белоснежному судну с красным флагом на корме.
Посадка уже началась, и к трапу спешили группы пассажиров с покупками. Подойдя к судну, мы увидели, что наш связник уже наверху. Поднялись по трапу на борт, пройдя пограничный контроль без каких-либо проблем. Дальше нас повел молодой человек в морской форме, который и был помощником капитана. Он проводил нас в каюту, где уже находились наши вещи. Вскоре пришел наш связник. Вдвоем они нас проинструктировали, как вести себя на судне во время плавания. А именно: мы не должны покидать каюту, так как она поставлена на «карантин». Обед нам будет приносить одна и та же официантка. Покинуть свою каюту мы сможем лишь по прибытии в Ленинград, и то после того, как сойдут пассажиры и большая часть экипажа.
Мы еще поговорили о том о сем, связник поиграл немного с дочкой, после чего ушел, пожелав нам счастливого пути.
– Какой обаятельный молодой человек! – сказала «Веста». – Первый советский человек, которого встретили за столько лет, и такой славный!
В тот момент мы еще не знали, что встреча с этим обаятельным молодым человеком окажется для нас роковой. С этого момента отсчет времени пошел в обратном порядке. С этого самого момента мы были обречены. Все наши дальнейшие действия и все усилия по работе пойдут насмарку. Пройдет ровно три года и три месяца, и этот обаятельный человек безжалостно и хладнокровно выдаст всех нас (а к тому времени нас уже будет четверо) в руки противника. За тридцать сребреников, как Иуда Христопродавец. И, возможно, с той же обаятельной улыбкой, с которой он нас провожал в Россию. На встречу с нами выходил будущий предатель Олег Гордиевский. Это мы узнали лишь двадцать три года спустя, когда появились первые публикации в нашей прессе по поводу изданной им за рубежом книги о КГБ.
Весь путь мы отсиживались в каюте на так называемом карантине. Любовались на Хельсинки через иллюминатор. Дочке очень хотелось погулять, хотя бы по палубе, но это было невозможно: нам предстояло быть затворниками до самого Ленинграда.
Ленинград. Судно медленно пришвартовалось у стенки пирса, и первыми, кого мы увидели на причале, были отец и мать «Весты», стоявшие прямо напротив нашего иллюминатора, всего лишь в нескольких метрах от нас. Они смотрели куда-то наверх, на палубу, ожидая увидеть нас среди толпившихся пассажиров, и невдомек им было, что мы чуть ниже, в каюте. Мы кричали в открытый иллюминатор и махали руками, но было слишком шумно, чтобы они нас могли услышать. А они все смотрели и смотрели. Наконец увидели нас в иллюминаторе и всплеснули руками. Стали нас звать: «Что же вы не выходите?!»
– Вон твои дедушка и бабушка, – сказали мы дочке, а она, недоверчиво посмотрев на нас, ответила, что не хочет к дедушке и бабушке, а хочет только погулять на свежем воздухе.
Вскоре за нами пришел наш товарищ по имени Геннадий Савельевич, который отныне являлся нашим куратором. Пассажиров на борту уже не было. На душе радость. Бежевая «Волга» отвезла нас в гостиницу «Московская», где для нас и для родителей были заказаны номера.
Толчея Невского проспекта. Немногочисленные кафе забиты до отказа. С превеликими трудностями удалось перекусить в молочном кафе. «Да, – как говаривал наш великий комбинатор Остап Ибрагим-Сулейман-Берта-Мария-Бендер, – это вам не Рио-де-Жанейро». Но Родина есть Родина, и принимать ее русскому человеку суждено такой, какая она есть, со всеми ее радостями и печалями. И это еще в то время, когда в магазинах, можно сказать, все было. Тем не менее контраст был ошеломляюще-угнетающий. Шел 1967 год, третий год правления Брежнева. Утром поезд доставил нас в Москву. С вокзала сразу отвезли на подмосковную служебную дачу. Пообедали все вместе: мы, родители «Весты» и наш новый куратор. После обеда родителей отвезли домой. Сразу возник серьезный вопрос в отношении ребенка: ведь он по возвращении в Аргентину не должен был знать ни единого русского слова. Прошло всего три дня после нашего возвращения, и черная «Волга» увезла во Внуково нашу бедную дочурку. Ее переправили в ГДР, где она и прожила без малого месяц в немецкоязычной семье. «Веста» вскоре уехала домой к своим родителям, я же продолжал совершенно один торчать на загородной даче: отчеты, беседы, инструктаж и тому подобное.
Лишь через неделю я вернулся домой. Затем две недели в Сочи, в санатории для партийно-профсоюзных работников. Мы были неприятно поражены низким культурным уровнем этого контингента, ночными загулами, пьяными серенадами по ночам. И это цвет нашего общества! Наша «элита»! Большая часть отдыхающих все же действительно занималась тем, что отдыхала. Превосходный пляж, отменное питание. Нудные вечера отдыха, где пожилой массовик-затейник с баяном и молоденькой помощницей пытались развлечь санаторную публику. В основном, конечно, танцы до упаду. По соседству отдыхали отец и мать «Весты». Незаметно пролетели две недели. Мы с тестем отправили «Весту» с мамой самолетом в Москву. Сам же я должен был лететь в Киев, повидать братьев и мать. Тестю нашли комнатку в селении под Адлером, где он оставался еще пару недель.
Ан-12 совершил посадку в Киеве поздно ночью. Из-за погодных условий сделали незапланированную посадку в Донецке. В Киеве бушевал ливень. Да такой, что пришлось снять обувь и брести по щиколотку в потоках воды. С трудом, отыскал дом, где жил брат с семьей. Переночевал у них, а утром вместе с братом отправились на такси за двести километров в город Умань, повидать мать и младшего брата, который недавно женился. Это была последняя наша встреча с мамой. В последний раз мы все трое братьев были вместе. Больше вот так, втроем, встречаться нам не пришлось. Через два дня автобусом мы со старшим братом вернулись в Киев.
Из Киева на Ту-104 прилетел в Москву. Последние инструкции. Все в спешке. Все второпях. Засиживаться в Союзе долго нельзя. Поехали во Внуково за дочкой. Совершил посадку самолет из Берлина. Ребенок показался нам каким-то жалким, потерянным, нерадостным, заторможенным. Что-то лопочет уже по-немецки. Как будто и не рада встрече с нами. Бабушка души в ней не чаяла, но дочка ни слова не знала по-русски. Внучка что-то говорила, что-то просила, сердилась, что бабушка такая непонятливая. Но однажды, поднимаясь на этаж по лестнице, она вдруг отчетливо произнесла по-русски, указывая на соседскую дверь: «Не туда?» К счастью, в будущем это нигде не проявилось и пребывание в Союзе не оставило какого-либо отпечатка в ее сознании.
Скорый поезд на Ленинград. Отдельное купе. В Ленинграде нас встретили и отвезли в гостиницу. Побродили по городу моей юности. Ленинград, Ленинград! Здесь я проучился четыре года в Институте иностранных языков КГБ СССР. Здесь я впервые надел курсантскую форму, которая, как оказалось, увы, была не столь привлекательна для многих людей, пострадавших от репрессий (а в Ленинграде их было немало): фуражка с малиновым околышем и яркой небесно-голубой тульей. Хотя точно такую же форму носили не только мы, гэбэшники, но и внутренние войска, и безобидные пожарные, под которых маскировались мы, хотя пожарного училища в городе не было. Помню на первом курсе, на вечере отдыха в Академии лесного хозяйства, познакомился с приглянувшейся мне студенткой. Весь вечер мы с ней танцевали, тепло расстались, договорились о встрече, но на свидание она не пришла. Не без труда отыскал ее адрес. Жила она с матерью и братом в полуподвальном помещении. Дома была только ее мать, усталая женщина с натруженными руками, которая буквально остолбенела, увидев меня. Она не отрываясь смотрела, но не на меня, а на мою фуражку. И в глазах ее был и страх и какая-то отрешенность. Она обрела дар речи лишь тогда, когда разглядела наконец курсантские погоны на моих плечах. Девушки дома не было. В комнату в это время, запыхавшись, вбежал парень лет восемнадцати, по-видимому, брат девушки. Вот в его-то глазах страха не было. Но было внутреннее напряжение, явная неприязнь, возможно – ненависть. Пообщавшись всего две-три минуты, подивившись их неприветливости, я ушел, попросив, чтобы девушка, если ее не затруднит, дала о себе знать. Старушки, сидевшие во дворе на скамейке, смотрели на меня во все глаза. Через неделю получил коротенькое письмо, в котором девушка просила не искать с ней встреч, объясняя это тем, что мы совершенно разные люди, что нам-де не судьба, что лучше сразу же разрубить «гордиев узел». Какой еще «узел»? Почему мы разные, если мы, собственно, еще ни разу не встречались, если не считать вечера на танцах, где познакомились. В тот вечер она танцевала в самодеятельности и выглядела очень эффектно. Лишь много лет спустя я понял, отчего наша форма вызывала у многих людей ужас и неприязнь: шел 1952 год. В Ленинграде и по всей стране катился очередной вал сталинских репрессий. Вполне возможно, что и отец девушки был репрессирован. Мы, курсанты, как и многие советские люди, тогда еще не знали, каких чудовищных размеров достигли репрессии в тридцатые и послевоенные годы. Нас в такие дела не посвящали. А если и возникали вопросы, то ответ был один: «Так надо! Не задавайте лишних вопросов!»
Как с боями шел в Берлин солдат, да-а,
Время песне прогреметь, прогреметь.
Много песен можно петь подряд, да-а,
Всех не спеть,
Да всех не спеть,
Да всех не спеть.
Мы идем строем по Петроградской стороне. Наш комвзвода В. Г. запевает эту незамысловатую, походную песню. Ежедневная вечерняя прогулка проводится в любую погоду. Как, впрочем, и утренняя зарядка. Нет прогулок только в субботу и воскресенье. Да еще в четверг, когда вечерняя прогулка заменяется походом в баню. Тогда мы шагаем по Большому проспекту со свертками чистого белья под мышкой, а иные любители попариться – с березовыми вениками. Идем колонной по четыре. Впереди и позади колонны слушатель с красным флажком. Немногочисленный в это вечернее время городской транспорт старательно нас объезжает. Ярко синеют шеренги фуражек. Не скажешь, что шаг чеканят. Идут вразвалочку, а задние ряды, так те и вовсе не в ногу, плетутся кое-как. Но нам не так уж и надо чеканить шаг. На парад мы если и ходим, то только в оцепление. Многие из нас по окончании института снимут военную форму и никогда в жизни ее больше не наденут. Наша гражданская специальность– переводчик-референт. Но это формально. В дипломе отсутствует весьма существенное уточнение: «оперативный переводчик». Идут в колонне парни в курсантской форме. Разве угадаешь, который из них станет лихим разведчиком или корифеем контрразведки? Взять хотя бы вон того русоволосого паренька, который топает в сапогах со свертком под мышкой. В обычные дни у него в руках какая-нибудь английская книжка, с которой он никогда не расстается. Да и сейчас наверняка ее тащит, завернутую в белое солдатское белье. Разве подумаешь, что этот скромный, с виду такой смирный мальчишка – Олег Калугин, превратится в грозного генерала, самого молодого в КГБ, затем в генерала опального, который бросит вызов не только могущественному шефу КГБ, но и всей системе госбезопасности страны, и внешней разведки в частности. Он станет одной из ключевых и в то же время самых скандальных фигур времен перестройки. Будучи уволенным из КГБ за свои крамольные взгляды, он лишится генеральского звания, всех правительственных наград, генеральской пенсии и членства в партии. Тогда он подаст в суд аж на самого премьер-министра великой державы! На всесильного шефа всесильного КГБ! И он выиграл процесс! Ему вернут, правда, после августа-91 (ГКЧП) и звание, и награды, и генеральскую пенсию. В другое время его бы стерли в порошок, превратили бы в лагерную пыль или усадили бы в психушку до конца дней своих. Но шла перестройка, и самое главное ее чадо– гласность– меняла прежние понятия и прежние позиции.
А в ЦРУ в семидесятые годы тоже был свой диссидент– Виктор Маркетти. Один из наиболее перспективных и талантливых оперативников ЦРУ, он выполнял сложнейшие разведывательные задания и занимал довольно высокие посты в разведке. Но в один прекрасный день он вдруг взбунтовался, взял да и написал разоблачительную книгу о ЦРУ, после публикации которой это уважаемое учреждение слегка содрогнулось. Маркетти конечно же уволили, долго и упорно лили на него потоки грязи, угрожали, шантажировали, таскали по судам, но вот он, высокий, красивый, крепко сбитый, веселый, уверенный в себе, стоит передо мной в уютном зале пресс-центра службы внешней разведки, куда нас пригласили на встречу с американскими диссидентами от разведки, и мы с ним оживленно беседуем о том о сем. У двух разведчиков, стоявших некогда по разные стороны баррикад, всегда есть о чем поговорить.
– Я очень рад, Виктор, с вами познакомиться. Много о вас наслышан. Если Гарри Трускот[31]31
Наш куратор от ЦРУ во время пребывания в США.
[Закрыть] еще жив, и вы случайно его встретите, передавайте ему привет от нас с женой («Веста» тоже была на этой встрече с бывшими американскими разведчиками). Передайте, что мы очень сожалеем, если ему тогда попало после нашего ухода. Но он-то знает, что есть чувство долга, и он нас должен понять.
– Я обещаю выполнить вашу просьбу, – улыбнулся мне на прощанье Виктор Маркетти. Выполнил или нет, мы не знаем.
Эх ты, ласточка-касатка сизокрылая,
Ты, родимая сторонка наша милая.
Эх ты, ласточка-касаточка моя,
Сизокры-ы-ы-ылая.
Мы подхватываем припев. Редкие прохожие, остановившись, смотрят на нас. Некоторые просто так, с безразличным любопытством, иные– со страхом и ненавистью. Ведь мы – чекисты, самые преданные бойцы партии. Мы– будущие офицеры-гэбэшники! Мы– наследники Дзержинского, продолжатели его дела! Наш главный шеф и покровитель – Лаврентий Павлович Берия! Мы, конечно же, слуги народа. Но слуги непростые: мы на голову выше всех других слуг. Нам это толмачат ежедневно. Нас все боятся! И чужие, и свои! Вот и пусть себе боятся! Пусть трепещут! Это хорошо, когда боятся! Бей своих, чтоб чужие боялись! Мы на голову выше?! Может быть. Но, скорей всего, мы такие, как все. И, случается, напиваемся. И дебоширим, бывает. И гарнизонная гауптвахта нам знакома не понаслышке.
Шагаем строем по Большому проспекту. И где-то, затерявшись в наших рядах, шлепает по мокрому асфальту мальчишка с курсантскими погонами на плечах. Товарищ по учебе. Мой сосед по Доске почета. Будущий генерал-диссидент Олег Калугин.
«Товарищи слушатели!» В актовом зале гробовая тишина. Слышно, как муха пролетит. Наш военный институт располагался в корпусах бывшего юнкерского училища по Пионерской улице, 18, что на Петроградской стороне. Металл в голосе Берии: «Кто не слеп, тот видит, что всюду враги – не только вокруг нас, но и внутри! Кто не слеп, тот видит!.. Кто не слеп, тот видит…» И так много-много раз. По радио идет трансляция гражданской панихиды на похоронах генералиссимуса И. В. Сталина. Народ в отчаянии: «Как же теперь мы будем жить?» Рыдают студентки в общежитии пединститута, куда мы пришли навестить знакомых девушек. Повсюду приспущенные красные стяги с черными лентами.
Однажды утром, возвращаясь с зарядки, мы увидели, как наш дворник с начальником курса майором Шевелевым тащили по лестнице в подвал огромный, выполненный в масле портрет Берии, висевший в кабинете начальника. «Ребята, что бы это значило? – спрашивали мы друг друга. – Нашего любимого гросс-шефа и вдруг– в подвал?!» В перерыве всех нас собрали в актовый зал. Начальник института зачитал официальное сообщение об аресте и разоблачении агента мирового империализма, агента английской разведки, предателя и изменника Родины Берии.
«Вот тебе и на! – говорили мы. – Агент мирового империализма! Как же он тогда в войну всю нашу зарубежную агентуру не заложил? Он же имел к ней доступ! Очередная лапша! Хватит ли наших ушей, чтобы выдержать всю лапшу, которую на них вешают?!»
Уже на следующий день из института исчезли блатные курсанты – протеже Берии, честно говоря, отъявленные бездельники. Осенью 1954 года, на четвертом курсе, нам «капнули» по звездочке на погоны и сменили наконец столь осточертевшие всем ярко-синие фуражки на общевойсковые, которые не так сильно бросались в глаза.
Телеграмма из дома: «Приезжай, убит папа». «Убит? Как так убит? Какие у него могли быть враги? Может, кто-нибудь еще с тех времен, когда он работал прокурором? Вряд ли!» Взял деньги в кассе взаимопомощи. На самолет билет не достал, хотя и предъявил телеграмму о смерти отца. Пришлось выехать поездом. Утром был в Киеве. Взял такси. Шоссе было в плохом состоянии, с бесчисленными объездами, и те двести километров, которые в наши дни машина пролетает всего за два-три часа, мы тащились на старенькой «Победе» до самого вечера.
Оказывается, отца никто не убивал, а погиб он в результате несчастного случая: в тумане на рассвете мотоцикл с коляской, в которой ехал отец с вокзала, врезался в стоявший на обочине грузовик. Хоронили отца утром следующего дня. Через три дня я уезжал. Дома оставалась сразу постаревшая мать, бабушка и младший брат-школьник.
Получение дипломов и очередные, уже лейтенантские, звездочки обмыли по традиции в столь дорогой нашему сердцу «Колхиде» на Большом проспекте. Не помню, как в действительности назывался этот то ли ресторан, то ли столовая, но мы испокон веков называли это место «Колхидой», так как в зале стояло несколько огромных кадок с раскидистыми пальмами. В вечернее время там играл маленький джаз-оркестр: саксофон, контрабас, аккордеон и банджо. Все виртуозы. Каждый по очереди солировал. А в субботу и в воскресенье приходил еще и пианист. Было весело. Танцевали пары. Типичная публика начала пятидесятых: много молодых людей в кителях без погон. И конечно же мы, курсанты. По субботам после пяти вечера гардероб «Колхиды» сиял нашими синими фуражками. Особенно после стипендии, которая по тем временам была довольно высокой– шестьсот рублей. И хотя обязательные займы и питание отнимали около двух сотен, по крайней мере, первые две недели можно было жить безбедно. В конце же месяца не оставалось денег даже на трамвай. Тем не менее первое, что я сделал на первом курсе, собрав две стипендии, – купил у барыги в подворотне отрез на костюм и выслал отцу, который ходил зимой и летом в поношенном солдатском х/б и в сапогах. Так что когда я приехал на свои первые каникулы, отец уже щеголял в новом костюме. В нем его и похоронили.
И вот выпускной вечер. Наше учебное заведение закрытого типа, поэтому никаких девочек со стороны: танцевали только с нашими преподавательницами, официантками, друг с другом, с женами товарищей. На рассвете (хотя какой рассвет, если в это время белые ночи?!) разъезжаемся кто куда. Мы же – в Москву. Мы– тринадцать человек– чертова дюжина, отобранных для дальнейшей учебы в разведшколе. Нельзя сказать, что мы были лучшие из лучших, но, по-видимому, у мандатной комиссии, где мы проходили собеседование, были какие-то свои критерии. Покидав свои вещи в подошедший открытый грузовик, мы попрощались со всеми, забрались в кузов, кто в штатском, кто в военной форме, но уже без погон, и помчались по пустынным утренним улицам Ленинграда на Московский вокзал. Скорый поезд Ленинград – Москва. Впереди– два года учебы в 101-й разведшколе под Москвой.
«Москва. Как много в этом слове для сердца русского…» Ленинградский вокзал в Москве. Москвичи отправились к себе домой, а мы, иногородние, сложив свои скромные пожитки в кучку, стали терпеливо «дать, пока за нами приедут, поскольку у нас была договоренность, что нас встретят и определят на постой. Часа через полтора подошел служебный автобус, он-то и отвез нас куда-то в район Смоленской площади, где мы разместились в какой-то деревянной развалюхе.
Устроившись на ночлег, мы веселой гурьбой пошли на Арбат перекусить. Многие из нас в Москве были впервые, в том числе и я. Забрели в первое попавшееся кафе на Арбате, и только Боря Б. не захотел с нами идти. «Нет, ребята, – сказал он, – вы как хотите, а я хочу получить первые впечатления на трезвую голову», – и побрел по Арбату в сторону Кремля. Мы его не осуждали.
Отметив как следует прибытие в столицу, мы побродили по Арбату, но поскольку с дороги устали, пошли к себе отдыхать.
На другой день нас перевели в общежитие Высшей школы КГБ на Шаболовке. Приехал начальник отдела кадров 101-й школы, проверил наши документы и велел нам всем быть на следующий день на Лубянке к десяти утра.
На Лубянке нас водили из кабинета в кабинет, где начальники (никто из них нам не представился), уделяли каждому из нас по несколько минут, задавая разные вопросы.
– Послушайте, Владимир Анатольевич, – спрашивали мы нашего кадровика, – кому это вы нас представляете? Водите нас, водите по всем этим кабинетам, прямо калейдоскоп какой-то из всех этих лиц, а кто они– мы не знаем. Хотя понимаем, что это очень уважаемые люди.
– А вам и знать незачем. Это руководители различных направлений разведки, но есть и повыше. Вот, например, только что вы беседовали с самим начальником ПГУ товарищем Сахаровским.
– Да ну! Что же вы раньше-то не сказали?
– А если бы сказал, то что? Он и не велел ничего говорить, чтобы вы посвободней держались.
«Смотрины» продолжались. Два дня провели на Лубянке. Потом нас всех отпустили с Богом, выдав отпускные и воинские требования на проезд по железной дороге. Сбор утром 25 августа, то есть через месяц, у метро «Измайловская», где нас будет ждать автобус.
Вначале я поехал в старшему брату в Туапсе, куда он получил назначение по окончании Львовской школы КГБ. Стояла хорошая погода, я впервые увидел море и вволю поплавал, делая довольно далекие заплывы. Недели через две приехал в город Умань, где жили мать с бабушкой и с младшим братом (мы переехали туда летом 1953 года). Они снимали хату с садом на берегу Верхнего пруда, дававшего начало каскаду прудов знаменитого паркового ансамбля «Софиевка», построенного графом Потоцким в прошлом веке.
Утром 25 августа я уже сидел в служебном автобусе на площади перед станцией метро «Измайловская». Подходили наши, но много было и незнакомых ребят. Автобус за полчаса доставил нас в лесную обитель, где нам предстояло за два года постичь премудрости ремесла, именуемого разведкой.
101-я– так называлась тогда наша разведшкола. Скромно и со вкусом. И конспиративно к тому же. Без фанфар. Это сейчас нашу разведшколу невесть почему стали называть громко и помпезно: «Краснознаменный институт службы внешней разведки имени Ю. В. Андропова». И находится это уникальное учебное заведение уже совсем в другом месте. Даже не знаю где.
Наш автобус встречал сам начальник школы генерал-майор Гриднев. Невысокий, седовласый, плотного телосложения человек в генеральской форме. Школа паша располагалась в лесу в районе Реутова. Во время войны там готовили диверсантов. А генерал наш готовил разведывательно-диверсионные отряды, которые забрасывались в тыл врага.
Все здания школы, кроме гаража, были бревенчатыми в два этажа. Центральное место занимал учебный корпус. Два общежития стояли поодаль на некотором расстоянии одно от другого. То, которое находилось ближе к учебному корпусу, предназначалось для тех, кто проходил годичный курс обучения. Там обучались солидные ребята, уже знавшие языки и имевшие опыт работы за рубежом. По весне, когда сходил снег, дворник собирал под их окнами мешки пустых бутылок.
Наше двухэтажное общежитие стояло на отшибе около спортивной площадки. Оно было еще довоенной постройки со скрипучими крашеными полами. Зимой там сухо, тепло и уютно, а летом – прохладно.
По весне все утопает в сирени, вокруг шумят ели. У входа в нашу войсковую часть расположены хоз-постройки: гараж, санчасть и баня.
В первый же день всем нам присваивают псевдонимы. Моим псевдонимом стал «Мартынов». Мне сразу вспомнился офицер Мартынов, убивший Лермонтова на дуэли. Затем стали формировать языковые группы. Я просился во французскую или испанскую, но меня почему-то направили в группу греческого языка. Туда же попали еще двое наших выпускников и один из МГИМО. Так мы и прожили вчетвером в одной комнате все два года. Один наш товарищ был женат. У него в Москве жила жена с маленькой дочкой. Он очень по ним тосковал и с понедельника до субботы ходил невеселый и задумчивый, когда же наступала суббота, он преображался, шутил, наливался энергией, и вообще всех нас в этот день он очень любил. По окончании занятий он мчался как угорелый на первый же автобус в город. Женатики возвращались в понедельник утренним автобусом и шли прямо на занятия. Мы же, холостяки, ночевали, как правило, и в субботу, и в воскресенье в общежитии, и для нас подавали ночной автобус от метро «Измайловская».