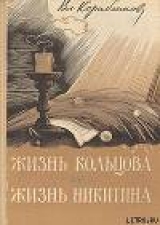
Текст книги "Жизнь Кольцова"
Автор книги: Владимир Кораблинов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
Наступила осень. В Воронеже все было по-прежнему. На Дворянской одиноко свистел злой ветер, громыхая на крышах оторванными листами железа и ломая кривые сучья тополей и каштанов.
Только к ноябрю вернулся Кольцов ко двору. Все, чем он занимался летом, было сделано вовремя и с выгодой. Отец казался добрым, хвалил сына, но однажды намекнул на женитьбу. Алексей резко ответил отцу, и они снова враждебно замолчали.
Потянулись дни одиночества. Кареев с полком был где-то в лагерях; Сребрянский сулился приехать к октябрю, да все не ехал, жил у своих стариков в Козловке, и, как он писал Кольцову, напоследок отъедался.
Неожиданно в декабре появился Кареев. Пришел мрачный, осунувшийся, обнял Кольцова и сообщил, что его полк отправляют в Польшу.
– Не чаял, – с возмущением и горечью говорил, – что придется мне играть отвратительную роль жандарма…
Кольцов туманно представлял себе, что происходит в Польше. То, что доводилось слышать в трактирах или на базаре и что определялось там двумя словами: «полячишки от рук отбились», на деле оказывалось небывалым по величине и размаху народным восстанием против царского владычества.
– У нашего главного будошника, – негодовал Кареев, разумея под «будошником» царя, – одна цель: задавить и уничтожить революцию. И это призвана сделать русская армия… Боже мой, как все стыдно и гадко!..
Он уехал мрачный и расстроенный, желая, чтобы его убили в этой ужасной, несправедливой войне.
В январе приехал Сребрянский. Несмотря на то, что он все лето «отъедался», вид у него был неважный: он кашлял, ржавые пятна румянца горели на щеках.
– Что ж ты, – сказал Кольцов, – так плохо отъелся?
Сребрянский засмеялся, закашлялся и махнул рукой.
7В маленькой комнатке было так накурено, что сквозь облака дыма люди казались призраками.
На проводы Сребрянского собрались его семинарские друзья. Здесь был и Ксенофонт Куликовский со своими гуслями, и регент Бадрухин, и Виктор Аскоченский, и, наконец, Феничка. Пели новую, сочиненную Сребрянским на расставание с друзьями, песню:
Быстры, как волны.
Дни нашей жизни,
Что час, то короче
К могиле наш путь…
Кольцов сидел молча, не принимая участия ни в пении, ни в шумных хмельных разговорах.
– Спасибо тебе за все, – садясь рядом, шепнул Сребрянский. – Кабы не ты… да что там говорить!..
– Да брось ты! – недовольно поморщился Кольцов. – Нашел об чем… Дай бог, чтоб в Питере пошло все гладко. Весточки шли, не забывай. А мне, – вздохнул, – завтра опять на Линию за скотом ехать. Опять гуртовать на дорогах, опять добрых людей обманывать…
Куликовский постучал по столу бутылкой.
– Эй, други! Что до времени носы повесили? А ну-ка, нашу, семинарскую!
Зазвенели гусельные струны, веселую, озорную запевку дружно подхватил хор, и стекла задрожали от напора сильных молодых голосов.
– Андрей Порфирьич! Ямщик серчает, говорит – ехать время! – просовывая голову в дверь, сообщила квартирная хозяйка. – Фу, батюшки, да и начадили же табачищем-то!
– По-о-со-шо-ок! – мрачно возгласил Феничка. Разлил по стаканам остатки вина и потянулся чокаться.
– Посидим по русскому обычаю, – предложил Бадрухин.
Друзья присели на минуту, помолчали и начали одеваться.
– Поедем, Алеша, проводи до заставы, – попросил Сребрянский.
Дорожная, крытая рогожей кибитка стояла у ворот. Ямщик ходил вокруг лошадей, поправляя сбрую.
– Ну, балуй! – сердито увещевал шаловливую пристяжную. – Поехали, что ль?
Лошади зашевелились, перекликнулись бубенцы, под полозьями заскрипел снег.
– С богом, Андрюха! – крикнул Феничка.
– Будь здоров, друже! Час добрый! – всколыхнули сонную улицу голоса семинаристов.
Возле заставы Сребрянский велел остановиться. Друзья крепко обнялись.
– Так ты помни, – сказал Кольцов, – что бы ни случилось – верный друг есть у тебя!
Ямщик взмахнул кнутом, вскрикнул, – лошади взяли вскачь, и кибитка скрылась в снежной мгле.
8Линией у воронежских прасолов называлась граница России с Азией. Ехать за скотом на Линию – значило ехать за пределы европейской России – в калмыцкие кочевья, где скот бывал дешев, где его выгодно можно было купить. В такие поездки прасолы отправлялись зимой с тем, чтобы, закупив скот, к весне пригнать его на свои выпасы.
В такую-то поездку дня через два после проводов Сребрянского и отправился Кольцов. Его сопровождали Зензинов, молодой парень Ларивошка и еще один, недавно нанятый погонщик.
Они благополучно добрались до Оренбурга, хорошо, с большой выгодой, купили четыре сотни быков и в конце февраля отправились в обратный путь.
Зензинов ехал на день дороги впереди гурта, закупая и заготавливая корма. Кольцов с Ларивошкой и другим гуртовщиком гнали быков. Они уже перешли Волгу и вдруг попали в такие бураны, что приходилось по два-три дня стоять на месте. На каком-то хуторе они отсиживались четверо суток. На пятый день буран утих. Кольцов велел собираться в дорогу.
Небо было ясное, и только далеко у горизонта белело узкое, длинное облачко.
Следующая стоянка, где дожидался Зензинов, находилась верстах в десяти. Кольцов загадывал к вечеру дойти до нее, спешил и все подгонял быков, тревожно поглядывая на облачко, которое вскоре стало приближаться и увеличиваться. Вдруг потемнело кругом, заревел ветер и наступила ночь. Быки столпились в кучу и стали. Гуртовщики выбились из сил, кричали, погоняя быков, – все было напрасно: сплошные воющие стены снега висели окрест, быки не трогались с места ни на шаг…
Кольцов тронул Лыску и поехал вдоль гурта. Ему показалось, что быков стало меньше, что тут не весь гурт, а только часть его. Несколько раз объехав вкруг, он убедился, что, точно, половина стада отбилась. Мысль, что он с остатком гурта сбился с тракта, поразила его: это была верная погибель.
Тогда он въехал, расталкивая быков, в глубь стада, поставил Лыску хвостом к ветру и, закутавшись поплотнее в тулупчик, стал ждать либо конца бурана, либо смерти.
9Трудно сказать, сколько времени простоял Кольцов в таком ожидании. Ему захотелось спать. Он знал, что это плохой признак и, спрыгнув с седла, принялся бегать, чтобы разогнать сон и согреться.
За сплошной пеленой мечущегося снега послышался далекий вой. С каждой минутой он становился все слышнее; пара зеленоватых огоньков мелькнула, за нею – другая, третья. Вой смолк. И вдруг бык заревел не своим голосом, и сразу все быки подняли рев. Кольцов догадался, что волки режут скотину. Он выхватил из-за пазухи пистолет и выстрелил. В ту же минуту невдалеке заржала лошадь. «Неужто Лыску погнали?» – с ужасом подумал Кольцов. Он зарядил пистолет и выстрелил снова. Огоньки исчезли, стало тихо.
– Лыска! Лыска! – позвал Кольцов.
В ответ лишь ветер свистел да, встревоженные волками, беспокойно топтались и взревывали быки. Кольцов сунул за пазуху пистолет и вытер взмокший лоб.
– Ну, брат, отстал от гурта – пеняй на себя… Помирать так помирать! – крикнул во тьму и погрозил кому-то кулаком.
10Наступил день, но он мало чем отличался от ночи.
Быки легли, и Кольцов привалился между ними. Снег сразу намел на них белые бугры; стало теплее, а главное – тише. Страшно хотелось спать, мысли лениво, как бы уже сквозь сон, потекли в воспоминаньях прошлого. Привиделся дед Пантелей, лунная ночь в Каменке, над Доном. Хмурый отец в пуховой шляпе, с седоватой бородой, засунутой за отвороты кафтана… Дворник с серьгой, у какого ночевал летом. «Эх, как же я не добился, не расспросил его, может, и Дунюшка бедовала там, у ихнего барина…»
И решил, что, если останется жив, обязательно сам съездит или пошлет Зензинова хорошенько расспросить дворника.
Наконец сон опутал по рукам и ногам, и он было заснул, да быки вдруг заворочались, стали подниматься. Один из них наступил Кольцову на ногу, и он вскрикнул от боли. «Что же этак стоять-то? – рассудил Кольцов. – Только хуже замерзнешь». Он вытащил из-за пояса длинный пастуший кнут и, громко крича, стал им хлопать. Быки пошли вперед. Они шли по брюхо в снегу, как плугом распахивая огромные сугробы. Ему трудно было поспевать за ними: со вчерашнего дня он ничего не ел и ослаб; нога болела, и сильная хромота мешала идти. Один раз он споткнулся и упал и, еле поднявшись, задыхаясь и кашляя, насилу догнал стадо.
Длинная, как степная дорога, потянулась вторая ночь. Быки снова легли, и снова Кольцов пристроился между ними. Опять намело снегу и стало тепло. Он подумал, что это его последняя ночь. Надо было встать и двигаться, чтобы не уснуть, да встать не хватало сил и очень болела нога. И опять поплыли медленные мысли. Теперь он вспомнил, как ехал от Станкевича и как все время на его пути перезванивали печальные колокола. Он так отлично, живо представил все это, что до его слуха явственно донесся колокольный звон. Кольцов прислушался. В самом деле, совсем близко, прерываемый ветром, звонил колокол.
Кольцов отряхнул снег, собрав последние силы, вскочил на ноги и, оглушительно пальнув кнутом, закричал:
– Э-е-е-й! Шевелись, голуби! Живы будем – не помрем!
11Оказалось, что колокол звонил в том самом селе, куда Кольцов гнал быков и где вот уже седьмые сутки его ожидал Зензинов.
Гурт пришел еще вчера. Ларивошка в степи не сразу хватился Кольцова и не искал его. Да в буран и невозможно было найти.
Кольцов заболел и слег. Зензинов поставил вместо себя другого человека, а сам повез больного ко двору. Он привез его на самое благовещенье, когда в Воронеже началась веселая и дружная весна. Звенели бесчисленные сбегавшие с воронежских круч ручьи; возле домов, заборов и на бугорках уже зеленела травка; яростно шумели драчливые воробьи.
Но Кольцов ничего этого не видел и не слышал. Он бредил и то кричал на быков, то грозился убить какого-то барина.
В Воронеже был новый лекарь. О нем шла хорошая слава, и его позвали к Алексею. Этот лекарь оказался тем самым Малышевым, с которым Кольцов прошлым летом, по дороге от Станкевича, пил чай. Малышев осмотрел больного и нашел у него тяжелое воспаление легких.
– Ничего, – сказал он, – этакий богатырь справится.
И в самом деле, ему стало лучше. Но кашель обессиливал Кольцова. Когда он впервые увидел возле своей постели Малышева и узнал его, тот засмеялся:
– Вот, сударь, правильно старики говаривали, что гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда столкнутся…
Глава восьмая
Я понесу святое иго,
Я тьмы стерплю мучений, зол;
Согнусь под тяжкою веригой…
Но небо даст мне свой глагол.
Н. Станкевич
1
Он трясся в маленькой тележке, пробираясь по трудной лесной дороге в Толшевский монастырь.
В лесу было прохладно и сыро. Глубокие колеи узкой дороги лежали наполненные голубой и зеленой, отражавшей небо и листья, водой. Справа и слева толпились пестрые деревья разнолесья, по которым скользили причудливые пятна солнечного света. Гнедая сытая лошадка, поблескивая запотевшими боками, весело шла по вязкой дороге.
Дело в монастыре было кляузное.
Несколько лет кряду Кольцовы арендовали у приваловских мужиков землю. Все было хорошо до тех пор, пока жадному и хитрому игумну Смарагду не пришла в голову мысль оттягать у приваловцев эти несколько десятин земли. Игумен покопался в монастырских архивах и нашел или состряпал сам какую-то хитрую грамоту, по которой выходило, что приваловская земля – не приваловская, а монастырская.
Смарагд съездил в город, похлопотал, дал кому нужно – и землю присудили монастырю. Приваловцы пошумели, искупали сгоряча в ледяной Усманке монастырского эконома и смирились.
Кольцовым же, раз заплатившим за аренду приваловцам, приходилось снова платить уже монастырю. Мужики не хотели да и не могли вернуть Кольцовым деньги, а монастырь, став хозяином пастбища, знать ничего не желал и требовал с Василия Петровича за аренду.
Алексей ехал к игумну Смарагду уговорить его не брать денег, пока не кончится срок аренды у мужиков. Однако надежды на это было мало. Кольцов понимал, что едет напрасно, и все-таки поездка была ему приятна. Весенний лес, птичий гомон, крепкий, чистый дух оживающей природы, – все это как бы вливало в него чудодейственные силы и помогало куда лучше, чем самые дорогие и целительные декохты.
2Толшевский монастырь стоял на самом берегу небольшой, но удивительно красивой реки Усманки. Кругом зеленел лес, высились необхватные вековые сосны, от которых, как говорили, и пошло название места – «Толши».
Привратник спросил у Кольцова, что ему надо, потом кликнул молодого послушника, велел ему убрать лошадь и проводить приезжего к отцу игумну.
Игумнов келейник, пожилой монах с плутоватыми глазками и огромной, величиной с куриное яйцо, шишкой на лысине, провел его в келью и, поклонившись, ушел. Навстречу Кольцову поднялся высокий, худой, с ястребиным носом и нависшими седыми бровями старик. Это и был Смарагд. Кольцов подошел под благословение и сказал, кто он и по какому делу.
– А вы что же, – глянул Смарагд пронзительными черными глазами, – у папаши как бы в поверенных?
Алексей объяснил, что дело у них с родителем общее, и принялся доказывать Смарагду несуразность монастырских требований, к что раз уж так получилось с приваловской землей, то монастырь должен взять у крестьян деньги, а никак не взыскивать их с Кольцовых второй раз.
– Искушение! – осудил Смарагд. – Суета… Нет бы о спасении души помыслить. Ведь с них, мил-человек, не возьмешь, с мужичков-то.
«Так они тебе и отдали, – усмехнулся про себя Алексей. – Оттягал землю, да еще и деньги тебе отдай!»
– Какое же, ваше преподобие, будет решение? Мы вам платить не станем. У нас за два года вперед заплачено.
– Не нас лишить хотите, не иноков убогих – господа бога нашего лишаете…
«Ох, лиса!» – подумал Кольцов.
– Так какое же решение ваше? – повторил он вопрос.
Смарагд сидел, перебирая кипарисовые четки и глядя куда-то поверх головы Кольцова.
– Придется, видно, вам скотинку согнать с землицы-то…
– Это ваше последнее слово? – поднимаясь, спросил Кольцов.
– Последнее-с, – ответил Смарагд.
Алексей откланялся и, покормив лошадь, отправился в обратный путь.
3Услышав, что Смагард потребовал согнать скотину, Василий Петрович вскипел, обозвал игумна чернохвостым разбойником и решил, что дела так бросать нельзя, а нужно идти жаловаться к губернатору.
– Сходи, Алеша, сходи, сокол, – просил он сына. – Тебе оно с руки. Ты уж там по-ученому, брат, с его превосходительством, по-книжному, значит, ловчей разберешься…
Кольцов не без робости, минуя двух дюжих жандармов, вошел в подъезд губернаторского дома и, поклонившись раззолоченному швейцару, попросил доложить о себе его превосходительству.
Губернатор Бегичев принял Кольцова очень любезно, сказал, что много слышал о нем и сам давно желал познакомиться; что-то вскользь упомянул о Ломоносове, о русских самородках, о том, что
…может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!
При виде жандармов, ливрейных лакеев, обставленных прекрасной мебелью комнат и, наконец, самого губернатора он сперва растерялся. Однако Бегичев так просто и так сердечно с ним говорил, что Кольцов понемногу освоился, огляделся и подробно изложил свое дело.
– Знаете, дорогой Алексей Васильич, – задумался губернатор, – дело ваше довольно щекотливо. А щекотливо оно потому, что затеяно церковью. Я не хочу вас огорчать, да только скажу прямо: тут, в Воронеже, мы с вами ничего не решим. Однако ж, – добавил, – ваши претензии законны вполне. И я, со своей стороны, поверьте, от всей души желал бы вам помочь, но как?
Губернатор прошелся по кабинету, постоял возле окна, размышляя.
– Что я могу сделать, – произнес наконец, садясь возле Кольцова и кладя ему на колено руку, – так это дать вам письмо в Москву к одному влиятельному лицу, которое ведает делами земельного департамента. Мы с ним старинные друзья и однокашники, он не откажет.
Кольцов стал благодарить.
– Ну, что, помилуйте! Рад вам помочь. Да вы в Москве сами-то бывали?
– Нет-с, – ответил Кольцов, – не доводилось.
– Тем более! Поглядите на нашу первопрестольную…
Дело оборачивалось неожиданной поездкой в Москву. Кольцов радовался этому: там жил Станкевич, там обитали настоящие литераторы, там была другая, огромная и еще не знакомая Кольцову-жизнь: эта жизнь манила его, и он ничего так не желал, как окунуться в нее.
На следующий день Кольцов получил от Бегичева обещанное письмо и стал собираться в Москву.
4Перед отъездом он сказал Зензинову насчет дворника, и Зензинов обещал при первом случае или съездить самому в Славяносербск, или послать туда кого-нибудь из погонщиков и все разузнать.
Кольцов ехал шибко. Он давал ямщикам на водку, и те старались и гнали лошадей не хуже фельдъегерских. Деревни, станции, верстовые полосатые столбы мелькали и уносились назад. Справа и слева плыли бесконечные поля, по которым, сопровождаемые грачиными стаями, ходили пахари. Вечерами протяжные песни слышались издалека. В такие минуты он вспоминал о Дуне и мучил себя мыслями о том, что плохо ее искал, что, может быть, проехал мимо… «Лучше бы уж мне помереть тогда в степи…» – думал Алексей, и все ему было немило.
Но утром снова мчалась тройка, и так чудесно звенел в синеве жаворонок, так дивно на крышах и на траве сверкала роса, что ему снова становилось радостно, и он, забывая печальные минуты, думал о Москве и московских встречах.
Наконец на четвертые сутки он проскакал мимо большого столба с надписью: «До Москвы 6 верст».
– Во-о-он она, матушка, – оборочиваясь к Кольцову, весело крикнул ямщик.
Кольцов привстал в тележке и увидел впереди освещенное утренним солнцем что-то огромное, синее, пыльное, поблескивающее золотом. Это была Москва.
Чем ближе подъезжали к Москве, тем больше становилось проезжих. Телеги, тарантасы, брички, крестьянские возы с сеном и коровьими тушами, – все это двигалось по одной дороге – к Москве.
Возле заставы у поднятого шлагбаума полицейский будочник проверял подорожные документы. Кольцов протянул ему бумагу, и тот стал шевелить губами, читая ее, потом, не взглянув на Кольцова, махнул рукой, и тележка запрыгала по ухабистым мостовым Москвы.
Сначала потянулись избенки вроде воронежских – с покосившимися плетнями, скворешнями и горластыми петухами. «Что же это за Москва!» – с разочарованием подумал Кольцов. Но вот вдали сверкнули золотые маковки церквей, вот еще улица, другая – и вдруг, отраженный в реке, встал Кремль. Кольцов ахнул. Ямщик скинул шапку и перекрестился.
– На Белевское, что ли? – обернулся он к Кольцову.
5На подворье было тесно. Понаехавшие лебедянские шибаи заставили весь двор телегами и лошадьми, а сами расселись в горнице и чаевничали.
Кольцов поздоровался с ними, переоделся в новый синий кафтан, повязал шею пестрым платком и, напившись чаю с московскими калачами, пошел справлять дела. Сегодня же надо было найти недослужившего срок погонщика Сарычева и взыскать с него шесть рублей денег. Сарычева, проживающего поблизости от подворья, он нашел скоро, но денег с него взыскивать не стал – пожалел: в грязной каморке была нищета, белоголовые дети, мал мала меньше, копошились в хламе, как кутята. Жена бросила стирку, заплакала, а Сарычев униженно кланялся, сулился отдать к покрову. Кольцов сунул Сарычевой бабе рублишко и, ударившись головой о притолоку низенькой двери, вышел.
Он отправился к Станкевичу и, не зная Москвы, проплутал часа два. Когда же ему показали нужный дом, он лицом к лицу неожиданно столкнулся с самим Станкевичем. Станкевич быстро шел, фалдочки форменного сюртука развевались, из кармана смешно торчал эфес шпаги. За Станкевичем, видимо догоняя его, придерживая картуз и шпагу, бежал длинный, нескладный студент и что-то кричал.
– Батюшка Алексей Васильич! – изумился Станкевич. – Вот хорошо! Фу, какой! – обернувшись назад, замахал руками на длинного, – Ну куда, ну куда ты, Васютка? Я и один схожу…
– Нет! – упрямо тряхнул головой Васютка. – Иду и буду защищать тебя! А коли нужно, так и кровь пролью!
Он похлопал рукой по шпаге. Станкевич весело расхохотался.
– Не дурачься, Вася, – сказал строго, как шаловливому ребенку. – Я мигом обернусь. А ты тем временем сварил бы кофий да угостил Алексея Васильича. Ведь это, Вася, тот самый мой земляк…
– Кольцов! – длинный кинулся обнимать Алексея. – Впрочем, виноват, рекомендуюсь: Василий Красов…
Он взял под руку Кольцова, с любопытством заглядывая ему в лицо, бормоча: «Да, да, я именно таким вас и рисовал в своем воображении…»
– Иди же, Васютка, я – мигом! – Станкевич кивнул друзьям и поспешно зашагал по тихой уличке.
6– Ах, любезный Алексей Васильич! – говорил Красов, входя с Кольцовым в двери. – И рад я вам, голубчик, да только – нет, не могу этак покинуть Николашу… Ведь шутка сказать: сам вызвал! Уж вы посидите в комнате, а я побегу… Кто-кто, а Красов не позволит хоть бы и самому ректору посягать на Николашу!
И, сдав изумленного Кольцова на руки Ивану, Красов побежал догонять Станкевича.
Станкевич жил в Москве в доме университетского профессора Павлова, который сдавал ему комнату и кормил плохими обедами. Мансарда, куда ввел Кольцова Иван, была невелика, но очень опрятна. Солнце сверкало на чистых стеклах окон, на корешках расставленных по полкам книг, на зеркально блещущем полу. По стенам не видно было обычных назойливо-ярких олеографий, только в узенькой черной рамке – отличная акварельная копия Сикстинской мадонны.
– Да расскажи, что же случилось-то? – спросил Кольцов Ивана.
– А ничего-с, – ухмыльнулся Иван. – Это вам, стало быть, по новости чудно на Василья Иваныча. А он у нас, как бы сказать, этакой… такой… – Иван пошевелил пальцами перед глазами. – Вам чего, кофий ай, может, самоварчик?
– Давай самовар, – решил Кольцов.
Оставшись один, он стал рассматривать книги. Книги все больше были не русские, много стихов. «Экая ученость! – почтительно отметил Кольцов. – Ведь вот и видишь – стихи, а поди, прочитай!»
Иван принес самовар.
– Пейте, – пригласил Кольцова и, взяв со стола трубку, принялся набивать ее табаком.
– Ты что же баринов табак куришь? – усмехнулся Кольцов.
– Это пустяк, без значения, – раскуривая трубку, заважничал Иван. – У нас барин такой, что тут не то трубку, а все можно… Да вы не теряйтесь, что ж сахару мало кладете? У нас это запросто… без значения! – снова ввернул он, видимо, полюбившееся ему словцо. – У нас, почитай, что ни вечер – все народ, все книжки читают…
– Это хорошо, что читают, – похвалил Кольцов.
– Да оно, конечно, неплохо, да только непонятно как-то: слушаешь, слушаешь, пока носом не заклюешь, плюнешь да и на лежанку. А что ж кренделька-то?
Иван подвинул корзинку с кренделями.
– Ешьте, ничего… У нас пища – пустяк, без значения: доходы позволяют.
– Что же, неужто так все непонятное и читают? – спросил Кольцов.
– Ну, нет, зачем все… Вон вчерась какой-то новый приходил, ну тот вре́зал! Так господ костерил, так костерил! – заслушались. И все, слышь ты, в лицах, просто – ах! – Иван оглянулся на дверь. – Его быдто чуть в Сибирь не усватали, ей-богу! Да вот жалко не до конца прочитал. Нонче, сказывали, будет дочитывать. Вы послушайте.
– Да кто же сочинитель-то? – полюбопытствовал Кольцов.
– А кто его знает… Так из себя невидный, мундиришко старенький, поди, с толкучего. Но расшумелся – у-у, куды там!








