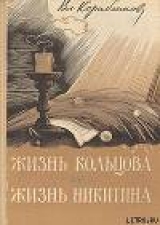
Текст книги "Жизнь Кольцова"
Автор книги: Владимир Кораблинов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
В деревне он не стал жить в большом доме, где от гостей всегда было шумно. Его устроили во флигеле, и те две комнатки, которые были ему определены, он завалил книгами и журналами.
Флигель недавно выстроили, стены еще не успели оштукатурить, а только побелили, и это имело свою прелесть и придавало дому вид какой-то милой простоты.
В одной комнате стояли стол, шкаф и висело небольшое зеркало; в другой – старенькое фортепьяно, диван, над ним – ружье и отцовский портрет, за раму которого был засунут пучок засушенных цветов.
Станкевич решил заниматься историей и окружил себя множеством книг. Он начал с изучения Геродота, однако Геродот подвигался медленно: не было исторических карт, и Станкевич дожидался присылки их из Москвы. Кроме того, стояла прекрасная осень, отличная охота по чернотропу, и хоть он и обещал Неверову отказаться от охотничьих забав, осенний лес манил его, и он целыми днями со своей любимицей гончей Дианкой бродил по тронутым октябрьским морозцем полям и перелескам.
Но вот кончилась осень, выпал снег и завыли декабрьские вьюги. Из Москвы прислали карты, и первый том Геродота был закончен. Жизнь установилась тихая и скучная. В тишине и скуке вспомнились наставления петербургского друга, снова среди вьюжной мглы блеснули золотые пуговицы вицмундира министерства просвещения, и Станкевич подал прошение об определении его в почетные смотрители Острогожского уездного училища.
4К вечеру метель усилилась. Ветер свистел в трубе, гремел печными вьюшками. Иногда жалобно звенели оконные стекла, и тогда казалось, что этак еще немного – и дом не выдержит и рухнет.
Станкевич зажег свечу. Желтоватый огонек, вздрагивая и колеблясь, осветил комнату. Спавшая на диване собака открыла глаза, потянулась, подрагивая всеми лапами, и сладко, во всю пасть, зевнула.
– Что, Дианочка? – поговорил с ней Станкевич. – О чем это вы? Что за меланхолия такая?
Не вставая с места, собака застучала хвостом по твердой кожаной обивке дивана. Мягко ступая подшитыми валенками, Станкевич прошелся по комнате, постоял у темного окна, заглянул в его непроглядную темень. Ветер ухнул с такой оголтелой яростью, что Дианка подняла голову и обеспокоенно заворчала.
– Плохо, душенька! – забираясь с ногами на диван, пожаловался Станкевич. – Буран, ненастье… И Геродот надоел хуже горькой редьки!
Собака положила морду на колени хозяину и поглядела на него умными карими глазами.
– Это, брат, тебе не на охоту ходить! – сказал Станкевич.
При слове «охота», которое отлично понимала, собака, спрыгнула с дивана, оглядываясь, побежала к двери. И вдруг насторожилась: за окном послышались голоса, на крыльце, топая ногами, кто-то обивал снег. Дианка тихонько брехнула, словно спрашивая: лаять во всю силу или погодить?
– Куш! – велел ей Станкевич, взял свечу и пошел в сенцы открывать дверь.
5Кольцов был весь в снегу.
– Пожалуйте веничек! – попросил. – На мне снегу бугор… Заплутался! Спасибо, на заводе в колокол ударили, а то – хоть кричи!
Накинув поверх красной шерстяной фуфайки короткий полушубок, Станкевич побежал в дом, распорядился насчет самовара и прихватил из буфета бутылку рома. Пока он хлопотал, Кольцов отряхнул с тулупа снег, разделся и, прислонясь спиной к теплой печке, отогревался.
– Наделал я вам хлопот! – поёжился виновато. – Добрый человек делом занимался, а я – вот он, здорово живешь, как снег на голову…
– Верно, как снег! Ну и крутит, насилу пробился… Страх как закурило! Вы-то как добрались? В такую пургу и замерзнуть очень просто.
– Дело привычное, – усмехнулся Кольцов. – Всего хватало: и в степи замерзал, и в огне горел, и в Дону тонул, а все ничто не берет. Слухом пользовался, вы ученье кончили, – кивнул на раскрытую книгу, – а чего ж учитесь?
– Теперь хочу других учить, – шутливо сказал Станкевич. – Кончил курс, не все летать в облаках мечтаний, надо же какую-то дорогу выбрать.
– Учить людей – лучшей дороги не придумаешь!
– Так-то оно так… Да трудно мне будет: я ведь знаю, как в уездном училище учат!
– Все больше розгой да линейкой, – заметил Кольцов.
– Вот-вот! А я хочу вывести это из употребления. Да и учебники – горе одно…
Принесли самовар, закуски. Горячий чай с ромом заметно оживил Станкевича. Щеки его порозовели. С увлечением рассказывая о планах будущей деятельности, он то и дело оттягивал ворот фуфайки и прихватывал его зубами.
– Учебники надо составить новые, естествознание ввести обязательно, – загибая пальцы, перечислял он. – О, тут, знаете ли, работы – край непочатый! Но как вообразишь себе эти деревянные лица острогожских чиновников – страх берет…. Не уживусь!
– Это верно, трудненько вам придется, – согласился Кольцов.
– Глупостей наделаю, – враз как-то помрачнел Станкевич. – Меня иногда черт толкает… Я, когда маленький был, одному купцу на лысину плюнул.
– Да для чего же? – расхохотался Кольцов.
– А так. Противным показался, я и плюнул!
6Дианка спала на диване и видела охотничьи сны – вздрагивала, рычала, перебирала лапами. За окнами не унималась метель.
Кольцов прочел новые стихи. Минуты две Станкевич сидел молча, как будто еще прислушиваясь. Кольцов исподлобья поглядывал на него. Как всегда, прочитанное показалось ему пустым, невыразительным. Часом раньше эти стихи пели, расцветали удивительно яркими картинами, а сейчас вдруг увяли, поблекли. Сделалось досадно и совестно: бог знает в какую даль перся, средь ночи взбулгачил хорошего человека… а зачем? Для чего?
– А знаете, – наконец заговорил Станкевич, – ведь вы не просто – поэт. Вы – явление.
– Как?! – Кольцов привстал даже. – Как вы сказали?
– Явление. То, что вы мне сейчас прочли – какой меркою мерить? Не знаю… Как судить о соловье? Поет – и все.
– Это меня, что ль, с соловьем равняете? – Кольцов покосился недоверчиво.
– Именно это мне пришло в голову: да, соловей! Очень прошу, милый друг, прочтите еще раз последнее…
– Извольте-с.
Ободренный словами Станкевича, он снова читал.
И снова пели стихи, и он уже не сомневался в их песенной силе.
– Завтра же отошлем в Москву, – решительно сказал Станкевич. – Обязательно надо эти последние ваши включить! Белинский пишет: все договорено, деньги собраны. Степанов берется тиснуть в своей типографии… Помяните мое слово – книжечка ваша событием станет!
– Скажите! Больно Мала для события-то.
– Да коли вы хотите знать, – вскочил Станкевич, – так напечатать одно только это – «Не шуми ты, рожь» – и уже событие… Да какое!
7Утро было ясное, розовое. Метель утихла. Синие и золотые сугробы лежали, как застывшие волны.
Станкевич вышел на крыльцо проводить Кольцова.
– Спасибо, – сказал Кольцов, прощаясь. – Вы, милый мой Николай Владимирыч, еще на один порожек меня подняли! Великое вам спасибо, земной поклон…
– Ну, полно!
Они обнялись. Кольцов приподнял шапку, вскочил в легкую плетеную кошевку и пустил лошадь. Застоявшийся на морозе пегий меринок резво взял с места и, то и дело переходя вскачь, побежал по визжащему снегу. Выехав из ворот усадьбы, Кольцов отвернул воротник тулупа и оглянулся назад. На крыльце флигеля стоял Станкевич и махал ему вслед. Полушубок распахнулся, красная фуфайка горела как огонь.
Глава вторая
Плясать в улицу пойдет, —
Распотешит весь народ;
Песни ль на голос заводит —
Словно зельями обводит.
А. Кольцов
1
Младшая сестра Кольцова, та самая озорная девчонка Анисья, которая когда-то играла с Кареевым в горелки, стала взрослой, красивой девушкой. Ей исполнилось шестнадцать лет. Она научилась грамоте, увлеклась чтением и много читала, но особенно любила петь и пела очень хорошо.
Красота ее была так необычайна, что, раз увидев, уже невозможно было забыть ее русые, заплетенные в длинную косу волосы, темные брови, синие глаза с длинными стрельчатыми ресницами.
Кольцова поражал ее тонкий вкус: она читала и перечитывала Пушкина, а томик Бенедиктова равнодушно полистала и бросила; плакала над Шекспиром и скучала над салонными романами.
Кольцов часто читал ей свои только что написанные стихи, и она или восхищалась счастливыми строчками, или замечала неудачное и даже советовала, как надо было бы сделать лучше.
Однажды Кольцов вместе с нею зашел к Кашкину, который недурно играл на фортепьяно. Самый инструмент и музыка поразили Анисью. Кашкин сыграл одну из торжественных Баховых фуг, у нее навернулись слезы. Тогда, желая повеселить Анисью, он очень смешно отстукал «Курицу» Рамо. С глазами, еще полными слез, Анисья рассмеялась, попросила сыграть еще, а потом села за фортепьяно сама и одним пальчиком, не очень уверенно, подобрала мелодию какого-то модного в то время варламовского романса.
– У вас, Анисья Васильевна, способности, вам надо учиться, – посоветовал Кашкин.
– Да как же учиться, у нас музыки нет, – разумея под «музыкой» фортепьяно, сказала Анисья.
– Попросите папеньку, он купит.
Кольцов засмеялся.
– Папенька купит!..
В тот же день, за обедом, Анисья попробовала заговорить с отцом о покупке фортепьяно. Василий Петрович был в добром духе: он очень выгодно с утра разделался с покупщиками говяжьего сала и даже маленько обманул их при расчете. Он шутил за обедом и поддразнивал Анисью, говоря, что ей уж и замуж пора, да вот, к слову сказать, вчерась Михейка-сторож приходил свататься, и что, пожалуй, Михейке можно будет отдать Анисью.
Анисья звонко смеялась; Кольцов сдержанно улыбался, глядя в тарелку, и только Прасковья Ивановна испуганно смотрела на развеселившегося мужа.
– Батенька, – смело сказала Анисья, – а вы мне сделаете, что я вас попрошу?
– Чего еще? – сразу нахмурился отец.
– Купите мне фортепьяны, – покраснев от волненья, выпалила Анисья.
– Фор-то-пьяны?! Какие такие фортопьяны?
Эта просьба озадачила старика. Он ожидал, что Анисья попросит, ну, новое платье, ну, колечко, хотя это тоже было неприятно, потому что стоило денег, но чтобы дочь желала иметь тысячные фортепьяны, – этого он никак не мог подумать и даже растерялся от такой немыслимой дерзости.
– Ай очумела? – сердито сдвинув косматые брови, сказал наконец Василий Петрович. – Вот, прости господи, наказанье, нарожал деток! Малый станет песенки сочинять, а девка на фортепьянах подыгрывать, ан, глядь, дела-то и пойдут! Брось, выкинь из головы! – прикрикнул на Анисью. – Все твои, Алешка, выдумки! – погрозил сыну и, встав из-за стола и все хмурясь, помолился и вышел.
2Взаимные отношения Кольцовых – старика и Алексея – были таковы, что их нельзя было признать ни миром, ни враждой. Зензинов правильно сказал однажды, что тут коса на камень нашла. Никому в семействе Кольцовых никогда не пришло бы в голову перечить и возражать старику. Его слово – пусть часто и неразумное – было законом, который никто из домашних не только не преступал, но не смел даже и мысленно преступить. И лишь один Алексей, прямо глядя в глаза отцу, говорил, что вот это не так, вот этого делать не следует, а что было бы хорошо поступить вот так-то и вот эдак. Василий Петрович кричал, топал ногами, случалось, в ярости бил посуду и по неделям не разговаривал с сыном. И хоть, бывало, и признавал правоту Алексея, да все равно делал по-своему.
Однако Кольцов так умно и успешно вел дела, что Василий Петрович понемногу передал ему их все, связанные с крупной торговлей, а следовательно и с разъездом, оставив себе только незначительные – базарные и шибайские. В глубине души он признавал, что Алексей умен и рассудителен, что все, что он ни делает, делается отлично, но на писание стихов все-таки глядел как на блажь. «Дурь, дурь, – говаривал, – малому как-никак двадцать шестой, пора бы и бросить!»
Как-то раз Алексей собрался съездить в степь, верст за сорок – на выпас, где надо было выбрать для убоя десятка два коров. Он вывел из конюшни и оседлал своего коня. После того как волки угнали Лыску, Кольцов облюбовал себе невзрачного, но ходкого, в рыжих пежинах меринка, прозванного за яркую пестроту Франтом.
– Далеко ль едешь? – спросил Василий Петрович.
– Да насчет тех коров, – разбирая поводья, ответил Алексей.
– Дай-кось и я съезжу, – неожиданно решил старик. – Проветрюсь, а то засиделся…
Удивляясь отцовскому желанию, Кольцов велел работнику запрягать в тележку.
Верст пять ехали молча. На пути был лес. Когда лошадь пошла шагом и тележка запрыгала по пересекавшим дорогу сосновым корневищам, Василий Петрович спросил Кольцова, правда ль, что в Москве какие-то господа взялись напечатать в книжке его песни.
– Правда, – подтвердил Кольцов.
– И капитал, значит, затратили? – удивился старик. – А что ж это, к примеру, за люди?
Кольцов назвал.
– Это какой же Боткин? Чайная фирма, что ли? И сынок Станкевичев? Ну, дела, господи, твоя воля! – в раздумье покачал головой Василий Петрович, и то, что в сыне до сих пор было чудно и непонятно, стало еще непонятней и чудней.
3У Кареева было мрачное и угнетенное состояние. Он уже не смеялся так громко и весело, как любил и умел смеяться раньше; глаза его смотрели на людей уже не с прежней доверчивостью и лаской и, словом, все то юношеское, порой даже мальчишеское, что так привлекало в нем, – все это исчезло и уступило место чему-то новому – серьезному, сдержанному и несколько замкнутому.
То, чем была для Кольцова Дуняшина могилка, для Кареева оказалась польская экзекуция. Юность сменилась зрелостью, жизнь представилась иною. Эта полная страдания и ненависти жизнь была суровой и неприглядной.
После того разговора в кольцовском саду Кареев исчез и не показывался несколько месяцев. Кольцов пошел его разыскивать. Хозяйка квартиры, где стоял Кареев, сказала, что Александр Николаич выхлопотал отпуск и уехал в Одессу.
«И не сказал даже», – огорченно подумал Кольцов, но не обиделся и не осудил Кареева, понимая его душевное состояние.
Кареев был сыном незаметного пехотного офицера. Его мать умерла при родах, он вырос на руках своей одесской тетушки. Отец погиб в Бородинском сражении, когда Карееву еще и трех не было. После смерти отца оказалось, что то небольшое имение, которым он владел, не только не приносило дохода, но было убыточным, и тетка-опекунша продала его. Кроме этой тетки, у Кареева не было никого. Тетка осталась старой девицей, жила замкнуто и не выносила детского шума. Она не любила племянника, он платил ей тем же. И так они жили, тяготясь друг другом, до тех пор, пока Карееву не исполнилось восемь лет. Тогда тетка отдала его в военную гимназию, и резвый и веселый Саша пошел в скучную и суровую военную муштру.
Так предопределилось его будущее и так сложилось настоящее, в котором, несмотря на его пылкий характер, а может быть, и вследствие этого, его больше всего мучило одиночество.
– Кто же по мне заплачет? – уезжая в Польшу, с горькой улыбкой говорил он Кольцову. – Разве ты вздохнешь…
4Приехав из Одессы, Кареев стал часто захаживать к Кольцову. Та перемена, которая произошла в нем за эти несколько месяцев, не могла скрыться от Алексея, и он радовался свежему и бодрому виду своего друга.
– Тебя точно подменили в Одессе. Экой ты молодец стал!
– Да, может, и вправду подменили? – шутил Кареев. – Ну, брат, – обнимая Кольцова, таинственно понижал голос. – Каких людей я повидал, каких речей понаслушался!
И, не договаривая, переводил на другое.
Кольцову любопытна была эта таинственность, да Кареев умолкал, не досказывая, а Кольцову казалось неловко допытываться. Но то, что у Кареева появилась какая-то тайна, которую он не желал или не мог ему поверить, было хоть и неприятно, но очевидно.
Кольцов по-прежнему, что ни писал, показывал Карееву, и тот не уставал восхищаться его стихами, восхищаться слепо, не находя слабых мест, какие нередко портили все стихотворение и на какие прежде ему указывал Сребрянский, а теперь очень часто и верно – Анисья.
Ее суждения удивляли Кареева, и он, раньше почти не замечавший Анисочку, стал с интересом к ней приглядываться. Все ему нравилось в ней: и звонкий веселый смех, и порывистость движений, когда от резкого поворота вихрем летит русая коса, и влажный блеск синих глаз, а главное – ее естественность и умная простота.
Втроем они собирались в кольцовской каморке и читали или спорили о прочитанном. Кареев умел очень смешно рассказывать в лицах, и так все было похоже на тех, о ком шла речь, что Анисья смеялась до слез и ни слова не могла произнести, а только охала.
Они часто пели. Ни Кольцов с сестрой, ни Кареев не сговаривались заранее, песня приходила сама собой. Это случалось в сумерки.
Всегда разговорчивый Кареев, задумчиво пощипывая тоненький ус, молчал. Кольцов брал гитару и начинал лениво перебирать струны, наигрывая что-то печальное и медленное. При первых же звуках гитары у Анисьи сжималось сердце. Она тихонько, словно издалека, заводила песню. Обычно это была какая-нибудь всем известная старая песня или романс, и тогда, постепенно присоединяясь к Анисье, пели все втроем. Но иногда она брала гитару и придумывала что-то свое и без слов, одним голосом, вела незнакомую мелодию. Так вдруг однажды, сама не зная, как это у нее получилось, пропела кольцовские стихи:
Погубили меня
Твои черны глаза,
В них огонь неземной
Ярче солнца горит!
И потом не раз придумывала мелодии для стихов Кольцова. Эти песни могли бы долго жить, да записать их было некому, и они все со временем позабылись.
– Ах, Анисья Васильевна! – восторгался Кареев. – Что бы вам на фортепьянах!
– Ишь ты, чему ее научаешь! – смеялся Кольцов. – А батенька говорит: это, мол, все Алешкины выдумки!
5Начались святки. Все ходили по гостям или принимали у себя, много ели, еще больше пили, дым стоял коромыслом.
По Дворянской улице катались в ковровых санях богатые купцы. Толстощекие купчихи в цветных шалях и лисьих ротондах копнами сидели с благоверными и только повизгивали на раскатах.
В театре шла старая комедия воронежского сочинителя Андрея Элина «И ошибка кстати». На круглых тумбах и на заборах пестрели нарядные афишки о представлении.
Кареев купил ложу и пришел звать Кольцова с Анисьей. Она побледнела от счастья. Сияющими благодарными глазами глянула на Кареева:
– Ах, какой вы…
– Боюсь, батенька не пустит, – кивнул Кольцов на сестру. – У нас насчет этого строго.
Действительно, Василий Петрович, когда Анисья заикнулась о театре, отказал наотрез и даже пригрозил плеткой.
– Да что ж, батенька, – обиженно протянула Анисья, – вон, все ходят. И Клочковы девки ходили намедни, и Мелентьевы… А у нас как в монастыре! Подумают, что у нас и достатков нету в театр сходить…
Семейство Клочковых считалось по Воронежу самым богатым и уважаемым. Василию Петровичу страшнее всего было то, что кто-нибудь скажет, будто у них, у Кольцовых, нет достатка. Он еще немного поломался для виду и разрешил Анисье идти в театр. А когда узнал, что она будет в ложе (ему объяснили, что это такое), особо от прочей публики, и что ее кавалером пойдет Кареев, и, особенно, когда Кареев зашел перед театром и поразил всех блеском парадного мундира, малиновым звоном серебряных шпор, бобровым воротником шинели и ослепительно белыми перчатками, – старик даже размяк.
– Ну, до этакого-то, брат, и Клочковы девки навряд дотягивали… Вот те и Кольцовы! – И он показал воображаемым клочковским девкам кукиш.
6Кольцов хаживал в театр и прежде. Еще, бывало, со Сребрянским и семинаристами забирались они на галерею и наслаждались театральной неправдой, – яркими платьями, сатанинскими страстями, музыкой, причудливыми декорациями, и Феничка, покрывая шум и аплодисменты, кричал на удивление публики «браво!», и все в партере задирали голову кверху, чтобы разглядеть, кто это там кричит таким оглушительным басом.
Анисью театр ошеломил. Она раскраснелась и была необыкновенно хороша в своем простеньком, не купеческом, голубом платье, с высокой, по тогдашней моде, талией. Впервые уложила она свою прекрасную русую косу в прическу, и Кареев и даже Алексей с изумлением увидели ее красоту не такой, какой они привыкли видеть, а «совершенно иную – гордую и уверенную, не знающую себе равной.
– Королева! – шепнул Кареев.
Они уселись, прислушиваясь к тому неопределенному, но всегда волнующему гулу голосов и настраиваемых инструментов, который предшествует поднятию занавеса.
Служители потушили свет, в зале стало темно, и только ряд свечей, скрытых рампой, освещал низ бархатного, разрисованного купидонами занавеса.
Оркестр – несколько скрипок, контрабас и арфа – заиграл что-то веселое, купидоны поплыли вверх, и начался спектакль.
Комедия и актеры были плохи, и Кареев, который не раз уже видел эту пьесу, наверное, скоро заскучал бы. Но он сидел, отвернувшись от сцены, где прыгали и кланялись какие-то франты в буклях и в чулках, и смотрел на Анисью. Ей, впервые попавшей в театр, все было интересно и удивительно. Она смеялась, хлопала в ладоши и радостными, жадными глазами глядела на пеструю толчею поющих и пляшущих актеров.
Один раз, забывшись, и, видно, желая обратить внимание Кареева на сцену, она положила руку на обшлаг его мундира. Кареев вздрогнул и невольно наклонился к ней.
– Как хорошо! – шепнула Анисья и снова, как давеча, благодарно и ласково поглядела на него и улыбнулась.
«Боже мой! – подумал Кареев. – Какая прелесть!»








