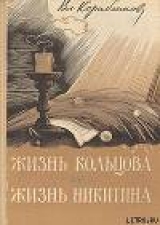
Текст книги "Жизнь Кольцова"
Автор книги: Владимир Кораблинов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
Дела дома были плохи.
Василий Петрович понес крупные убытки на продаже свиней и говяжьего сала и, едва выручив половину затраченных денег, залез в долги. Кредиторы, почуяв, что дела Кольцовых пошатнулись, предъявили векселя. Всего набиралось тысяч до двадцати, и уплатить в срок не было возможности.
Старик молчал, и сын молчал. Алексей еще по приезде из Питера отговаривал отца от свиней и сала, да старик сказал: «Не дурей тебя, сами с усами», И Кольцов больше не вмешивался. Теперь, когда все пришло к такому плачевному концу, старик ничего не говорил сыну из гордости; Кольцов же не спрашивал и делал вид, что ничего не знает, хотя состояние отцовских дел было отлично ему известно.
Пришел декабрь, а снегу все не было. С утра поливал дождь. Серый и спорый, он мерно стучал в окошко, и жалобные холодные слезы текли по запотевшему стеклу.
Алексей сидел в своей каморке и переписывал набело собранные им за лето песни. Вошел Василий Петрович и, сказав: «Ну, анафемскую погодку господь послал!» – уселся на топчан.
– Все пишешь? – спросил, помолчав.
– Как видите, – улыбнулся Кольцов.
– Писать – не пахать, – скучно рассудил старик. – Но, конечно, с писанья-то и ноги за все просто можно протянуть. Хотя я ничего… не в осуждение.
Кольцов промолчал. Он видел, что отец пришел неспроста и что сейчас, покашляв и поворчав, начнет говорить про дело. Так оно и вышло.
– О-хо-хо! – зевнул Василий Петрович и перекрестил рот. – Врезались мы с тобой, сокол, со свиньями-то…
– Да ведь я говорил… – начал было Алексей.
– «Говорил, говорил»! – сердито передразнил отец. – Заладила сорока про Якова… Говорил, не говорил, а, почитай, двадцать тыщ убытков-то. Чуешь?
– Барыш с убытком на одном полозу едут, – усмехнулся Алексей.
– Все так, все знаю. Однако тут, брат, тюрьмой запахло… На старости лет оно будто и зазорно. Да ты что ж молчишь-то! – вскипел старик. – Сочувствия в тебе не вижу!
– А что ж мне сочувствовать? – удивился Кольцов. – Кабы сделали по-моему, все бы хорошо было.
– Конешно! – язвительно ухмыльнулся Василий Петрович. – Вы народ письменный, ума палата, где ж нам, дуракам серым, с вами шти хлебать! А кто наживал все? А? Кто, я тебя спрашиваю!
– Батенька! – резко сказал Кольцов. – Если вы ругаться со мной пришли, так это напрасно. Я вам сейчас и слова не скажу.
– Вы теперича, конешно, – не слушая его, продолжал старик, – вы, конешно, там с князьями да господами – ла-ла-ла! А опять-таки через кого ты дошел? Чей хлеб ел? Чьи по ночам свечки жег? Оно, не спорю, пустяк, свечка-то, да все денег стоит… Нет, ты погоди! – стукнул костылем. – Погоди, дай скажу… Я не ругаться, сокол, я за советом пришел. А ты мне: «Говорил, говорил!»
– Да что же я присоветую? Тут один совет: платить надо!
– Вот и да-то! – оживился отец. – Об том и речь… Я, брат, что надумал: ты с завтрашнего дня хозяйствуй…
Понизив голос, Василий Петрович воровато огляделся: не услыхал бы, дескать, кто.
– Ты с завтрашнего дня, стало быть, по всем статьям хозяйствуй… А я… я, брат, лучше уеду куда-нито. К тебе сунутся – ты не ответчик. Спросят – где отец? Знать не знаю! А я в Землянск на время подамся… Расчухал ай нет?
– Да как же… – растерялся Алексей, но Василий Петрович не дал ему договорить.
– Не выдай, сынок… тюрьма ить! – прохрипел он и, жалко сгорбясь, трудно волоча ноги, вышел.
Поздним вечером этого же дня из Воронежа через Девицкий выезд в проливной дождь, увязая в грязи по самые ступицы, запряженная шелудивой клячей, выехала убогая тележка. Накрытый с головою заскорузлым веретьем, похожий на большую нахохлившуюся ворону, в ней сидел одинокий путник.
Лошадь тащилась шагом, телега скрипела, побрякивало привязанное к грядушке ведро. Человек кряхтел и мотался на выбоинах дороги, зло хлестал лошадь и вполголоса материл весь мир.
Это Василий Петрович убегал из Воронежа от долговой тюрьмы.
8Кольцов начал хозяйничать.
Купцы, каким был должен отец, подивились хитрости старика, посмеялись и, неделю-другую походив к Алексею, отстали.
– Хитёр старый пес! – восхищенно отозвался один, какой имел самые крупные векселя. – Сам пропал, а с малого что спросишь?
– Придется, видно, подождать, – покачал головой другой.
– Найдем, парень! – весело пообещал третий. – Никуда не денется!
Наконец выпал снег, затрещали морозы, стал санный путь. Кольцов ездил по базарам то в Усмань, то в Нижнедевицк, то в Задонск, торговал лесом, расширил мясную лавку, ловко продал бутурлиновским чеботарям кожу и, призаняв у Башкирцева три тысячи, к масленой расплатился с кредиторами.
На первой неделе великого поста появился отец. Он надел новый суконный тулуп, новую шапку, подпоясался цветным кушаком и в первое же воскресенье важно прошелся по торговым рядам. Купцы с веселой усмешкой встречали его. «А, пропащий!» – хлопали по плечу и как ни в чем не бывало звали на пару чая.
– Ты, Петрович, одначе шустёр! – потешались купцы. – Эка что удумал: пропасть!.. Ну, скажи спасибо, сынок у тебя башковит – все выправил, а не то, брат, не миновать бы тебе долговой ямы!
Василий Петрович посмеивался, чаевничал и говорил благодушно:
– Бога гневить не стану: малый у меня вострый!
9Поздно ночью Алексей сидел в своей каморке и переписывал в тетрадь пословицы и поговорки. Тетрадь он разделил от «А» до «Я», – на какую букву начиналась пословица, на ту и записывалась в тетрадь.
Сам того не замечая, тихонько, по складам, вслед за написанными словами шептал:
– А-та-льют-ся вол-ку ко-ро-вьи слез-ки…
Свеча моргнула и затрещала. Он отложил в сторону перо и снял нагар. Работа шла к концу. Все, что удалось собрать летом, было записано в чистые тетради. Оставались одни пословицы, но сегодня он кончит и их. Завтра будет почта. Веселые резвые тройки с хмельными, отчаянными ямщиками повезут кольцовские тетрадки в Петербург; Пушкин разорвет пакет и улыбнется. «Ай да Алеша!» – похвалит.
Кольцов прислушался. В сонной тишине двора за окном, опушенным голубоватым инеем, под чьими-то шагами захрустел снег, злобно залаял цепной кобель Мартынко.
«Кому бы это быть?» – в недоумении соображал Кольцов.
Весь облепленный снегом, вошел Кареев.
– Здравствуй, Алеша! – простуженным голосом сказал. – Ты извини, милый, что я этак – в полночь… Прямо с дороги.
Он вытер мокрое от снега лицо.
– Пушкина убили, – тихо произнес Кареев, глядя на вздрагивающее пламя свечи.
Кольцов вскочил. Тетради упали на пол.
– Да как же? Саша!
– Оскорбленная честь… Дуэль.
– Страшную ты весть привез, Саша! – Кольцов опустился на стул, закрыл руками лицо. – Пушкин помер… Боже мой!
– Все говорят, – глядя куда-то в сторону, медленно заговорил Кареев, – все говорят, что его Дантес какой-то застрелил… Вздор, не в Дантесе дело… Дантесов лишь пистолет был. А убил нашего Пушкина – знаешь кто? Царь! Царь убил! На другой же день после убийства по всему Петербургу полетели листочки со стихами… Нет, ты послушай! Это поручик один сочинил…
Погиб поэт! Невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести.
Поникнув гордой головой!..
Кареев вынул из кармана вчетверо сложенный лист.
Убит!.. К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья:
Судьбы свершился приговор!
Его убийца хладнокровно
Навел удар… спасенья нет…
И когда Кареев произнес слова «его убийца», Кольцов вздрогнул: ему ясно представилось, какими пустыми стеклянными глазами поглядел на него царь, когда Жуковский представлял его..
… Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет!
– Саша, – хрипло произнес Кольцов. – Я, вот как тебя, видел царя. В нем жалости ни к кому нет. Это верно: он Пушкина убил!
10А в Воронеже все шло своим чередом: на медленный скучный звон брели чиновники говеть в Смоленский собор; бакалейщики сбывали к постному столу обывателя залежавшуюся соленую рыбу «с душком».
Однажды учитель латинского языка Иван Семенович Дацков заметил, что гимназист Нелидов, вместо того чтобы слушать объяснение нового правила, читал какую-то бумажку. Иван Семеныч подкрался к увлекшемуся гимназисту и ловко выхватил у него из рук небольшой, мелко исписанный листок серой бумаги.
– Без обеда-с, господин Нелидов! – прошипел Иван Семеныч. – Три дня без обеда-с! – и положил бумажку в задний карман мундира.
В учительской он вспомнил про легкомысленный поступок Нелидова, достал из кармана бумажку и стал читать:
Погиб поэт! Невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой…
Иван Семеныч быстро пробежал глазами стихотворение и ужаснулся: потрясались основы самодержавия!
– Прекрасно-с, господин Нелидов! – с негодованием прошептал Иван Семеныч. – Отлично-с!
Он приказал позвать провинившегося гимназиста и учинил ему допрос. Нелидов сперва отпирался, но когда Иван Семеныч намекнул на полицию, оробел и сказал, что стишок этот списал у гимназиста Ключарева. Ключарев выказал себя дерзко и, поглядев с презрением на Нелидова, отперся решительно.
Тогда Иван Семеныч доложил о происшествии директору и показал ему кляузный стишок.
В этот же день классные надзиратели произвели обыск в ранцах гимназистов и нашли еще восемнадцать списков лермонтовского стихотворения.
Все найденные списки были представлены господину начальнику губернии, и тот приказал немедленно приступить к дознанию. Вскоре выяснилось, что подобные списки злокозненных стихов ходили не только в гимназии. Они таились всюду: в казармах драгунского полка, в семинарии, в столах молодых, известных, впрочем, своим образом мыслей чиновников. Даже отец ректор, возвратясь однажды из семинарии домой, нашел в кармане рясы целых четыре списка. Все эти листочки, из которых добрая половина была написана одним и тем же почерком, препровождались из разных мест в губернское жандармское управление, где их в короткий срок набралась претолстая папка, на крышке которой отличной писарской каллиграфией было выведено:
ДЕЛО
о злокозненных стихах некоего поручика Лермонтова и об дерзком распространении оных в городе Воронеже
Дацков был обласкан начальством и получил наградные суммы, а гимназиста Ключарева за дерзость исключили из гимназии без права поступления в другое учебное заведение.
11Смерть Пушкина была для него личным горем. Молчаливый и прежде, он стал еще молчаливее. Написал в книжную лавку Смирдина письмецо с вложением, не прося, а почти умоляя выслать ему самый последний портрет Пушкина.
Через месяц из Петербурга пришел пакет. Дрожащими руками он разорвал бумагу и – обомлел: Пушкин, похожий и в то же время непохожий, с непривычно приглаженными кудрями, лежал в гробу. Это была литография, сделанная тотчас же после смерти Пушкина.
У Кольцова дрогнули губы. «Друг! Друг!» – прошептал он. И что бы ни делал, мысли возвращались к одному: к Пушкину. До мельчайших подробностей вспоминал о встречах с ним. «Столько ласки, столько привета он дал мне! Ведь он Алешей меня, как брат, называл…»
Какая-то еще неясная, печальная, но грозная песня звенела в ушах Кольцова. Возникали смутные образы; они проносились в воображении то как мрачные тени, то как ослепительные зарницы. Несколько дней томила его эта еще не сложенная песня. Он измучился, пытаясь уловить ее. Дома он сказался больным и никуда не выходил из своего кильдима. Беспокойство, тревога, ощущение таинственных шумов, какие всегда предшествовали рождению стиха, овладели им. Наконец блеснул образ: могучий дубовый лес, зеленые богатырские кроны, в которых жило и пело множество птиц, горделивые, кое-где пронзенные солнечными стрелами шапки изумрудной листвы… Слово – живое слово! – вдруг прозвучало в тишине. Это было то самое точное и нужное слово, которое пришло, преодолев все неясные шумы.
Тревога исчезла, и первые строчки послушно легли на бумагу.
12Поздно ночью он писал Краевскому. Стихи были готовы, он хотел послать их в Питер, да в одном месте показались неверными две строчки; поправить сразу не сумел и решил пока не посылать.
«… Как закончу пьеску „Лес“, – писал Краевскому, – так и вышлю, и если она покажется, то печатайте ее с посвящением Александру Сергеичу Пушкину…»
Неожиданный осторожный стук в дверь прервал писание Кольцова. На пороге стоял Кашкин в черном плаще с глубоко надвинутым на глаза капюшоном. Он был бледен и, очевидно, чем-то встревожен.
– Вчера ночью, – едва шевеля губами, сказал он, – вчера ночью жандармы взяли Кареева…
– Как?! – вскрикнул Кольцов. – Сашу взяли? Да за что же?
– Тише… – Кашкин приложил палец к губам. – Значит, за дело, коли взяли. И я зашел сказать тебе, что ежели есть в твоих бумагах письма кареевские или – чего боже упаси! – его рукой переписанные лермонтовские стихи, так сожги немедля!
– Сжечь?! – Кольцов сперва не понял, что такое говорит ему Кашкин. – Письма друга сжечь? Да я самым последним подлецом почитал бы себя, коли б сжег! А вы-то, Дмитрий Антоныч… вы-то? Ведь и вас связывала с ним дружба! Как же вы можете так говорить?
– Да вот так-с! – криво улыбнулся Кашкин. – Государственным преступникам я не друг-с! И прошу позабыть про встречи наши… Мало ли кто у меня в лавке ни бывал…
– – Да нет, что я, сплю, что ли? – Кольцов сжал кулаками голову. – Сашу взяли… а вы отрекаетесь? Да не вы ли показывали нам Рылеева стихи? Не вы ли о вольности, о чувствах высоких с нами толковали? Ведь помню же я!
– Ничего-с! – берясь за ручку двери, сухо произнес Кашкин. – Ничего я вам не показывал и ни о чем не толковал-с. А ежели вы уж так памятливы, то мой вам совет: постарайтесь забыть… Прощайте-с!
Кольцов бросился к двери. Он хотел окликнуть Кашкина, что-то сказать, но махнул рукой и остановился.
– Так вон ты какой! – устало опускаясь на стул, с горечью и гневом воскликнул Кольцов.
Глава восьмая
Серые тучи по небу бегут,
Мрачные думы душу гнетут!
Тучи промчатся, солнце блеснет,
Горе не вечно, радость придет.
Н. Станкевич
1
Летом 1837 года Воронеж вдруг начали белить, красить, подметать и всячески прихорашивать. Чинили горбатые тротуары, мыли стекла, золотили орлы на кирпичных столбах заставы, обрезали и подчищали деревья.
6 июля на всех воротах, балконах и даже уличных фонарях были развешаны российские государственные флаги.
Множество конных и пеших жандармов с султанами, в парадных мундирах скакало, ходило, кричало и «осаживало назад» любопытствующих горожан.
Звонари и махальщики сидели на колокольнях Смоленского собора и Митрофановского монастыря. Звонари расправляли веревочные путли малых трезвонных колокольцев и всматривались вдаль – по направлению к Московской заставе. Мальчишки, споря с грачами и галками, облепили деревья.
Наконец утром 7 июля, стоя в коляске, по Большой Московской улице промчался полицмейстер. За ним, один за другим, на тяжелых, ёкающих селезенкой лошадях проскакали три жандарма. У заставы поднялось облачко пыли. На колокольнях грянули с перебоями во все колокола.
В город въехали кареты и коляски великого князя Александра Николаевича и сопровождающих его лиц. В карете, запряженной белой шестерней, с вензелями «А» и золотыми орлами на дверцах сидели царевич Александр и Жуковский. Наследник был утомлен. В этой длинной поездке по России оказалось больше неудобств, чем радости созерцания обширных пространств отечества. Вялый, бледный, начинающий полнеть двадцатилетний царевич с откровенной скукой и безразличием поглядывал из окошка кареты на умытые и прибранные воронежские улицы. По обеим сторонам дороги стояли воронежцы и кричали «ура». Александр нехотя прикладывал два пальца к белой офицерской фуражке.
– Город Воронеж, ваше высочество, – Жуковский, сделал плавный, округлый жест, – представляет собой интерес как один из крупнейших центров хлебной торговли в нашем отечестве…
Александр кивнул.
– В историческом отношении, – продолжал Жуковский, – город Воронеж известен как колыбель славного флота российского…
– Да, да, – рассеянно отозвался Александр.
– Кроме того, ваше высочество, здесь расквартирован сто двадцать восьмой драгунский полк.
– А! Это интересно, – сказал царевич.
– И наконец, – поклонился Жуковский, – здесь живет замечательный певец русский, стихотворец Алексей Кольцов.
– Кольцов? – наморщил лоб Александр. – Не слышал.
– Я имел честь, – снова поклонился Жуковский, – в прошлом году представлять Кольцова его величеству…
– А! – Цесаревич выпятил грудь, надул щеки и вдруг неожиданно стал похож на отца.
2Арест Кареева и ночной разговор с Кашкиным не выходили из головы. Трудно было представить, что веселый, живой Кареев сидит сейчас в темной и тесной камере старого тюремного замка или, ухватясь руками за толстую ржавую решетку крохотного оконца, смотрит в заречную даль. По реке снуют лодки, проплывают плоты, плотовщики вечерами поют печальные протяжные песни… «Слу-ша-ай!» – кричат ночью тюремные часовые. Эх, Саша… Как прав, как тысячу раз прав был ты, давно переставший верить болтовне Кашкина! Время и дела показали, что такое Дмитрий Антоныч, чего стоят его разглагольствования о вольности и правах человека!
Алексей вспомнил, как пятнадцатилетним мальчиком впервые робко зашел в лавку Кашкина, как, замирая от восторга, перелистывал новенькие, еще пахнущие типографской краской книги Пушкина, Жуковского… С какой отеческой теплотой приласкал его Дмитрий Антоныч…
Когда же это было?
Долгие зимние вечера, когда при ровном, ясном свете дорогих стеариновых свечей сиживали они – Кольцов, Кареев, Сребрянский – в уютном, чистеньком кабинете Кашкина; когда, точно кровавое пламя, полные гнева, вспыхивали Сашины речи; когда Сребрянский зло и едко высмеивал семинарских профессоров, осуждал семинарские порядки.
Когда, наконец, и сам он, Кольцов, больше всех их знавший о жизни крестьянского народа, с болью и горечью рассказывал о каторжной доле замордованного русского мужика, о том, как даже в горе и непосильной работе, но непокоренный духом, велик он, мужик этот русский!
Да и было ли все это?
Так неужто ж Кашкин всю жизнь свою краснобайствовал для того лишь, чтобы вот сейчас сказать, что все это он врал? Да и не ему только, Алексею, а всем, всем врал!
Тяжело переживалась горечь утраты любимого друга, но едва ли не тяжелей было неожиданное предательство человека, на которого с юных лет привык смотреть как на учителя и наставника, глашатая всего высокого и благородного.
У него появилась привычка шагать по темной комнате из угла в угол. Однажды, когда он этак расхаживал, не находя себе покоя, к нему пришла Анисья. Со времени ареста Кареева, когда, обняв брата, проплакала целый вечер, она не заходила к нему.
– Алеша, я у тебя посижу, – сказала Анисья, взяла гитару и стала перебирать струны. Она трогала струну и прислушивалась к долгому звенящему звуку. Иной раз пальцы брали аккорд… Вдруг неожиданно прозвучала мелодия сочиненного ею романса «Погубили меня твои черны глаза». Этот романс они часто пели вдвоем с Кареевым. Анисья бросила гитару, уткнулась лицом в подушку и зарыдала.
– Да что же это, Алеша!
Кольцов давно догадался, что Анисья и Кареев полюбили друг друга, и радовался этой любви. Он понимал горе сестры, оно соединялось с его собственным горем. Слова утешения не шли на ум, да и что можно было сказать?
– Нет, ты подумай, – она подняла заплаканное лицо, – ведь этак, как мы живем, можно ли так жить? Болото стоячее!
Слез уже не было. Сухие глаза горели страданьем, и страшная внутренняя боль чувствовалась в них.
– Сестры потонули в болоте, и мы с тобой потонем… Да нет, ты не потонешь, ты вырвешься, а я… Алеша, Алеша! Я ночей не спала, только о том и думала, что вытащит меня Александр Николаич из этой топи гнилой. А он… – Анисья снова заплакала. – Ну что мне теперь делать? Я знаю, его сошлют, да ведь не княгиня же я Трубецкая, чтобы за ним в Сибирь ехать!
После этого вечера он долго не видел Анисью: рано утром на следующий день с нянькой Мироновной она ушла на богомолье.
Страшное чувство одиночества навалилось на Кольцова. Одно, что было ему радостью и утешением, – это хорошие, сердечные письма его московских и петербургских друзей, и особенно Белинского. Однако письма приходили не часто, друзья далеко, а рядом изо дня в день существовали ленивые, грязные, злые люди.
После отцовского вранья о «монаршей милости» воронежцы, то есть знакомые Кольцовым торгаши, мещане и чиновники, думали, что Алексею – раз уж он почтен этой монаршей милостью – выйдут чины, ордена и, может быть, даже земли. Прошел год, а чинов и поместий Кольцовым не давали. Соседи стали пошучивать, и не раз слышал Алексей за спиной ехидный, словно выплюнутый смешок: «Сочинитель!..»
Поэтому, когда вскоре после приезда в Воронеж цесаревича во двор кольцовского дома вошел одетый в полную парадную форму жандарм, соседи ухмыльнулись, подмигнули друг другу значительно и со злорадством зашушукались:
– Допрыгался сочинитель!








