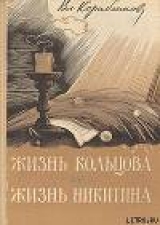
Текст книги "Жизнь Кольцова"
Автор книги: Владимир Кораблинов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
Обед был чудовищным. Аршинные кулебяки и пирожки, соления, маринады, жаркое из дичи и, наконец, всевозможные варенья, моченые и засахаренные яблоки, вишни в меду, сиропы, морсы…
– Да нет, что вы, тетушка! – говорил Станкевич, стоя вечером в дверях своей комнаты со свечой в руке. – Как же можно еще и ужинать! Да я за обедом съел столько, что в Москве и за неделю, кажется, не едал…
– Ну, Христос с тобой, Николенька, – перекрестила его тетка. – Когда раздеваться станешь, позвони Ивану. Да гляди, – добавила, уходя, – очень-то не зачитывайся, головка не заболела бы.
Станкевич остался один. Поставив свечу на столик возле дивана, он сел в кресло, взял книгу и, полистав ее, бросил.
– Хорошо! – вздохнул. – Чудесно!
Он подошел к окну и распахнул его. Комната наполнилась лунным светом. Сад чернел дремучим лесом. Соловей под самым окном то рассыпал круглые, как горошины, щелчки, то вдруг, нанизывая их, как бусы на нитку, свистел. Между деревьями поблескивал пруд.
– Чудесно! – повторил Станкевич. – Только очень уж, кажется, умиротворенно… Прекраснодушно, – засмеялся, словно вспомнил о чем-то, и дернул шнурок звонка.
«Позвони Ивану!» – пришли на память давешние тетушкины наставления. А если Ивану не до звонков?
– Ива-а-н! – крикнул в окно, снова подергал звонок. Махнул рукой, скинул сюртук и стал раздеваться.
4На огромном, поросшем травою дворе, возле людской, на бревнах и на траве сидели и лежали дворовые и погонщики. Они только что поужинали. В открытое окно виднелась стряпуха, с грохотом моющая посуду. Кое-кто курил, красные огоньки трубок тлели в полутьме.
Кольцов сидел на бревенчатом срубе колодца, глядел на лунные пятнышки в траве, и ему было хорошо и хотелось петь. Слышно было, как в глубине сада друг перед дружкой, старались соловьи.
– А что, дядя Иван, – спросил мальчик-казачок, – правду говорят, ежели соловья в клетку засадить, так он и петь перестанет?
– Брехня! – отозвался Иван. – Вон у нас в Москве, в Тестовом трактире, их, брат, страсть сколько.
– И поют? – полюбопытствовал кучер.
– Не то поют – ревмя ревут. Господа кушают, а они, стал быть, для аппетиту… Страсть!
– Да, – разжигая трубку, глубокомысленно сказал кучер. – Соловей – это дивствительно господская птица.
Кольцов обхватил руками колени и стал сначала вполголоса, а затем все громче напевать:
Ты не пой, соловей,
Под моим окном;
Улети ты в леса
Моей родины…
Полюби ты окно
Души-девицы,
Прощебечь нежно ей
Про мою тоску…
Разговоры смолкли. Люди придвинулись ближе к Кольцову. Кухарка перестала греметь посудой и, опершись на круглые локти, высунулась в окошко.
Ты скажи, как без ней, —
продолжал Кольцов, —
Сохну, вяну я,
Что трава на степи
Перед осенью,
Без нее ночью мне
Месяц сумрачен;
Среди дня без огня
Ходит солнышко.
Без нее кто меня
Примет ласково?
На чью грудь Отдохнуть
Склоню голову?
Что ж поешь, соловей,
Под моим окном?
Улетай, улетай
К душе-девице!
– Ах ты! – растроганно крякнул Иван. – Вот это, братцы, песенка! Э, малой! – позвал он Кольцова. – А ну, давай еще какую!
– А что, понравилось? – смущенно и обрадованно взглянул Кольцов.
– Это тебе, Иван Афанасьич, не Тестов трактир, – подзадорил кучер. – Наш, брат, соловей – воронежский.
Люди добрые, скажите, —
начал Кольцов, и снова все умолкли, слушая. —
Люди добрые, не скройте;
Где мой милый? Вы молчите!
Злую ль тайну вы храните?
За далекими ль горами
Он живет один тоскуя?
За степями ль, за морями
Счастлив с новыми друзьями?
Кухарка запечалилась, рушником утерла слезу.
– Про Микиту про свово вспомнила, – шепнул Ивану кучер. – Великим постом в солдаты забрили… Жалкует бабочка.
– И-ва-ан! – закричали с крыльца господского дома.
– Тьфу ты, пропасти на вас нету! – с досадой плюнул Иван и, затоптав цигарку, побежал к дому.
5Станкевич, уже в халате, лежал на диване и читал, когда в дверь просунулась стриженная под горшок, с лицом, заросшим щетиной, голова Ивана.
– Кликали, Миколай Владимирыч?
– А? Что? – рассеянно спросил Станкевич. – Да, да, братец, где это ты изволил пропадать?
– Дак, Миколай Владимирыч! – протиснулся в дверь Иван. – Там на дворе один малый все такие нам песни читал – ну, прямо отстать невозможно!
– Песни? Какие песни? Какой малый?
– Да шут его знает, какой-то из погонщиков, что ли. Вот она все в голове вертится… ага! Ты, грит, не пой соловей, под моим окном, улети ты, грит, в леса, на мою родину…
– Как? Как? – спуская с дивана ноги, живо спросил Станкевич. – Ты не пой, соловей?
– Дак это что! Он и еще другие пел…
– Зови его сюда! – встрепенулся Станкевич. – Постой, постой! – остановил рванувшегося к дверям Ивана. – Скажи: барин, мол, очень просит не отказать…
– Сей момент! – подмигнул Иван, исчезая за дверью.
6Через минуту в коридоре послышались шаги и голос Ивана.
– Иди, иди, – бубнил он Кольцову. – Иди, не бойсь, барин хороший… Вот-с! – отрекомендовал, появляясь в дверях. – Энтот самый!
Кольцов поклонился.
– Прошу сюда, – пригласил Станкевич, указывая на кресло. – Это ничего, что я вас позвал?
– Ничего-с, – кашлянул в руку Кольцов.
– Ведь это я вас давеча видел? – напомнил Станкевич. – Я ехал, а вы с кабаном сражались…
– Всю дорогу мучились, верно. Такой нравный попался!
– Да садитесь же, прошу вас!
– Ничего, – поклонился Кольцов. – Постою.
Станкевич взял его под руку и, подведя к креслу, усадил и сам сел на диван.
– Мне совестно, что я вас так бесцеремонно… Только мне очень хотелось послушать ваши песни.
– Извольте-с, – согласился Кольцов. – Очень уж ночь хороша, петь хочется.
Он заметил удивленно, что ему тут хорошо, легко, что незнакомый молодой барин не смущает его, как обычно смущали другие образованные господа. И он стал читать. Сами стихи и его манера чтения поразили Станкевича. Он слушал не перебивая, точно боясь неосторожным словом спугнуть певца.
Кольцов прочел ему «Путника». «Соловья», «Терем» и, наконец, последнее, что сочинил, – «Повесть моей любви».
Скучно и нерадостно
Я провел век юности
В суетных занятиях,
Не видал я красных дней,
Жил в степи с коровами.
Грусть в лугах разгуливал,
По полям с лошадкою
Один горе мыкивал…
Весь подавшись вперед, Станкевич глядел на Кольцова, как на чудо, а тот все пел, пел и, казалось, не видел ни Станкевича, ни богато убранной комнаты – ничего: одна степь струилась перед глазами, ветер посвистывал в ушах да серебряные волны ковыля плыли и плыли вдаль, уходя к горизонту…
– Но где же все это записано? – изумленно спросил Станкевич. – Где тетради, бумаги ваши? Дома, конечно?
– Тетрадки мои со мной, в седельной сумке.
– Как? Вы их с собой возите?
– А как же, – просто ответил Кольцов. – Маранье мое – радость моя единственная, а дома, глядишь, их еще на обертку пустят…
7Рано утром, оставив возле свиней двух погонщиков, Кольцов поехал ко двору.
Снова раскаленное, в красноватом тумане, вставало солнце засушливого лета. Весь май дули суховеи, по дорогам клубилась пыль, сквозь которую солнце светило мутно и безрадостно. Несчастная земля, так и не отдохнувшая за короткую ночь, вся в скорбных морщинах глубоких трещин, просила дождя. Мужики ходили с попами по чахлым полям, служили молебны, а дождя все не было.
Кольцов так и не спал нынче, просидев до рассвета у Станкевича, читая и рассказывая ему о себе. Вся минувшая ночь, полная лунного света и соловьиных песен, народ возле людской, плачущая стряпуха, кабинет молодого барина, сад за окошком и, наконец, сам Станкевич – нежный и порывистый, его тихий ласковый голос, – все казалось сейчас улетевшим сном, видением.
Кольцов подъезжал к большому селу Костёнки. Несмотря на ранний час, в церкви звонили по покойнику. По пыльной дороге медленно двигалось похоронное шествие. Мужики без шапок, в новых поддевках и лаптях несли три гроба. Вопли и причитанья, словно ножом, полосовали печальную тишину разгорающегося утра.
Кольцов снял картуз и, хлестнув лошадь, вскачь помчался вперед, оставляя за собой густое, неподвижное облако пыли.
До самого Воронежа его сопровождал похоронный звон. Холера выкашивала деревни начисто. Смерть рядом с засухой шагала по выгоревшим полям.
Возле почтовой станции Кольцов спрыгнул с седла, привязал Лыску к полосатому столбу и зашел в станционную избу спросить чаю. Рот был полон пыли, в горле пересохло так, что становилось трудно дышать. В избе от множества мух стоял гул, как на пчельнике. За столом сидел крепкий, коренастый, с кирпичным от загара лицом человек в очках и белом халате. Перед ним стояли самовар и бутылка рому.
Кольцов спросил чаю. Смотритель поплелся было за перегородку, да вернулся и, шепнув: «Сейчас, погодите!» – подошел к человеку в халате.
– Иван Андреич, – почтительно обратился к нему, – вон проезжий чаю спрашивает, – может, дозволите из вашего самовара стаканчик?
– Помилуйте! – смутился Кольцов. – К чему же беспокоить? Я бы и сырой водички выпил.
– Какая там сырая водичка! – Иван Андреич строго поглядел поверх очков. – Тут на троих самовара хватит… Милости прошу!
Кольцов поклонился и назвал себя.
– Это какие же Кольцовы? Прасолы, что ли?
– Так точно-с.
– Знаю, слыхал, – зевнул Иван Андреич. – Извините, три ночи не спал. Я лекарь Малышев, честь имею представиться. По четырем уездам мотаюсь, да что, – толку мало: мрут да и только…
– Страшное бедствие, – вздохнул Кольцов.
– Какое бедствие! – рассердился Малышев. – Бедствие, сударь, не в холере – бедствие в администрации, черт бы ее побрал… Дармоеды проклятые!
Он набил табаком и закурил коротенькую трубочку.
– Больниц нету, – начал загибать пальцы, – медикаментов и лекарств нету. Чистой воды даже нет, черт побери! Что ж вы хотите? Вон у меня в Коротояке на почтовой станции лазарет. Лежат, сердешные, на полу в соломе да и помирают. А что сделаешь? Намедни приехал чиновник из губернии. Я ему и то и это, а он перетрусил, верите, даже почернел весь. «Доктор, – говорит, – я, кажется, заболеваю, пустите мне кровь!» – «Да, помилуйте, – говорю, – батюшка, зачем же?» А он одно: пустите да пустите! Ну, и пустил, с тем он и отбыл. Зато жители все, как узнали, что губернский чиновник себе кровь пустил, давай и себе пускать! Кровопролитие было, сударь, не хуже Бородинского сражения.
Малышев хрипло засмеялся и налил Кольцову чаю.
– А вы говорите – бедствие! Вот то-то оно и есть, что тут еще понять надобно, в чем на Руси нашей бедствие? Холера, она пошумит да и пройдет, а вот чиновник сей, кровопускатель, – он как был, так и останется.
За окном зазвенели колокольчики. Вошел смотритель.
– Иван Андреич, – доложил, – лошади готовы…
Малышев стал собираться.
– А вы, сударь, – посоветовал на прощанье, – того-с… сырую водичку все-таки остерегайтесь. Береженого бог бережет.
Глава седьмая
Быстры, как волны,
Дни нашей жизни,
Что час, то короче
К могиле наш путь.
А. Сребрянский
1
Подъезжая к дому, Кольцов нагнал Сребрянского. Тот шел, сдвинув фуражку на затылок и размахивая огромным букетом белой сирени.
– А я к тебе, – весело сказал Сребрянский. – Видишь, сувенир несу! – Он с восхищением поглядел на Кольцова. – Ну, ловок же ты на коне! Джигит!
По двору бродили две коровы. На бревнах возле конюшни сидели Зензинов и дед Пантелей. Возле, лицом вниз, лежал паренек в рваном армячишке и огромных, не по росту, стоптанных лаптях. Плечи мальчика вздрагивали.
– Чего это он? – поздоровавшись, спросил Кольцов.
– Тут, Василич, беда, – сокрушенно замотал головой Пантелей. – Он, парнишка-те, гнал, значит, трех коровенок, больные коровенки-те, стало быть… в гурте захворали… С Приваловки, что ль? – Старик тронул мальчика палкой.
– С При… при… валовки, – всхлипнул тот.
– Так вот, – продолжал Пантелей, – в дороге малого-то возьми и размори, – задремал, стало быть, – а коровку недобрые люди угнали… Опасается парнишка родителя твово… Вишь, какое дело-то!
– Это уж прибьет, – подтвердил Зензинов.
Кольцов сдвинул брови.
– Эй, малый! – окликнул он парнишку. – Как тебя звать-то?
– Ми… митроха!
– Так вот, Митроха, вставай, будет реветь… С кем грех не случается.
Растирая кулаками по грязным щекам слезы, Митроха поднялся. На крыльцо дома вышел Василий Петрович.
– Ну, держись, – протянул Зензинов. – Будет дело под Полтавой…
Василий Петрович медленно спустился с крыльца и, опираясь на суковатую палку, пошел к конюшне. Митроха затрясся, ухватился за полу кольцовского кафтана.
– Дяденька! Ой, дяденька! – вскрикивал он. – Ой, да прости ж ты, дяденька, милый!
– Я те, сукин сын, покажу дяденьку! – зарычал Василий Петрович. – Проспал корову-то, байстрюк!
Он размахнулся и ударил палкой Митроху по ногам. Мальчик упал.
– А-а-ах! – Кольцов кинулся к отцу, вырвал у него палку и с отчаянной силой хватил ею по бревнам. Палка разлетелась на куски.
– Ты?! – изумился старик. – Ты… как же эта?
– Не смейте драться! – глядя в упор, срывающимся голосом сказал Кольцов.
С минуту отец и сын молча смотрели друг на друга. Сребрянский, Зензинов и Пантелей стояли не дыша, и даже Митроха, закрыв руками голову, перестал плакать. Наконец старик отвел глаза и, сказав Митрохе: «Пошел прочь, щенок!» – круто повернулся и зашагал к дому.
Алексей был бледен, губы его вздрагивали. Побелевшая от напряжения рука еще стискивала обломок палки. Он проводил глазами отца и, когда тот, хлопнув дверью, скрылся в доме, далеко отшвырнул палку и быстро пошел к сараям.
– Наскочила коса на камень! – подмигнул Зензинов.
Возле каморки Сребрянский догнал Кольцова и обнял. Кольцов остановился, поглядел куда-то мимо него, потер рукою лоб.
– Пакость какая! – прошептал и, не попадая ключом в скважину, стал отпирать замок.
2Сребрянский раздобыл плошку и поставил сирень на стол.
– Вот, – указал на букет, – цветы по праву твои, победитель!
Кольцов сидел в своей любимой позе: положив локти на стол, опершись подбородком на кулаки.
– Два мира, – медленно произнес он, – два мира повидал я за сутки. Как во сне. Вчера побывал в царстве света… ан вот нонче с облаков-то и шлепнулся носом в навозную кучу…
Он рассказал Сребрянскому о своей нечаянной встрече со Станкевичем.
– Какой человек, Андрюша! Я таких не видывал. Такой один за всю жизнь встретится!
– Постой! – перебил Сребрянский. – А что ж тетрадки-то?
Кольцов сказал, что тетрадки Станкевич взялся повезти в Москву, показать друзьям и, может быть, отпечатать.
– Ты подумай, Андрюша, московские литераторы станут читать! Оторопь берет, куда залетел…
– Важно! – воскликнул Сребрянский. – Высоко берешь, Алексей!
– Да, – задумался Кольцов. – Оно так, радостно, конечно… А вот проехался нынче – тоска взяла. Звоном похоронным по всей дороге встречали. Да и сейчас… слышишь?
Он распахнул окно. В вечерней тишине звучал далекий печальный и медленный перезвон колоколов.
Кольцова позвали в дом.
– Не миновать, баталия будет, – мрачно произнес он. – Ты погоди, я скоро.
Сребрянский прилег на топчан. Звон плыл бесконечно, то отдаляясь, то приближаясь.
Итак, завтра в семинарии будет публичный акт. Профессор назначил ему читать последнюю часть «Предчувствия вечности». Закончатся экзамены – и он выйдет на новую, незнакомую и, конечно, трудную дорогу. Он выбрал ее сам и вот теперь вдруг задумался: та ли дорога? Кольцов напечатает книжку. А он? Что, как не поэзия с малых лет была неотступно с ним? Стихи звенели в ушах, его экспромты славились меж друзьями, последнее, что он создал – «Вечность», кажется, настоящая удача… Что же заставляет его менять поповскую рясу именно на лекарский халат? Темно на душе…
Погребальный звон плыл за окном.
– Врешь! – вскочил Сребрянский. – Правильная дорога! Мне с Алешкой не равняться! Хороший лекарь нужнее посредственного рифмоплета!
Вошел заплаканный Кольцов.
– Ты прости, Андрюша, – тихо сказал. – Мне идти надо, у нас горе: Маша, сестра, скончалась…
3На другой день в семинарии был публичный акт, на который ожидали архиерея и губернатора.
Пол был чисто вымыт, пыльные стекла на окнах протерты, а по лестницам, коридорам и в самом зале накурено благовонными свечками.
Приехали архиерей и губернатор, и экзамен начался.
Архиерей Антоний Смирницкий, худой и болезненный старик с желтым лицом, злыми глазами и длинным кривым носом, сидел за покрытым зеленой скатертью столом. В руках он держал кипарисовый посох. От нездоровья его постоянно знобило, и даже летом он носил меховые сапоги.
По правую руку от него сидел губернатор. Это был добродушный улыбающийся светский человек с умным и очень подвижным лицом. Он слыл литератором, потому что написал роман и был близко знаком с Грибоедовым.
Семинаристы, или, как их называли, студенты, выходили к столу и довольно сносно отвечали. Некоторые, из особо одаренных, сверх положенного на экзамене читали свои сочинения. Сочинения в стихах и в прозе были большей частью религиозного содержания. От них веяло скукой и затхлостью богословских учебников.
Все шло довольно гладко. Архиерей дремал, губернатор улыбался и рисовал на бумаге кружочки и треугольники. Профессор словесности волновался за своих воспитанников. Он часто краснел и то расстегивал, то застегивал пуговку жилета.
Наконец назвали фамилию Сребрянского.
Он вышел, дельно и спокойно ответил на все вопросы.
– Изрядно, изрядно, – похвалил губернатор. – Не правда ли, ваше преосвященство?
Архиерей сидел, закрыв глаза.
Когда с вопросами было покончено, студент посмотрел на профессора, тот кивнул, и Сребрянский начал читать поэму. Он был в ударе. Его красивый голос то гремел на весь зал, то понижался до шепота. Щеки покрылись румянцем, жесты были стремительны и порывисты.
Архиерей открыл глаза и прислушался.
– Это что же? – громко и раздраженно спросил он. – Студент пьян? Замолчи! – гневно застучал посохом. – Уведите его, ишь распрыгался!
Изумленно оглядясь кругом, Сребрянский замолчал.
– Как фамилия? – обернулся архиерей к ректору.
– Сребрянский, ваше преосвященство.
– Тому Сребрянскому – кто?
– Родной брат, ваше преосвященство.
– Такой же разбойник, – сказал архиерей. – В карцер! – закричал визгливым, надтреснутым голосом. – В карцер, немедля!
«Что это? – подумал Сребрянский. – Во сне, что ли?»
И в самом деле, как во сне, он увидел, что отец ректор подозвал инспектора, и тот, поклонившись, вышел из зала.
Губернатор, улыбаясь и разводя руками, стал что-то говорить разгневанному Антонию.
– Какое вдохновенье! – сердито сказал архиерей. – Пьян просто! Ну, да уж так и быть, Дмитрий Никитич, для вас только… Продолжайте, – наклонил голову, снова впадая в дремоту.
В коридоре Сребрянского встретил инспектор.
– Ну, Сребрянский, скажи спасибо господину губернатору. Сидеть бы тебе в карцере, кабы не он. «Вдохновение»! – фыркнул инспектор. – Ты, брат, не очень-то… Знай, где вдохновляться. Прыткой какой!
4Сестра Кольцова, Мария, была замужем за Иваном Сергеичем Башкирцевым, который страстно любил Машу и только что не молился на нее.
Когда Маша, заразившись холерой, заболела и умерла, Иван Сергеич находился по своим делам в Ростове. Его хотели подождать на похороны, да время стояло жаркое, а он все не ехал, и Машу похоронили без него.
Старики Башкирцевы и Кольцовы не стали ломать обычай и тотчас после похорон устроили поминальный обед. Гостей собралось много. Как обычно, сперва все вздыхали и, вспоминая покойницу, степенно и тихо говорили между собой. Потом, когда вино развязало языки, разговоры стали громче. Перешли на городские, торговые, семейные и другие не имеющие отношения к печальному событию дела. Вскоре раздались крики, двое приказчиков поссорились И стали укорять друг друга какими-то темными проделками. Послышался звон разбиваемой посуды.
Вдруг все замолкли. В дверях, с бледным, искаженным лицом стоял Иван Сергеич.
– Где Маша? – крикнул он.
К нему подбежали родные, но он оттолкнул их и молча, как бы с удивлением и гневом оглядел гостей.
– Вон отсюда! – не своим голосом закричал Башкирцев. – Живую закопали, сукины дети! – и бросился из дома.
Он велел управителю кликнуть рабочих. Не глядя на ночь, с фонарями и факелами, они пошли на кладбище, откопали гроб и открыли его. Башкирцев кинулся на грудь покойнице да так и замер. Видимо, он впал в беспамятство, но никто не решился подойти к нему. Уже начинало светать, когда Башкирцев очнулся. Закрыв лицо руками, он тихо заплакал.
Кольцов, все время бывший возле него, повел его с кладбища. Они уже подходили к дому, когда Иван Сергеич вдруг остановился, обнял Кольцова и прошептал:
– Вот и я, Алеша, как ты… потерял ненаглядную…
5Тянулось душное и страшное своими горячими ветрами лето. Пересыхали реки, дымом горящих лесов клубилось небо. В июле пожелтели и стали осыпаться деревья. Не умолкая, гудел погребальный звон: холера, как бешеный волк, рыскала по деревням.
С июля по октябрь Кольцов не слезал с коня. Он исколесил всю юго-восточную Россию, закупал и продавал скот. Во многих гуртах начался падеж. Эти гурты спешно перегонялись на бойню, и Кольцову приходилось по целым дням ходить по хлюпающей под ногами теплой крови, а то и самому бить скот. Даже в тишине ночи, стоило закрыть глаза, как перед ним возникало шевелящееся кровавое месиво; слышалось мычание, топот копыт, стук падающей туши, крики и брань рабочих. Он не мог уснуть, вскакивал, бежал из душной избы наружу, и лишь небо и кроткий свет звезд успокаивали его.
Однажды в августе, кочуя где-то возле Славяносербска, Кольцов заночевал на постоялом дворе. Двор стоял при большой дороге, в стороне от села, и, видно, недавно горел: над закопченными стенами ярко белела новая соломенная крыша, деревья, растущие вкруг избы, были тронуты огнем. Дворник – черноватый, неразговорчивый мужик с серебряной серьгой в ухе, подал Кольцову самовар и, молча дымя трубкой, сел на корточки возле порога.
Кольцов напился чаю; ему надоело молчать, он попробовал заговорить с дворником и спросил, как его зовут.
– Окстили Кириллом, – нехотя ответил дворник.
– Вот, брат Кирилл, – присаживаясь рядом, сказал Кольцов, – наказал нас господь летом.
– Да, лето плохое, – равнодушно согласился Кирилл.
– Ты что ж, сам двор держишь ай от господ? – спросил Кольцов.
– Сам, – сказал Кирилл. – Я от барина летось выкупился.
– В дворовых, что ль, у барина-то был?
– Егарем, – коротко ответил Кирилл.
Они сидели на пороге избы. Перед ними пласталась голая, печальная степь. Далеко-далеко в красноватой мгле всходила ущербная луна. Правее, тоже очень похожее на лунный восход, то разгоралось, то меркло зарево пожара.
– Горит где-то, – указал Кольцов на зарево.
– Вторые сутки горит, барина Свентицкого мужики жгут, – спокойно сообщил Кирилл.
– Ай плох барин-то?
– Собака! – Кирилл выколотил трубку и затоптал жар. – A тут еще и слух пошел, будто все колодези кругом потравил, чтоб народу погибель исделать…
– За это и жгут?
– Ну за это… да и так, за другое. Одно слово: собака.
Зарево разгорелось и вдруг разом полыхнуло вполнеба.
– Хлеб зачали жечь, – догадался Кирилл. – Э, да что Свентицкий! – он резко повернулся к Кольцову. – Не то – Свентицкий… всех бы их, одним словом!
Кольцов умел располагать к себе. Во взгляде его лучистых глаз, в голосе, в том, как говорил и слушал, было непередаваемое обаяние, покорявшее собеседника. Наверно, и дворник поддался этому обаянию. Посасывая хрипящую трубочку, он рассказал Кольцову, что барин ихний был хороший кобель, только тем и прославился на всю Донскую область. Кирилл состоял у него в егерях, все больше при собаках на псарне, и его мало касалась господская шкодливость. Но вот раз барину попалась на глаза Кириллова баба, и барин приказал ей ходить в дом, мыть полы.
– А уж мы все знали, что это за полы. Не она первая была поломойкой-то… Вот я и раздумался, что делать? Сперва бабу хотел порешить. Ну, слава богу, греха па душу не взял. Так и сяк прикинул, – ай, думаю, барин-то вечный? Очень простая дело! – оживился Кирилл. – Мало чего на охоте не случается. Скажем, иной раз бывает, охотник так с лошади хряснется, что – будь здоров! Сплю, а сам все вижу, как барин убился…
Кирилл замолк.
– Эх, зря хлеб, жгут! – покачал головой, глядя на зарево. – Ну, да уж теперь все равно, рука разошлась – не удержишь.
– Что ж, убился барин-то? – усмехнулся Кольцов.
– Убился. До смерти. Да он пьяным-пьян был, а лошадь-то – страсть, огонь! Как не убиться? Ну, конешно, – немного помолчав, продолжал Кирилл, – похоронили нашего барина, тут наследник приехал. А я еще давесь деньжонки-то сбирал; иду, стал быть, к молодому барину, кладу деньги на стол: так и так, дозвольте вольную! А ему не все равно? Ладно, говорит, согласен, выправляй пачпорт. Вот этак-то я и вышел в дворники! – закончил Кирилл.
– Ну, а баба-то что ж? Померла, что ли?
– Жива, – насупился Кирилл. – Только я с ней жить не схотел. Ну, спать, что ль, станем ложиться? – повернул он разговор. – Чай, уж время…
Дворник принес и постелил Кольцову сена, а сам полез на печь. Стало тихо, только на потолке все свиристел неугомонный сверчок.
– Кирилл, а Кирилл! – позвал Кольцов дворника.
– Чего? – откликнулся тот.
– А что, барин ваш не привозил себе сударушек из иных губерний? Не бывало ль воронежских?
– Всякие были, – зевнул Кирилл. – И воронежские, и тамбовские… Нешто всех упомнишь!








