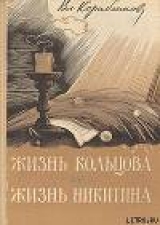
Текст книги "Жизнь Кольцова"
Автор книги: Владимир Кораблинов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
Однажды он весь день пробыл с ней на реке. Взяв рыбачью лодку, они далеко заплыли вверх по Воронежу – к песчаным обрывам Лысой горы.
В воде сверкало радостное солнце, кругом по крутым буграм, полный птичьего разноголосого пенья и свиста, зеленел лес. Кольцов подогнал лодку к песчаному обрывистому берегу, и они с Варенькой, смеясь и шаля, точно дети, стали карабкаться на вершину горы. Песок сыпался из-под ног, они падали, хватались за ветки редких кустов, за прошлогодние стебли сухой полыни и наконец, исцарапанные, выпачкавшиеся в песке и глине, задыхающиеся от жары и усталости, но счастливые и полные молодой, весенней радости, взобрались на самый верх песчаного обрыва.
Далеко внизу под ними извивалась узкая полоска реки. Лодка казалась игрушечной. Но за этой узкой рекой, за кустами на том берегу расстилались такие необозримые просторы лугов и полей, что дух захватывало и хотелось кричать, петь и быть такими же, как птицы, травы, деревья или вон то свободное и легкое облачко…
Алексей пришел в то радостное состояние, когда действительно как бы превращался сам и в лес, и в облако, когда весь мир вдруг становился им самим, его тело было неотделимо от песчинки, от неба, от звонкого ветра, от ласковой немудрящей песни лазоревки; кроткое, светлое умиление соединялось тогда в нем с отчаянной удалью, с неудержимой дерзостью. Все было нипочем, все житейские вопросы решались быстро и верно. Это было вдохновение…
– Давай посидим, – сказала Варя.
Они примостились на самом краю обрыва. Она положила голову на плечо Кольцова и закрыла глаза. Ветер вдруг налетел с особенной весенней силой. Он растрепал волосы Алексея, буйно заиграл Варенькиной косынкой и зашумел в верхушках деревьев.
– Варюша, давно я хотел поговорить с тобой, да все робел…
– Что, Алешенька?
– Не раз и не два получал я письма из Питера… да вот и вчерась еще получил…
Он достал из кармана исписанный мелким почерком, сложенный вчетверо лист.
– От кого это? – лениво полюбопытствовала Варенька.
– От Белинского… Что за человек, Варюша! Ведь я ему все про тебя написал, и он уже и знает и любит тебя… Так вот я о чем: они и раньше звали меня к себе, мои питерские друзья, а сейчас даже настаивают. Книжную лавку помогут открыть или журнальную контору – там видно будет… Но что я хотел тебя спросить, Варюша… – Кольцов нежно погладил ее руку. – Поехала бы ты со мной в Питер?
– Милый ты мой! Да не то что в Питер – на край света поехала бы!
Последний день короткого счастья угасал: внизу, где на легкой волне покачивалась крохотная лодочка, уже синели длинные тени вечернего сумрака.
10Поздно вечером он вернулся домой и, не зажигая свечи, сел у открытого окна.
– Алеша! – позвала снизу мать. – Тут тебе давеча пакет принесли.
Кольцов спустился вниз, взял пакет.
– Кто принес? – спросил, повертев в руках конверт.
– Да уж и не знаю. Посыльный какой-то…
Алексей разорвал конверт. В него был вложен лист плотной бумаги, с двух сторон исписанный стихами. В кудрявых писарских завитках чернел тщательно выведенный заголовок:
«Чиж-подражатель»
Это была та скверная, дрянными стихами написанная басня, которую сочинил Волков. Кольцов прочитал ее и усмехнулся: «Эк, наскакивают!»
Конечно, отцовский хлеб был горек, но грязные сплетни, пересуды и насмешки – не горше ли? И радостный день померк, и жить стало тошно.
Этой ночью в «Песне бедняка» он написал такие строки:
Из души ль порой
Радость вырвется, —
Злой насмешкою
Вмиг отравится…
И сидишь, глядишь,
Улыбаючись,
А в душе клянешь
Долю горькую…
Глава восьмая
И мне ее, погибшую, все жаль…
А. Кольцов
1
В конце лета в Воронеже появилось новое лицо. Это был богатый помещик со странной фамилией Бойдык. Он приехал из Харькова, чтобы вступить во владение несколькими воронежскими поместьями, перешедшими к нему по наследству. Поместья были велики и находились в двух или трех, далеко расположенных друг от друга уездах.
Формальности ввода во владение требовали частого пребывания Бойдыка в воронежских присутствиях, поэтому он прочно обосновался в гостинице Шванвича, ненадолго уезжая в свои деревни и снова возвращаясь в Воронеж.
Он сразу же, с первых дней появления в городе, привлек всеобщее внимание своей одеждой (широчайшие синие шаровары с красным кучерским кушаком), своими великолепными, серыми в яблоках лошадьми, а главное – своими безобразными, шумными кутежами.
Два цыганских хора, приехавшие в Воронеж к открытию Воздвиженской ярмарки, сопровождали Бойдыка не только в его шумных загулах в городских и загородных трактирах, но и в поездках по тем деревням, которыми, к несчастью крестьян, Бойдык теперь владел.
О его развращенности и жестокости ходили самые невероятные рассказы, и, судя по тому, как он жил в Воронеже, рассказы эти были похожи на правду.
Вскоре после появления в Воронеже он сошелся с Башкирцевым, хотя знакомство их началось с дикой драки бойдыковских цыган и башкирцевских песельников. Драка эта произошла на реке возле старого петровского цейхгауза и, начавшись с пустяков, окончилась настоящим морским боем, в котором были раненые и даже один потонувший цыган-гитарист.
Несмотря на это, после окончания баталии, когда побитые и растерзанные цыгане и песельники выбрались на берег и были выловлены плавающие в реке гитары, бубны, шапки и балалайки, оба «адмирала», командовавшие «сражением», встретились, расцеловались и, объединив свои силы, поскакали на дачу к Башкирцеву.
2Кольцов вторую неделю лежал дома. К концу лета у него снова стала побаливать грудь и появился сухой, трудный кашель.
Сперва он не обращал внимания на болезнь и старался не думать о ней. Все его жизненные помышления сосредоточивались на Варе, на его любви к ней и на задуманном отъезде в Питер. Он решил принять предложение Краевского заведовать журнальной конторой «Отечественных записок». Варя согласилась уехать с ним, и дело сводилось к тому лишь, чтобы достать нужные для этого деньги. Он поговорил с Башкирцевым, и тот охотно согласился дать те несколько тысяч рублей, которые были нужны для переезда в Петербург и обзаведения там на первых порах самым необходимым.
Алексея и радовала и пугала эта поездка. Он верил в успех дела и в то же время сомневался в нем. Писал восторженные письма Белинскому, рассказывая в них о своем счастье, о Вареньке, которая согласна ехать с ним хоть на край света. «Вот бы хорошо, – двое нас и хорошая женщина третья – зажили б на славу! А я знаю наперед, что она бы вам понравилась…»
И вместе с этой восторженностью в душе Кольцова жило сомнение: выдержит ли он столичную жизнь с ее туманами, слякотью, чиновничьим равнодушием да и со своими новыми, тоже чиновничьими, обязанностями. Сейчас, когда он снова почувствовал нездоровье и лежал с ноющей болью в груди в тишине мезонина, не навещаемый никем, сомнение особенно часто угнетало его. Десятый день пошел, как он не видел Варю, не слышал ее голоса, не держал в руках ее прохладные маленькие руки…
По ночам тишина была, как в могиле, и только редкий стук сторожевой колотушки да хриплый лай собак напоминали о жизни. Черные, как осенняя ночь, мысли обступали его, и в такие минуты казалось, что начинающаяся болезнь уже не отступится, что Петербург для него будет смертелен, а Варенька никогда не любила да, верно, и не любит его.
Наступал день, и становилось немного легче. Кольцов придвигал к окну старое дубовое, домашней работы кресло, садился в него и глядел на сонную Дворянскую улицу. Там было пусто. Иногда с оглушительным грохотом по крупным булыжникам скверной мостовой прокатывалась помещичья бричка, скрывалась за серой пылью, но долго еще слышалось громыханье ведра, привязанного к задку неуклюжей колымаги.
На Дворянской части били часы. Сонный инвалид стоял с алебардой возле полосатой будки; не спеша проходили мещане, чиновники; торговка брела с корзиной, кричала противно: «Луку! Луку! Вот кому зеленого лучку!»
Из ворот соседнего дома с визгом выбегала свинья, за нею гналась баба с подоткнутым подолом, пыталась завернуть свинью во двор, а та не шла, металась по улице. На балкон выходил в засаленном халате аптекарь Гоббе и кричал:
– Глюпий баба! Она нитшего не умейт!
Все было скучно, все повторялось до мелочей. Ночью назойливые мысли одолевали и не спалось, а днем серая скука нагоняла сон, и Кольцов, пригретый ласковым сентябрьским солнышком, сидя в кресле, засыпал.
Однажды, когда он этак дремал, раздался стук копыт, звон бубенцов, во дворе залаяли собаки, послышались чьи-то голоса, а затем шаги. По лестнице поднимались люди.
– Да он все сонный какой-то, – говорила мать, – закоржавел весь вовсе…
– А вот мы его расшевелим, – сказал гость. – Мы ему спать не дадим, эка соня!
Алексей узнал голос Башкирцева.
– Вставай, вставай! – бесцеремонно громко заговорил Иван Сергеич, вваливаясь в комнату. – Даже, брат, и неприлично валяться-то при даме…
Шурша шелковыми юбками и распространяя запах знакомых духов, вслед за Башкирцевым вошла Варенька.
– Что ж это ты болеть вздумал? А мы на Дон собираемся к Ивану Сергеичу… Народу сколько, весело будет!
– Тут такие дела заворачиваются! – загромыхал Башкирцев. – Не приведи бог! Слыхал небось про баталию нашу водяную? Нет?! Ах ты, святой отшельник, Алексей, божий человек!
От Башкирцева пахло вином, видно было, что гульба шла не первый день. Перебивая друг друга, они с Варей принялись рассказывать о драке на реке, о бойдыковских кутежах, и оба хвалили Бойдыка и восхищались его молодечеством.
Алексей принужденно улыбался, слушая и не слыша их веселый, беспорядочный рассказ. Он глядел на Вареньку и никак не мог постигнуть ту перемену, которая в ней произошла. Перемена эта чувствовалась во всем: и в ее какой-то новой манере говорить и смеяться, и в том, как она то и дело обращалась к Башкирцеву, словно призывая его в свидетели, а главное, в той отчужденности и даже виноватости, которые сквозили в каждом ее слове и движении.
– Так, значит, Алеша, ты нам не компания, – огорчился Башкирцев. – А жаль, право, жаль, лихо гульнули бы… Да ты и с Бойдыком, наверно, подружился бы: он, говорят, тоже стихи сочиняет, верно, Варвара Григорьевна?
Варя почему-то смутилась.
– Вот еще! Почем я знаю… Так ты поправляйся, Алеша!
– Спасибо на добром слове, Варвара Григорьевна…
Она покраснела и отвела взгляд в сторону. И снова Алексею почудилась виноватость и отчужденность.
3Дня через два маменька позвала его вниз.
– Сестры пришли… Ты бы, Леша, сошел к ним, посидел бы. Чай, давно не видался с сестрами-то…
Алексей оделся и пошел вниз.
За самоваром собралась вся кольцовская семья. Тут были и всегда робкая и молчаливая Прасковья Ивановна, и сестры Анна и Александра – обе преждевременно раздобревшие и обленившиеся, и, наконец, Анисья, с каким-то новым для нее, настороженным и жестким выражением лица. Отсутствовал лишь Василий Петрович: он утром еще уехал на Дон, в Ново-Животинное, где у него были какие-то дела по земельной аренде.
Кольцов поздоровался с сестрами и молча сел за стол.
– Что ж это, Алеша, – после некоторого молчания, дуя на блюдечко, проговорила Анна, – пришла проведать, почитай с прошлого года не видались, а ты с сестрой и слова не молвишь…
– Значит, им с нами теперь неинтересно, – поджимая губы, притворно вздохнула Александра. – По столицам натерся, к родным уважение потерял, семейство свое не чувствует…
– Они сейчас небось об небесных картошках мечтают! – фыркнула Анисья.
Устало, равнодушно он поглядел на сестер.
– Для чего вы все это говорите мне? Ну, вот хоть ты, Анюта… Ведь знаешь, что никогда я балагуром не был, а разговор не вдруг приходит. Встретились вот – ну о чем мы с тобой толковать будем? Как ты живешь, я знаю. Как я живу, тебе в доме у нас да и в городе поди давно все порассказали, еще и с прикрасами… А про то, что на душе у меня, – не за чашкой чаю говорится. И нисколько это не интересно тебе… да и непонятно, пожалуй.
– Да уж где уж! – насмешливо встряла Анисья. – Где уж нам, необразованным, понимать высокие ваши мысли!
– Ты, Саша, – не обращая внимания на ее выходку, продолжал Алексей, поворотясь к Александре, – ты говоришь: уважение к родным потерял. Да вы-то, – он кротко улыбнулся, – вы-то сами хоть чуток меня уважаете? Так чего ж зря и болтать про это? А что семейство свое будто я не чувствую – неправда. Ох, как чувствую! Каждодневно и слишком… и даже не под силу!
– Это как же так понимать – не под силу? – всплеснула руками Александра. – Что ж, мы на шее, что ль, у тебя сидим?
– Ах, да не в том смысле… – поморщился Кольцов.
Анисья передернула плечами.
– Это, Сашенька, в том смысле, – сказала ехидно, – что Алексею Васильичу наша компания стала не ко двору. Где уж! – вызывающе стреляя глазами в брата, застрочила она. – Где уж нам! Серость! Мужичество! А у него теперь друзья все ученые, все дворяне! Один книжки сочиняет, другой… – она запнулась, – другой в тюрьме сидит в каторжной…
Кольцов вскочил, крикнул: «Да как ты…» – но схватился за грудь и, тяжело, мучительно закашлявшись, опустился на стул.
– Да, – отодвигая порожнюю чашку, спокойно сказала Анна. – Станкевич помер, Кареева в Сибирь угнали… Да и тебе, Алеша, ты хоть не обижайся, вижу – несдобровать… И кто этих людей держится, тот препустой человек. Главное – был бы хлеб, а для хлеба и подлость не в подлость. Люди побранятся да перестанут, а мы наживемся…
– Да как ты, дрянь, смеешь?! – откашлявшись, не отвечая Анне, закричал Кольцов на Анисью. – Как смеешь так говорить о моих друзьях!
– Это я дрянь? – побледнела Анисья. – «Не смей говорить»! Да я и говорить-то с тобой не хочу! Иди к своей Варьке да и шепчитесь, сколько вам влезет… раз уж ты при ней в горе-куртизанах состоишь!
– Анисья! – простонала Прасковья Ивановна.
– Ну чего – Анисья? Не правду, что ль, говорю? Весь город про то трезвонит, одни вы, маменька, все за Лешеньку своего…
– Да ведь я не заступлюсь, кто ж заступится-то? Детище он мое ай нет?
– Вот погодите, – прошипела Анисья. – Вы его, маменька, нисколько не знаете… Он еще вам нос-то скусит!
– Да уж ты больно знаешь! – замахала руками Прасковья Ивановна. – Сорока, право, сорока…
– Дрянь! – опрокидывая стул, в бешенстве грохнул Кольцов по столу. – Дрянь! Так говорить о женщине, которая чище вас всех…
– «Чище»! – захохотала Анисья. – «Чище»! Ох, начудил! Да не эта ль чистая твоя в Шванвичевых номерах с приезжим хохлом которую ночь кутит? Не твоей ли чистой-то вчерась ворота дегтем вымазали? Ну, дурак! Такого поискать по Воронежу, да и не найдешь!
С минуту Алексей стоял, словно окаменев, потом схватился за голову и опрометью кинулся из дому.
4Он чуть ли не бегом мчался по улице.
Не замечал, что прохожие оборачивались вслед, что небо затянулось тучами и накрапывает, разгуливается спорый осенний дождь.
Не замечал, что выскочил без картуза, что сам с собою разговаривает, словно пьяный…
– Ах, негодяи! – бормотал, сжимая кулаки. – Дегтем ворота… сволочи! Но кто? Кто?
– Э, малой! Сапоги потеряешь! – крикнул ему вдогонку кучер, стоявший у ворот гостиницы Шванвича.
Он рассеянно обернулся на крик. Бородатый кучер держал в поводу тройку отличных серых лошадей и гоготал. Двое лакеев выскочили из дверей и тоже смеялись, кривляясь и указывая на Кольцова.
«Кто? Кто?» – шептал он, задыхаясь от быстрой ходьбы.
Еще издали увидел ворота Вариного дома. На старых, сереньких, обмытых многолетними дождями досках чернело уродливое пятно. Деготь расплылся и черной растрепанной бахромой потек вниз.
Алексей остановился с разбегу. Перед ним в калитке своего аккуратного, чистенького домика появился Дацков. Он был в халате и ермолке, приятно улыбался Кольцову и, разводя руками и всем видом выражая сожаление, кивал в сторону испачканных дегтем ворот.
– Ты! – хрипло крикнул Кольцов, кидаясь к Дацкову и хватая его за отвороты халата. – Ты! Гадина!
Не помня себя, он тряс перепуганного Дацкова. Бисерная ермолка свалилась с прилизанных височков латиниста, рука его искала скобу калитки, рот судорожно открывался и закрывался.
– За что-о? – вырываясь из рук Кольцова, вдруг взвизгнул Дацков. – Ты еще ответишь! Хам!
Кольцов схватил полу его халата и поднес к самому носу Дацкова: канареечного цвета материя была обрызгана черными капельками еще не высохшего дегтя.
– – Падаль! – едва слышно, устало произнес Кольцов. – Задушить бы тебя, как собаку…
И, оттолкнув онемевшего латиниста, зашагал к Варенькиному дому.
5В низенькой темной комнате, среди каких-то раскиданных по полу вещей – узелков, коробок, разноцветного тряпья, – на дорожном кожаном сундуке сидела Варя, словно бы собираясь уходить – в мантилье, в шляпе, с перчаткой на одной руке.
Увидев Алексея, она заплакала.
– Варюша! – наклонясь к ней и гладя ее руки, сказал Кольцов. – Я все знаю, Варюша… Ты не плачь, родная, миленькая моя!.. Ведь это не люди – звери. Они… у них сердце овчинное!
– Господи! – жалобно проговорила Варенька. – Ну что я кому сделала? Да я еще никогда, ни разу в жизни не была такой хорошей, как это время с тобой… Ты не верь, Алеша! Не верь! Ведь я знаю: сейчас в городе вздор болтают, будто я… с этим… Бойдыком… Это все ложь, все сплетни! Я…
Кольцов опустился на колени возле Вареньки.
– Ты не плачь, не плачь, – прошептал он, целуя ее руки. – Нам тут не жить, Варюша, милая! Собирайся, завтра же уедем… Мне Иван Сергеич денег даст, а там что будет, то будет. Не помрем!
– Нет, Алеша, – вытирая глаза, глубоко вздохнула Варя. – Какой ты, право.. Ну, приедем в Питер, а дальше что? У меня грош да у тебя алтын. Пропадем мы там…
– Да нет, что ты! – горячо воскликнул Кольцов. – Как это пропадем? Поедем! Поедем, да и все тут! Ты ж сама говорила, что хоть на край света…
Варенька вдруг подбежала к окну, прислушалась.
– Ты что?
– Нет, ничего, так. Показалось… Сядь, Алеша, вот сюда, – указала на старенькое скрипучее кресло. – Слушай, я всю правду тебе скажу. Ты ведь знаешь, как про меня говорят? «Пропащая» – вот как. А я и в самом деле пропащая. Нынче с купцом, завтра с офицером… Упала я, миленький, в грязь, и мне из нее теперь веки-вечные не вылезть! Полюбила тебя, думала грязь свою любовью этой смыть… да не привел бог! – снова заплакала Варенька. – Видно, грязи этой на мне много поналипло, каждый пальцем тычет. Вон ворота вымазали… Тетка со двора гонит, ушла с утра, говорит: «Не приду, пока не съедешь, срам, говорит, какой из-за тебя!» Видишь, Алеша, какая я!
– Не терзайся, – сказал Кольцов, – не рви себе сердце!
– А соседи? – перебила Варя, словно спеша договорить. – Стена глухая! Ведь ты один… Да только нам с тобой эту стену головой не пробить. Вот я и решилась, Алеша: уеду! Тут из-под Ельца помещик один звал в гувернантки к девочке. Я было отказалась, а нынче пошла к нему, говорю: «Согласна!» Там деревня, глушь… Да, может, оно и к лучшему… Сейчас лошадей подадут и… прости-прощай, Алеша! Люблю тебя и не грешна, не виновата… я не хочу, чтоб виноватой стала… Прощай! Прощай!
Обхватив руками его голову, что-то бессвязно бормоча и плача, она целовала его мокрые от дождя светлые волосы.
– Я все понимаю, – глухо сказал Кольцов. – Все… Все! Только не уезжай, останься, Варюша! Останешься? Ну, скажи, Варюша, милая… Скажи: да?
– Нет! – словно от боли вскрикнула Варя. – Никогда!
Медленно, словно во сне, спускался он по скрипучим, ветхим ступенькам галерейки.
Возле ворот, запряженная в дорожный тарантас, погромыхивая бубенцами, остановилась серая в яблоках тройка. Ямщик окликнул Алексея: «Эй, друг!» – да и осекся: Кольцов шел как слепой, не выбирая дороги, по лужам, спотыкаясь, едва не падая. «А ведь это, похоже, тот оглашенный, что давеча по улице без картуза чесал?» – удивился ямщик и, привязав к плетню лошадей, пошел во двор.
6Застава давно осталась позади, а он все шагал по широкой Московской дороге. Его светлый сюртук промок насквозь и сделался черным. Холодный дождь хлестал по непокрытой голове, водяные струйки стекали за воротник. Однако он не чувствовал ни дождя, ни холодного, порывами налетавшего ветра, шел посреди дороги. Встречная ямская тележка, промчавшись мимо, обдала его грязью с ног до головы. Наконец он остановился и огляделся кругом. Наступали сумерки. Серая трава, серое небо, серый город вдали – все было мертво, безрадостно. Сбоку дороги росли рябиновые кусты. Яркими огоньками горели алые кисти, ветер гнул ветки, срывал листву. Кольцов сошел с дороги и схоронился за кустами.
«Вот сейчас она тут проедет, на Елец другой дороги нету… Я еще, может, увижу ее. Да нет, где увидишь, темно…»
Он прислушался. Сквозь ровный шелест дождя откуда-то издалека донеслось глуховатое бормотанье бубенцов. В смутной сумеречной мгле завиднелась тройка. Кольцов раздвинул ветки рябины. «Варя!» – прошептал, напряженно вглядываясь в приближающийся тарантас. Лошади резво шлепали по грязной дороге. Под кожаным верхом тарантаса мелькнуло и скрылось что-то белое: рука или лицо – он не разобрал.
– Варя-а-а! – крепко стиснув рябиновую ветку, отчаянно крикнул Кольцов. – Варя-а! Останься! Не уезжа-ай!..
Сетка дождя сомкнулась, закрыла тарантас и лошадей, – их словно и не было на дороге, лишь ласковые звуки бубенцов, безжалостно удаляясь, ворковали все тише, тише и наконец умолкли совсем.

Он отпустил ветку и вышел на дорогу.
– Уехала…
И медленно побрел назад, к заставе.
А сломанная рябиновая веточка – тоненькая, с красной шапкой горьковатых ягод – закачалась под ветром да так и осталась висеть на одном лычке.








