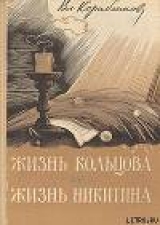
Текст книги "Жизнь Кольцова"
Автор книги: Владимир Кораблинов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
По красному, прижатому медными прутьями, стекавшему, как диковинный водопад, ковру Кольцов и Жуковский поднимались по дворцовой лестнице.
Шпалеры камер-лакеев почтительна кланялись Жуковскому. Он был в мундире, шитом золотом, с лентой и звездами, в белых замшевых штанах. В согнутой левой руке он держал шляпу с кипенно-белым, плюмажем.
Кольцов шел рядом. Его длиннополый кафтан, густо напомаженные волосы и пестрый шейный платок с чудовищной булавкой вызывали удивленные взгляды придворной челяди.
На площадке широкой лестницы Жуковский взял его под руку.
– Будьте почтительны, – – тихо произнес. – Но без подобострастия. Свидание ваше с государем значительно: он видит в вас представителя российского народа.
– Василий Андреич, – так же тихонько спросил Кольцов, – а мне чего говорить надо?
– Если государь задаст вам вопрос…
Они вошли в залу. Она показалась необыкновенно высокой; хоры терялись в косых лучах солнечного света, в величественном взлете беломраморных колонн. Отражаясь в зеркале паркета, тянулась вереница фрейлин и придворных дам. Одна из них – носатая старуха с огромным черепаховым лорнетом в костлявой руке – особенно поразила Кольцова своим обнаженным безобразием. Важные господа в звездах и лентах стояли напротив дам. И столько сверкало золота, и так все играло блеском драгоценных камней, что хотелось зажмурить глаза.
Несколько раз Жуковский останавливался и разговаривал о чем-то с некоторыми из этих блестящих господ. В зале стоял ровный гул приглушенных почти до шепота голосов: с минуты на минуту ожидали выхода государя. Наконец гул разом оборвался – в зал вошел Николай. Выпячивая ватную грудь и высоко поднимая крутой, начисто выбритый и вымытый подбородок, он медленно пошел вдоль верениц придворных. Его холодные, выпуклые, словно стеклянные глаза безразлично глядели прямо и немного вверх, нисколько не оживляя, а, наоборот, еще больше увеличивая мертвенность гладкого фарфорового лица.
– Ваше величество, – глубоко кланяясь и делая шаг вперед, сказал Жуковский. – Вы соизволили выразить желание видеть Кольцова…
– Он сделал жест рукой в сторону Кольцова, снова поклонился и попятился назад.
– А! – Государь бесцеремонно, как барышник, покупающий лошадь, оглядел Кольцова. – Ты? Просвещенный природой без наук!
– Какое счастье, ваше величество, – склонился один из свитских господ, – владеть народом, весело слагающим песни…
– А! – вытаращил бесцветные глаза Николай. – Пиши, Кольцов! Солдатскую песню напиши, – неожиданно разрешил он и проследовал дальше.
– Певец? Какой певец? – сердито спрашивала глухая старуха с лорнетом. – Да где же он поет-то? – допытывалась, разглядывая в лорнет Алексея. – Нынче и хористов уже стали представлять государю, – громко сказала старуха и, отведя лорнет от Кольцова и презрительно поджав синеватые губы, заключила: – Неказист!
Глава шестая
«… Бывало, в тесной моей комнатке поздно вечером сидел один и вел беседу с вами, Пушкиным…»
(Из письма Кольцова Жуковскому)
1
Кольцов с утра бродил по Петербургу.
Несколько раз выходил на Дворцовую площадь. Возле недавно поставленной, длинной, с ангелом наверху Александровской колонны учили солдат. Вытягивая носки сапог, солдаты в высоких кивеpax шагали по площади. Резкие голоса дудок свистели, как плети. Кольцов уходил с площади и снова, как в заколдованном кругу, возвращался назад, не решаясь идти к Пушкину.
Наконец, пересилив робость, вышел на Мойку. Вот он, длинный и скучный фасад дома князя Волконского. Алексей замирал от мысли, что вот тут, за этой серой стеной, в нескольких шагах от него живет Пушкин.
Он так изучил дом, что, закрыв глаза, мог представить себе – сколько в нем колонн и сколько окон. Чуть дальше на канале виднелся горбатый мостик. Мужик стоял, облокотившись на парапет набережной. Шел сбитенщик. Ехал извозчик в синем армяке, в чудной шапке, с железным номером, болтавшимся на спине.
Визжа колесами, подкатила карета. Из ворот вышла красивая дама в собольей шубке. Лакей опустил подножку и распахнул дверцу кареты. Дама легко вскочила в карету, кучер пошевелил вожжами, и карета понеслась в сторону Невского.
По улицам побежали фонарщики, зажигая фонари. Идти к Пушкину было поздно, и Кольцов, досадуя на свою нерешительность, поплелся в номера.
Так два дня подряд приходил он к заветному дому на Мойке, не решаясь войти в него. Он коченел от холода, забывал про еду, но никакая сила не смогла бы оттащить его от этого длинного серого дома, от ворот, куда входили и откуда выходили люди, смеясь, громко разговаривая и, вероятно, не придавая дому того значения, которое придавал Кольцов.
Наконец, прикусив до боли губу, с отчаянно колотящимся сердцем, он вошел в сени пушкинской квартиры. Высокий седой лакей сказал, что Александр Сергеич нездоровы и никого не принимают. Кольцов смутился и хотел уйти.
– Да вы не господин ли Кольцов будете? – спросил старик.
– Да, – робко сказал Кольцов.
– Тогда пожалуйте! – Старик приветливо улыбнулся, принял у Алексея шубу и проводил в комнаты.
В небольшой гостиной его встретила очень красивая черноволосая женщина. Он узнал в ней ту, что намедни садилась в карету. Это была Наталья Николавна.
– Господин Кольцов? – угадала она, идя навстречу и откровенно разглядывая его. – Александр Сергеич нездоров, правда, но он вас ждет…
– Право, я уйду лучше, – пробормотал Кольцов. – Александр Сергеич больны, а я буду их беспокоить…
– Нет, нет, – очаровательно улыбнулась Наталья Николавна. – Александр! – позвала она, приоткрыв дверь кабинета. – К тебе Кольцов… Идите же! – прошептала, слегка подталкивая Алексея к двери.
2Пушкин последнее время и в самом деле чувствовал недомоганье. Скорее всего это было от усталости. С первым номером «Современника» оказалось много возни. Ему пришлось перечитать груду рукописей, он никому не доверял, и все, что подавалось в журнал, прочитывал сам. Краевский, правда, помогал ему в хлопотах по типографии, – в эту сторону дела Пушкин почти не вникал, – но когда стали поступать первые гранки, он снова читал их сам, засиживаясь ночами при свечах.
В кабинете бушевал беспорядок. Стол был завален рукописями, еще влажными типографскими гранками и книгами. Несколько книг и связки бумаг валялись возле стола на полу.
Пушкин сидел в поношенном халате, из-за которого виднелся белый воротник рубахи, распахнутой на смуглой груди. Он был небрит, на веках глаз лежала краснота, обычная у людей, переутомивших зрение. Нынче ему хорошо писалось; стремительными строчками испещренные листки отбрасывались в сторону; иногда они падали на пол, и он не всегда поднимал их. Но вот перо сделало кляксу. Он кинул его и взял из вазочки другое. Это было очинено остро, как он любил. Но прервалась мысль, и Пушкин, задумавшись, принялся набрасывать на полях чей-то крючконосый профиль.
3Заслышав шаги, он живо повернулся в кресле и легкой походкой направился к Кольцову.
– Ну, здравствуй, здравствуй! – протягивая обе руки и улыбаясь, сказал Пушкин. – Давно хотел видеть тебя!
Он усадил Алексея в кресло, сам сел против него, потер руками колени и рассмеялся.
– Вон ты какой! Да не стесняйся, ты думаешь, я так уж болен? Вздор, вздор! Это я всем говорю, чтоб не мешали… А тебя ждал каждый день. Что ж не приходил?
Кольцов не отводил восторженных глаз от Пушкина. К его удивлению, тот страх, что так настойчиво в течение двух дней жил в нем, исчез бесследно.
– Я, Александр Сергеич, – сказал он просто, – царя не сробел, а к вам идти как надумаю – сердце заходится!
– Вот спасибо! С царем сравнил! Ну, милый мой, царь не в пример страшней. Слыхал я, Жуковский тебя к нему таскал?
– Позавчерашний день были…
– Ну, и чем тебя царь порадовал? Небось сказал: пиши, Кольцов!
– Как вы угадали? – удивился Кольцов.
– Я все знаю! – весело сказал Пушкин. – Он, царь-то, в тебе, понимаешь ли, символ народности видит.
– Да, верно! Там один какой-то еще и сказал государю: народ, ваше величество, счастлив, он песни поет…
– Ах, болваны! – Пушкин сорвался и зашагал по комнате. – Ведь народность-то, она у них знаешь ли в чем? Мужики с перепоротыми задницами, но в кафтанах праздничных встречают с хлебом-солью своего барина – народность! Девки крепостные в сарафанах пляшут на лужайке перед барским крыльцом, пляшут и знают, бедняги, что для того они тут пляшут, что какую-то из них выберет себе барин и приведут ее к нему на постель… И это – народность! Листок фиговый она, эта их народность!
Скрестив руки, остановился перед Кольцовым. Смуглое лицо его покрылось румянцем, в глазах сверкнули бешеные огоньки.
– Вот и тебя привели! Мужик, благодарный монарху, стихи от сладкой жизни сочиняет… А уж так ли, милый друг, сладка она, жизнь-то, у тебя?
– Какое сладка! С малых лет из куля в рогожку моя жизнь пересыпается…
Пушкин расспрашивал о Москве, его интересовало все, и вскоре Кольцов освоился совершенно. Смешно рассказал о московском профессоре, принявшем его за мистификацию, и о том, как Белинский представил его этому неверящему Фоме.
– То-то, воображаю, какую он рожу скорчил, – расхохотался Пушкин. – Нет, брат, ты им не по сердцу пришелся. В твоих песнях такие нотки прозвучали, каких до сей поры и не слыхивали.
Кольцов рассказал, как судит об этом Белинский.
– Вы с ним прямо как сговорились!
Пушкин много расспрашивал о Белинском.
– Этот отчаянный человек наделает хлопот нашим литературным чиновникам! – сказал Пушкин. – Ну, да и поделом. Ведь после «Литературных мечтаний» Булгарин и сон потерял… Вот бы к нам в «Современник» Белинского, славно бы мы с ним в четыре руки заиграли!
– Он, Александр Сергеич, и из Москвы достанет…
– Достанет, – согласился Пушкин. – Этот достанет!
4Скитания по степи, ночлеги у чумацких костров, длинные гуртовые дороги показались Пушкину поэтичными, и он сказал об этом,
– Да, оно так… – По лицу Кольцова словно облачко прошло. – Кабы не расчеты, не дрязги торговые, будь они неладны! Ведь что греха таить, в нашем деле подчас и обмануть приходится…
– Что ж делать! Обратная сторона медали не всегда хороша. А ты думаешь, со Смирдиным за стрючку торговаться сладко? Ох, брат, как нехорошо! А приходится, никуда не денешься… Но песен, – с какой-то даже завистью воскликнул Пушкин, – песен-то понаслушался!
– Да, песни у нас хорошие, – сказал Кольцов. – В песне люди настоящей жизнью живут. Все как в зеркале. Вон, когда холера была, послушали б, какие песни пели, – сердце разрывается…
– А всё – пели?
– Пели. Как стоном стонали. Да, песни у нас хорошие, – задумчиво повторил Кольцов. – Взять хоть бы нашу «Степь» воронежскую, старинную. Славно пели ее мои дружки-семинаристы…
Эх ты, степь моя, степь широкая, —
вполголоса запел Кольцов, —
Поросла ты, степь, ковылем-травой…
По тебе ли, степь, вихри мечутся,
На тебе ль орлы по пескам живут…
На тебе ли, степь, два бугра стоят,
Без крестов стоят, без приметушки,
Лишь небесный гром в бугры стукает…
Он не думал петь, да как-то само собой вышло. «Эк малый разошелся!» – Кольцов смущенно глянул на Пушкина. Тот сидел молча, опустив голову, смуглыми длинными пальцами теребил заросший рыжеватой щетиной подбородок.,
– «Лишь небесный гром в бугры стукает…» – проговорил медленно, смакуя слова. – Да в одной этой строчке поэзии на целый том хватит! «Лишь небесный гром…» Нет, подожди, это надо записать!
И под диктовку Кольцова он записал «Степь».
– А ты записываешь ли, что в деревне поют?
– Да нет, не приходилось, – ответил Кольцов.
Пушкин вертел в руках листок с записанной песней.
– «По тебе ли, степь, вихри мечутся…» – И вдруг, обратись к Кольцову: – Вот что, Алеша, – сказал, – ты не обижайся, что я тебя так зову. Давай-ка договоримся: будешь записывать песни и присылать мне. Впрочем, не только песни, все записывай – сказку, пословицу, прибаутка подвернется иль анекдот какой – давай и прибаутку с анекдотом!
– Да зачем же? – спросил озадаченный Кольцов.
– Печатать будем! Ведь это россыпь золотая.
– А ежели солона побрехушка?
– Ничего, давай и соленую!
Посидев еще немного, Кольцов стал прощаться.
– Подожди! – Пушкин взял с полки небольшую книжку, обмакнул перо и, что-то размашисто черкнув на титуле, подал Кольцову. – Это тебе на память… Прощай, нет, до свиданья! Приходи, когда вздумаешь! – крикнул вслед Кольцову. – Обязательно приходи!

5
На улице в туманной серенькой мгле тускло горели фонари. С моря тянул влажный ветер, шевелил волосы. Он сообразил, что вышел от Пушкина, забыв надеть шапку. Радостно засмеялся, надел шапку и под ближайшим фонарем развернул книгу. Длинным, косым, непередаваемо изящным почерком на титульном листе чернела надпись: «Милому другу Алексею Кольцову – Александр Пушкин».
– Святыня… – Он поцеловал надпись и бережно спрятал книжку за пазуху.
Ему хотелось громко, во весь голос, запеть, обнять близкого друга… да нет, что друга – всех обнять! Вон старушка в салопе ковыляет, – экая славная старушка! Вон фонарщик зажег последний фонарь, идет домой – и фонарщик чудесный малый. А вон извозчик, старичок, верно, озяб бедняга, дожидаючись ездоков…
– Эй, извозчик! В Измайловский полк!
Перед глазами на сгорбленной спине извозчика болталась желтая бирка с номером.
– Дед! – позвал Кольцов. – Ты Пушкина знаешь?
– Лександр Сергеича-то? – обернулся извозчик. – Как не знать, второй год возле их фатеры стоим… Ничего, хороший барин, стало быть, простецкий…
– Дед, я сейчас у него в гостях был!
– Ась?
– В гостях, говорю, у Пушкина был! – закричал Кольцов.
– А-а-а… Ну-к что же, ничего… Не велик пост, – закивал головой извозчик. – Вино и елей разрешается…
Кольцов засмеялся. «Вино! Тут, брат, и без вина пьян станешь… Господи, да вот же счастье привалило-то!»
6У Сребрянского сидел Феничка. Порожняя бутылка валялась под столом. На столе, между книгами и черепом, лежали огурцы, в луже рассола мокли хлебные корки.
– Ты? – равнодушно поглядел Сребрянский. – Опоздал, брат: опрокинули бутыленцию.
– Согрешихом! – прорычал Феничка.
– Андрюша! – крикнул Кольцов с порога. – А ведь я сейчас у Пушкина был!
– Врешь, поди, – вяло сказал Сребрянский. – Пыль пущаешь…
– Да нет, правда… экой ты! – Кольцов обнял друга. – Ей-богу, Андрюша! И ведь сам позвал… Ну, я заробел, не сразу осмелился, а вот нынче набрался храбрости…
Сребрянский тяжело, насмешливо поглядел на Кольцова.
– Эх, да и врать же ты стал горазд!
– Кой черт! – рассердился Кольцов. – Тебе говорю: был, значит – был! Да вот, – радостно спохватился. – Вот, гляди!
Раскрыв книжку, показал надпись. Феничка поправил свечу и, наклонившись через кольцовское плечо, прочитал вслух: «Милому другу Алексею Кольцову – Александр Пушкин!»
– Теперь-то хоть веришь? – торжествовал Кольцов.
Сребрянский долго разбирал надпись, молчал, даже, кажется, задремывал.
– На, возьми, – возвращая книгу, сказал сонным голосом. – Возьми свое сокровище… запри его на ключ. Как Кашкин… Куда ж нам теперь до вас: Пушкин… Кольцов…
– Да что с тобой, Андрюша?! – встревожился Кольцов. – Уж не захворал ли?
– Пьян! – буркнул Феничка.
– Пьян?! – вскочил Сребрянский. – Фенька, это я пьян? Я? Скотина! Да как ты смел?!
Он оперся руками о стол. Темные глазные впадины, худые, смертельно бледные щеки со ржавчиной неровного румянца, волосы, упавшие на лоб, – все это было так страшно, так не похоже на Андрея, что Кольцов растерялся.
– Что – пьян! – тусклые, затуманенные глаза смотрели куда-то мимо Кольцова, не мигая. – Эка штука, всякий дурак пьяным напиться может. Нет, ты вот попробуй, друг, себя осмысли! Ос-мыс-ли!..
Закашлялся и долго, мучительно кашлял, плевал в грязный платок и, видно, хотел что-то сказать. По щекам потекли слезы. Феничка сбегал за водой. Расплескав стакан, Сребрянский с жадностью выпил воду и повалился на постель.
– Лучше вы его оставьте, – шепнул Феничка, – это у него бывает… Гений наш семинарский!
Понурив голову, Алексей разглядывал давно не мытый пол: порожние бутылки, плевки, мусор.
– Феофан Петрович, – поманил Феничку. – Деньги у вас есть?
– Какие наши деньги! – горько усмехнулся Феничка. – Ведь я-то, совестно сказать, другой месяц у него на шее сижу… Да вы не беспокойтесь! – замахал руками, видя, что Кольцов достает бумажник. – Мне завтрашний день в капеллу велели прийти…
Кольцов положил на стол двадцатипятирублевую ассигнацию и молча вышел.
7Несколько дней он ходил, не находя себе места, не зная за что взяться, с чего начать. Радость от встречи с Пушкиным была омрачена обидой и болью за Андрея. Как могло получиться, что талантливый, умный, образованный Сребрянский превратился в горького пьяницу, не верящего ни в себя, ни в людей, ни в самое жизнь.
Андрей погибал, Кольцов видел это, но как, чем помочь ему, что сделать, чтобы Сребрянский вернулся к жизни, не знал. Неверов, когда он рассказал про гибель своего друга, только улыбнулся холодно:
– Явление заурядное. Этот город еще и не таких губил.
И начал ровным голосом произносить всем известные истины: что чрезмерное употребление вина вредно влияет на умственную деятельность человека, что каждый должен иметь ясную и четкую цель своей жизни, – и прочее и прочее.
Неверов надоел Кольцову, и он никак не мог понять, что сблизило двух таких противоположных по уму и темпераменту людей, как Станкевич и этот чопорный магистр.
Однако среди петербургских литераторов Неверов считался за своего человека. У него собирались писатели, поэты, журналисты, читали, спорили. У Неверова Алексей свел знакомство со многими литераторами.
Сам же Кольцов был новинкой, на него приходили поглазеть, его наперебой приглашали на вечера, обеды, в салоны. Интерес этот основывался на том именно, что он – прасол, погонщик скота, мужик. На его талант и ум поглядывали свысока. Прославленный Кукольник, например, при встрече с Кольцовым подал ему два пальца. Кольцов не заметил протянутой руки, усмехнулся и как ни в чем не бывало продолжал разговаривать с Краевским. При следующей встрече автор «Роксоланы» подал Кольцову руку почтительно, как равному, и преподнес экземпляр «Торквато Тассо».
Книги дарили все, Кольцов набил ими мешок.
На одном из литературных вечеров (у Плетнева) он снова встретился с Пушкиным. Здесь были Одоевский, украинец Гребенка, молодой Тургенев и жандармский офицер Владиславлев, который писал благонамеренные повести и собирался издавать (с благословения шефа жандармов графа Бенкендорфа) свой альманах.
Пушкин по-прежнему выглядел очень усталым или больным. Увидев Кольцова, он оживился, сел рядом с ним в стороне, и все время вполголоса, пока Гребенка читал какую-то свою украинскую повесть, болтал с Кольцовым. Пушкин очень смешно отрекомендовал ему каждого из собравшихся. Про Гребенку, который сочинял повести в духе гоголевских «Вечеров», сказал, что если бы сальный огарок вздумал подражать солнцу, то у него все-таки было бы больше огня, чем у Гребенки.
– А этот жандармский журналист, – намекая на Владиславлева, спросил Пушкин, – не выцыганивал ли у тебя стихов для своего альманаха?
– Спрашивал, – кивнул Кольцов. – Я дал несколько пьес.
– В таком случае, если тебе когда-нибудь случится сидеть на съезжей, то через его протекцию ты можешь получить дворянскую камеру…
Чтение кончилось. Слуги принесли чай и бисквиты.
– Я не собирался нынче читать, – сказал Пушкин. – Но у меня есть одна забавная безделка… Вот, Владимир Андреич, – обратился к Владиславлеву, – не возьмете ли, дешево отдам…
Жил-был поп,
Толоконный лоб…
Читал он хорошо, немного подделываясь под псковский говорок. Кольцов с восхищением глядел на него: «Великан! Где он научился этому мужицкому балагурству!»
– Озорная сказка, – заметил Одоевский, когда Пушкин умолк. – Ты, Александр, все шутишь…
– Нисколько не шучу, – пожал плечами Пушкин. – Ну что, Владимир Андреич, берете?
– Беру-с, – ухмыльнулся Владиславлев. – И на обложке помещу ваше имя. А печатать не буду-с. Извините.
– Вот спасибо, обрадовал! – насмешливо поклонился Пушкин и, сославшись на нездоровье, стал прощаться.
8Когда он ушел, Владиславлев сказал:
– Препустая, однако, вещица. Кто бы мог ожидать от Пушкина?
Князь Одоевский покачал головой и грустно вздохнул:
– Не узнаю Александра! Он стал разменивать свой гений на шутки. Мне больно за него…
– Да-а, – протянул Плетнев. – К сожалению, это так. В ряде сказок…
– Нет, почему же, – перебила его жена. – В них есть премиленькие места, и если бы не эта вульгарность…
– Вот именно, вульгарность, – согласился Плетнев.
– Помилуйте, что – вульгарность! – раздраженно возразил Владиславлев. – В них карикатура на такие святые для русского человека понятия, как религия, монарх! Возьмите «Золотого петушка»… За такие штучки высылать надо-с! И если бы это был не Пушкин…
– Позвольте, господа, – вступил в разговор Кольцов. – Я не согласен с вами. Как можно так говорить о величайших творениях русского гения! Да ведь это сама Русь в Александр Сергеичевых сказках… Это так ясно-с! Другая речь, что иной раз солоноваты они… ну, да уж где же сказка без соленого словца!
– Вот как? – прищурился Владиславлев. – Этак, милейший, и пересолить недолго.
Желая замять неприятный спор, Плетнев попросил Алексея прочитать стихи.
– Ну, что вы, увольте! – наотрез отказался Кольцов. – У меня и нет ничего… да и как бы я стал читать свою мелочишку, когда тут только что сам Александр Сергеич читали!
Высокий красивый юноша в студенческом мундире, разговаривавший с князем Одоевским, обернулся к Кольцову и пожал ему руку.
– Нас не представили друг другу, моя фамилия Тургенев. Ваше суждение о сказках Пушкина очень верно. Рад познакомиться с вами.








