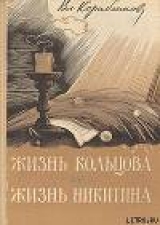
Текст книги "Жизнь Кольцова"
Автор книги: Владимир Кораблинов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
Аполлон Мокрицкий, ученик знаменитого Венецианова, писал большую картину, которая называлась «Суббота у Жуковского». На ней изображались литераторы, собиравшиеся раз в неделю у Жуковского. На знакомом сафьяновом диване сидели Пушкин, Крылов, князь Вяземский. Поодаль, возле книжных полок, стоял Одоевский. Хозяин, опершись на бюро, что-то рассказывал гостям. Работой молодого художника руководил сам Венецианов.
Прослышав, что Кольцов в Петербурге и уже не раз побывал у Жуковского, он задумал изобразить на картине и его. Жуковскому эта мысль пришлась по душе, он пообещал известить Кольцова и спросил Венецианова – куда прийти ему позировать.
– Да я его у себя в мастерской напишу, – решил Венецианов.
Получив записку Жуковского, Алексей отправился к знаменитому художнику.
Небольшая мастерская Венецианова была заставлена мольбертами, подрамниками, гипсовыми слепками, какими-то подмостками. В углу виднелись грабли, косы, прялка; на стульях и на полу валялись цветные платки, сарафаны, лапти и даже старый хомут. На подмостках стояла молоденькая девушка в синем сарафане. Опустив глаза, задумавшись, покусывала соломинку. Молодые художники, окружив помост, писали ее. Писал и сам Венецианов.
Увидев вошедшего Кольцова, он бросил кисти на табурет, полою серого халата вытер руки и пошел навстречу гостю.
– Вот хорошо, что пришел! – добродушно приветствовал Алексея. – А я было уж сомневался: известили ли? Иди сюда… Ты ведь не откажешь старику, постоишь часочек?
– Господи, Алексей Гаврилыч, да я хоть весь день стоять согласен! Василий Андреич писал, да я, сказать по правде, маленько не понял, для чего вы меня стребовали…
Венецианов повернул один из мольбертов, и Кольцов увидел почти законченную картину.
– Неужто ж вы и меня сюда поместите? – испуганно спросил Алексей.
– Всенепременно! – Венецианов щелкнул ногтем по пустому месту в центре картины, между диваном и бюро. – Вот тут ты, дружок, и станешь. Что?
Кольцов и руки опустил.
– Я?! Да что вы, Алексей Гаврилыч… Больно честь высока!
Венецианов порылся в карманах, вытащил табакерку, понюхал, с наслажденьем чихнул и вытер огромным платком выступившие слезы.
– Честь! – передразнил сердито. – Кому честь? Это князю Петру Андреичу с этим вот хлюстом (он ткнул табакеркой в Краевского) – им великая честь с тобой рядом быть… Ты сядь! – указал на диковинное деревянное кресло, сделанное из дуги, тележного колеса и еще каких-то предметов сельского обихода. – Ты сядь! – повторил Венецианов.
В небольшом, с холщовой крышкой альбомчике принялся быстро чертить карандашом, то и дело внимательно взглядывая на Кольцова и продолжая разговор.
– Видишь ли, – журчал негромко, по-стариковски, – у нас с тобой – одна тема: мужик. И – заметь – мужик, какой он есть, настоящий, без прикрас. Вот тут, слышь, и начинается крик: грубо! Пошло! Высоких чувств нету! Про меня, брат, чего-чего не писали… В «Пчелке» намедни какой-то стрекулист тиснул, что господина Венецианова картины овчиной и дегтем воняют. А? Нет, Алексей Васильич, рабовладелец никогда не простит художнику, ежели он раба, то есть вещь его, изобразит не вещью, а человеком! Но мы-то с тобой, – Венецианов весело блеснул очками, – мы-то ведь, по сути дела, и сами мужики! И кто-кто, а уж мы с тобой расчудесно понимаем, что мужик – не вещь! Да-с…
Венецианов запальчиво огляделся вокруг, поднял на лоб очки, засмеялся.
– И это очень хорошо, что вот здесь, – указал на картину, – центральное место будет занимать не князь и не граф, а мужик! Пора, давно пора искусствам нашим к подлинной жизни лицом своим оборотиться!.. И вот, – торжественно поднял палец, – и вот в музыке мы видим Глинку, на подмостках театральных – Щепкина, в поэзии – Кольцова… Вот так-то, любезнейший Алексей Васильич! – ласково потрепав Кольцова по плечу, заключил Венецианов. – А ты говоришь – честь!
10Дела были закончены. По одному из них в Сенате (благодаря вмешательству Вяземского) состоялось решение в пользу Кольцова, а по другому князь Одоевский написал письмо воронежскому вице-губернатору, и можно было ожидать благоприятного решения в Воронеже.
Приближалась весна. На бледном небе Петербурга все чаще показывалось солнце. Давно пора было ехать ко двору, да приходилось со дня на день откладывать отъезд: то Венецианов тащил в Эрмитаж, куда в то время еще не допускалась широкая публика и можно было попасть лишь по записке Жуковского; то Неверов, дописывающий биографию Кольцова, просил пожить в столице еще немного, чтобы прочесть ему ее всю целиком; то слег Сребрянский, и приходилось подолгу просиживать у его постели, ухаживая за ним, читая ему вслух.
Из новых знакомых Алексею больше других понравились Панаевы, и он несколько раз гостевал у них. Панаев был франт, весельчак; он много и добродушно смеялся, когда Кольцов рассказывал о своих питерских похождениях, о том, как свысока и по-барски принимают его кое-какие литераторы, видя в нем мужичка-простачка.
– Взять хоть бы того же Гребенку, – говорил Кольцов. – Слов нет, славный господин, но как посмотрит на тебя этак поверх головы – фу ты, боже мой! А ведь не глупее же я Евгения Павлыча!
Так шли дни, таяли деньги. Кольцов вывернул наизнанку кошелек и пересчитал мелочь – и до заставы не доедешь… Мелькала мыслишка призанять у знакомых, да просить было стыдно.
Наконец он признался Неверову. Тот холодно изъявил сожаление, что бессилен помочь, ибо сам не при деньгах, но посоветовал поговорить с Краевским: этот господин хоть и скуп, а даст, потому что имеет виды на Кольцова. Краевский в самом деле принес деньги, и Кольцов стал собираться.
11В Москве еще лежал снег, держались морозы, а за Ельцом пошли черные поля, теплынь, жаворонок висел в нежном весеннем небе. От земли подымался легкий пар, синели задонские холмы и лесочки. Дорога была трудна; потные лошади шлепали по вязкому чернозему, колокольчик лениво, кое-как позвякивал. До Воронежа оставалось верст тридцать. На последней перед городом ямской станции смотритель голенищем старого сапога раздувал самовар.
– Лошадей-то, сударь ты мой, нету и нету, – поглядев из-под очков на Кольцова, скучно сказал он. – И скоро не жди. Вот посиди, чайку попей, глядишь, и лошадки подоспеют… Не фельдъегерь, не к спеху.
Смотритель наставил на самовар трубу, отошел к конторке и начал что-то записывать в большую служебную книгу. Тут за окном залопотал колокольчик и с грохотом подкатил тарантас.
Рослый офицер в забрызганной грязью шинели, гремя саблей, вбежал в избу и бросил на конторку свою подорожную.
– Лошадей, сударь… – зазудел было смотритель, но офицер, увидев Кольцова, бросился к нему и сжал в богатырских объятиях.
– Саша! – обрадовался Кольцов. – Вот так встреча! Чуть не разминулись… Ну как ты тут?
– Что я! Ты как? Рассказывай, что в Питере? Пушкина видел?
– Не только видел, а вот так, как мы с тобой, рядом сидел, разговаривал… Что за человек – ну как расскажешь! Ведь он, гляди-ка, чем одарил меня…
Алексей расстегнул кафтан и достал из-за пазухи мешочек. Бережно развязав шнурок, вынул книжку и, развернув ее на титуле, подал Карееву.
– Святыня!
– Ну, Алеша! – Кареев прочитал надпись. – Это, брат, и слов нету!
Карееву подали лошадей.
– Прощай, друг! – обнял он Кольцова. – А я ведь тоже в Питер и, кажется, надолго, раньше зимы не жди…
Поцеловал Алексея и пошел к двери. Уже сидя в тарантасе, крикнул:
– А ведь и я, может, Пушкина увижу! Вот бы счастье!
Глава седьмая
Всему конец – могила;
За далью – мрак густой;
Ни вести, ни отзыва
На вопль наш роковой.
А. Кольцов
1
Василий Петрович, когда Алексей рассказывал о своей жизни в Питере, ничему не верил и насмешливо поглядывал на сына из-под нависших бровей. Рассказ же о приеме во дворце даже встревожил старика.
– Ох, Алешка… Ты бреши, бреши, да не забрехивайся! Дело нешуточное, языком трепать понапрасну нечего.
Однако дела в Сенате были решены хорошо, письмо к вице-губернатору лежало в кармане; значит, рассуждал Василий Петрович, тут хоть и не без брехни, конечно, но что-то и взаправду было. «Ах, сукин сын! – сокрушался старик. – Цены б не было малому, коли б не эти песенки, шут их возьми!»
В Воронеже стали посматривать на Алексея с некоторой опаской: кто ж его знает, с князьями запросто, вон, болтают, у царя был…
Василий Петрович смекнул, что такие слухи об Алексее в делах не повредят, и стал хвастать сыном, где только придется. Однажды зашел в лавку к купцу Мелентьеву. Тот усадил Василия Петровича, взялся угощать чаем.
– Да, – между прочим заметил Мелентьев, – вот ты все на сына жалился, а гляди – в гору пошел Алексей-то!
– Бога гневить не буду, Алешка – малый с головой. Как из Питера возвернулся, так иде там! Песни его в книжке отпечатали, житие описали… Да верно так, леший его задери!
– Ну, так ведь что же… Сам государь император за ручку здоровкался… тут уж чего!
– Там, брат, в Питере-то, – выхвалялся Василий Петрович, – вкруг его и князья и графья взбегались: «Алексей Васильич! Алексей Васильич! К нам пожалуйте!» А он: «Ладно, говорит, другим разом, сейчас, мол, недосуг: во дворец поспешаю!»
«Житие», о каком в мелентьевской лавке поминал старик, была та самая сочиненная Неверовым биография, которую напечатали в одной из летних книжек «Сына Отечества». Неверов прислал Кольцову этот журнал, и Василий Петрович кликнул Анисью и велел прочитать ему вслух «Алешкино житие».
– Ну, паралик вас расшиби! – удивлялся он. – И с чего это взялись за Алексея? Невелика птица, чтоб его жизню описывать!
Статья Неверова ходила в Воронеже по рукам.
2В квартире гимназического учителя Добровольского за ломберным столом сидели гости: преподаватель латинского языка Дацков, математик Долинский и Придорогин, молодой человек из купцов, собиравшийся поступать в Московский университет.
Супруги Добровольские хлопотали возле закусочного стола.
– Баста! – решительно сказал Долинский, хмурый человек со сросшимися седоватыми бровями. – Финита ля комедия. Получи-те-с…
Он положил на зеленое сукно проигрыш.
– Не повезло, Семен Яковлич? – любезно посочувствовал хозяин.
– Куда там! В пух и прах проигрался, – мрачно пробурчал Долинский. – С ними хоть не садись, право…
– Рискованно играете, – пряча выигрыш и показывая гнилые зубы, захихикал Дацков. – Нерасчетливо-с!
– Ну что ж это Иван Иваныч-то? – забеспокоился хозяин. – Сулился быть, журнальчик свежий принесть – и вот тебе!
– Господин Волков поэт-с, – ухмыльнулся Дацков. – А поэты – народ известный, все больше по звездам-с!
– Ну, не скажите, – заметил Долинский. – Вон Кольцова нашего возьмите: поэт, поэт, а вчерась иду по базару – гляжу, он с полков салом торгует…
– Коммерция! – вставил Придорогин. – Житейское дело.
– Да и какой он поэт? – Дацков презрительно оттопырил нижнюю губу. – Шум подняли, потому что из необразованных. А я скажу – мелкая его поэзия, копеечная…
– А вы, Иван Семеныч, различаете поэзию на деньги? – с приятной улыбкой снова встрял Придорогин.
– Это я фигурально, разумеется. В том смысле, что мелкие чувства. Возьмите из новейших: Кукольник, князь Вяземский…
– Эка! Так то – князь…
– Ба, ба! Вся гимназия налицо! – воскликнул Волков, шумно врываясь в комнату. – Эмилия Егоровна! Семен Яковлич! Иван Семеныч! Мосье Придорогину нижайшее!
Волков был вертляв. Фалдочки фрака словно летали за ним.
– Нуте, господа, вот чудо так чудо! – в веселом недоумении обвел он взглядом всю компанию. – Чему теперь удивляться?
– Что такое, Иван Иваныч? Не томите, рассказывайте! – Все обступили Волкова.
– Да вот-с! – Волков потряс книжкой журнала. – Вот-с, все про Кольцова нашего… И чем он, каким зельем опоил их там, в столицах! Мало, что песенки его пустячные в журналах тискают, так вот еще, извольте-с! «Сын Отечества» его жизнеописание помещает! Извольте послушать: «Вышел из училища. Кольцов начал помогать отцу, ездил с ним в поле для надзора за скотом и зимою ездил на базары с приказчиками для забора и продажи товаров…» Каково-с? Подумаешь, какие события: ездил на базары! Или вот… «Ходя босиком по болотам и лужам, мальчик Кольцов до того испортил свои ноги, что почти лишился способности ходить…» А? «Четьи минеи», да и только!
– Непостижимо-с! – развел руками Дацков.
– Ну-с, господа, – потирая руки, вмешался хозяин. – Оставимте поэзию, перейдем к прозе… Пожалуйте к столу!
3А Кольцов тем временем вторую неделю колесил по степи.
На троицын день он остановился в большом придонском селе. Село раскинулось по горе над рекой. Широкую улицу убрали молодыми березками. По-праздничному одетые молодые бабы и девки лениво бродили по зеленому выгону, сидели на завалинках чисто выбеленных к празднику хат.
Кольцов вышел на крыльцо. Улица сбегала по горе к лугам, к голубой ленте Дона. Где-то пели протяжную песню. Он пошел в ту сторону.
Как у князя было, князя,
У князя Волконскова,
Собиралася беседа,
Беседа веселая,
Она пила и гуляла, —
низким, почти мужским голосом выводила краснощекая бабенка в кокошнике и в сарафане, увешанная стеклянными бусами.
Она пила и гуляла, —
подхватили женские голоса, —
Она пила и гуляла,
Прохлаждалася,
Молодыми женами
Князья выхвалялися.
Кольцов молча поклонился старикам, присел рядом на завалинку, достал тетрадку и принялся записывать. Это было очень трудно, потому что хор часто опережал его, некоторые слова в пении казались невнятны. Приходилось в строчке оставлять пустое место.
– Списываешь, стал быть? – толкнув клюкою, прошамкал древний зеленобородый дед.
– Списываю, дедушка…
– Ну, ничего, списывай, – согласился дед. – Ты им, кобылам, ишшо винца поставь, – они тебе не токма песню – чего хошь наплетут…
Не хвались, Волконский князь,
Ты своей княгиней, —
стонали женские голоса, —
Как твоя ли та княгиня
Живет с Ванькой-клюшником,
Живет-поживает —
Ровно три годочка… —
подхватили певцы и замерли с подголоском, чтобы снова уступить место запевале.
Когда кончилась песня, все окружили Кольцова. Бойкая чернявая бабенка заглянула в тетрадку.
– Ба-а-бы! – всплеснула руками. – Глянь-кось, крючкёв-то понаставил! Это что ж будя?
– Да вот хотел песню вашу записать, – объяснил Кольцов, – да кой-чего не схватил… Вот кабы вы, милые бабочки, еще б разок спели.
– Почему не спеть, – молвила краснощекая запевала.
– А винца поставишь? – высунулась чернявая. – Так мы хучь и всю ноченьку, до свету!
Старики засмеялись.
– Вишь ты, Васенка, разлакомилась! – погрозил ей палкой тот, что говорил с Кольцовым. – Бесстыжая, пра, бесстыжая…
– Дядя Савелий! – окликнул Кольцов мужика, стоявшего на пороге избы. – А что б нам и правда горлушки пополоскать?
– Дюже пересохло! – не унималась Васенка. – Першит, да и на!
– Будя брехать-то, – дернула ее за рукав запевала.
Как у князя было, князя, —
затянула она.
Кольцов снова склонился над тетрадкой.
4Дядя Савелий принес два полштофа, жбанчик с бражкой и большой картуз пряников.
– Вчерась варил, – похлопал по жбану. – У-у, забориста! Да что ж тут-то? В избу пожалуйте… Хоть и тесновато будет, ну, да всем место найдем.
Бабы засовестились.
– Да уж мы лучше тута, – степенно поклонилась запевала.
– Ну, глядите. – Савелий налил вино в пузатый стаканчик. – Была бы честь, верно, Василич? Верно, старики?
Старики выпили, перекрестившись. Бабы сперва жеманились, жмурились, качали головами. Наконец Васенка сказала: «Ну, нешто пригубить!» – и выпила одним духом.
– Вот это да! – засмеялись старики. – Ну, ей что – вдовье дело!
Солнце стало уже над садами. От Дона повеяло вечерней прохладой. Белые стены хат сделались красноватыми.
Ты заря ль, моя зоренька,
Ты вечернее солнышко, —
потихоньку запела краснощекая, —
Высоко ты всходило,
Далеко светило…
Пели вполголоса. Песня была печальная, она как бы замирала вместе с последними лучами заходящего солнца.
Через лес, через поле,
Через синее море…
– А ну вас! – плюнул Савелий. – Чисто по покойнику завели. А нукося! – Он притопнул ногой и зачастил:
Волвена-волвенушка,
Белая белянушка!
– И-их! Их! Их! – вскрикнула Васенка.
Как тебе зимою быть,
Как тебе холодною!
Бабы вскочили и пошли в дробном переплясе, приговаривая:
Я морозу не боюсь,
Я в куст схоронюсь!
– Чище! Чище! – подзадоривал Савелий. – Как, Ляксей Василич? Во как у нас! Мы, брат, тебе ишшо и не то покажем! Эх, и душевный же ты человек, Василич… Легко с тобой, право слово, легко!
– При пире, при беседе, – прошамкал старик с клюшкой, – дружьев-братьев много, при горе, при печали – нетути никого… Что, Василич, ай не так говорю?
5Утром Алексей переправлялся на ту сторону Дона.
Солнце только всходило, над рекой клубились белые хлопья тумана. Стояла тишина. Было слышно, как шумит на перекате быстрое течение могучей реки. По крутым холмам противоположного берега сбегал к воде дубовый лес. Внизу, у самой воды, белели четыре хатенки. Это был хутор Титчиха.
Взошло солнце и развеяло туман. Паром двигался медленно, казалось, он стоял на месте, лишь черная вода на глубине, по которой плавали, кружась, огненные солнечные баранки, слегка звенела и переливалась.
Кроме Кольцова на пароме переправлялись Савелий и та чернявая Васенка, что вчера плясала и просила винца. Савелий ехал в лес за хворостом; Васенка ночевала в селе у матери и возвращалась домой – в Титчиху.
– Небось шумит головушка с похмелья-то? – подмигнув Кольцову, спросил у Васенки Савелий.
– Как же! – сверкнула зубами Васенка. – По мне хучь ишшо так-то!
– Вот он, Федька, тебе виски-то причеша, – сказал Савелий. – Эвось, он не тебя ль дожидается?
– Да а что он, муж мне ай свекор? – вздернула круглыми плечами Васенка. – Чисто, прости господи, арипей прицепился со своим Федькой!
Сказав это, она отвернулась и, точно ненароком, глянула на берег, к которому подходил паром. Там стоял молодой, с русой, чуть пробивавшейся бородкой парень в чистой рубахе, в сапогах и накинутом на плечи армяке. Савельева телега с грохотом съехала с парома; Кольцов под уздцы повел своего Франта. Васенка звонко рассмеялась и, виляя бедрами, быстро пошла к хутору. Парень угрюмо поглядел ей вслед.
– Федор! – окликнул его Савелий. – Где прочищать-то? Как анадысь, возле Мохового?
– Да а то где же! – с досадой ответил Федор и, поправив на плечах армяк, медленно побрел за Васенкой.
Некоторое время Кольцов и Савелий ехали вместе. Кольцовский Франт тянулся мордой к телеге и все норовил ухватить из-за грядушки клочок сена.
– Энтот Федор – лесник, – пояснил Савелий. – Путается, стал быть, с Васенкой… Присушила, что ли, она его, шут их знает!
– Да ведь она вдова, он бы женился, – сказал Кольцов.
– Женился! А свою куды ж девать?
– Что ж у него, плоха баба, что ли? – спросил Кольцов.
– Какой плоха! Ты, Василич, не поверишь – краля! Васенка против ей стручок и стручок… А вот прилип и – шабаш! Я так смекаю: приворожила, а? Ты как думаешь?
Кольцов рассмеялся.
– А ты погоди грохотать-то, – обиделся Савелий. – Есть, слышь, такое слово… Я верно знаю.
– Что? Слово знаешь?
– Кабы не знал, не говорил бы…
– Ну, скажи, коль знаешь.
– То-то вот, скажи!.. Ну, ладно, слухай… Никому не говорил, а тебе скажу. Пойди в лес, – оглянувшись, тихо промолвил Савелий, – найди сухую шкуренку змеиную, на утренней зорьке надень ее на сухую осинку и так скажи: «Раб божий, пришейся ко мне кожей. Арц! Арц! Арц! Кто железный тын лбом пробьет, кто медные листы языком пролижет, кто сорок тыщ замков кулаком собьет, тот раба божьего возьмет. Аминь!»
Кольцов записал заклинание в тетрадку.
– Спасибо, дядя, – сказал. – Ну, я поскачу! – И, попрощавшись с Савелием за руку, тронул Франта каблуками и поскакал вперед.
6И вот все лето, где бы ему ни приходилось бывать, он записывал песни, поговорки, пословицы, соленые шутки, анекдоты. В его сумке накопилось несколько тетрадок, исписанных карандашом, с кривыми и дрожащими (если запись делалась на ходу, в седле) строчками, со стершимися или подмоченными дождем листками. «Ничего, – думал Кольцов, перебирая тетрадки, – зимою разберемся, приведем в порядок да и к Александру Сергеичу – в добрый час!»
Он написал Краевскому, что собирает песни и, если нужно, пришлет и ему. «Ну, уж какая скука их собирать! – писал Кольцов. – С этими людьми, ребятами, сначала надобно сидеть, балясничать, потом поить их водкою и пить самому с ними зачеред. Потом они затянут, а ты с ними, пишешь и поешь. Только я за них взялся крепко: что хочешь делай, а песни пой – нам надобно!»
Краевский ответил, что будет печатать хорошие песни, и просил присылать.
Сам же Кольцов писал мало. Однажды в степи, на перекрестке двух дорог, он увидел одинокую могилу. Она еще не заросла травой, на белом камне грелась зеленая ящерка. На кресте, нахохлившись, сидел кобчик, ветер ерошил его перья.
Алексей вспомнил далекую могилку в царицынской степи, сердце сжалось. Он слез с коня и долго сидел возле креста. После написал стихи:
Чья это могила,
Тиха, одинока?
И крест тростниковый
И насыпь свежа?
И чистое поле
Кругом без дорог?
Чья жизнь отжилася?
Чей кончился путь?
В сентябре отец послал его верст за пятьдесят от Воронежа с лесорубами. Стояла ясная осень. В лесу было тихо и пестро. Деревья рыжели лисьей шкуркой, алели кумачом. На ямах заболоченной реки Усманки билась щука. По ночам слышались неясные шорохи, хруст и легкий шум упавшего деревца. Старик артельщик говорил, что это болотные черти – шишиги. Это были бобры. Тихими холодными вечерами в логу выли годовалые волчата. Наконец вырубка кончилась, и в начале ноября Кольцов приехал в Воронеж.








