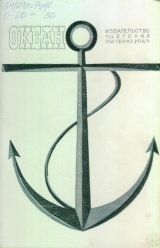
Текст книги "Океан. Выпуск десятый"
Автор книги: Виталий Коржиков
Соавторы: Андрей Некрасов,Виктор Дыгало,Виктор Федотов,Евгений Богданов,Николай Флеров,Юрий Дудников,Николай Ильин,Александр Миланов,Владимир Павлов,Иван Слепнев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
Капитанские вахты в проливах привычны, но утомительны. Вроде ничего особенного не делаешь: смотришь вперед и по сторонам, назначаешь затверженные наизусть курсы, прогоняешь сонливость кофе или чаем, а выйдешь из пролива – и облегченно вздохнешь.
Капитан Тулаев посмотрел за корму. Там, в самом узком месте Ла-Манша, в проливе Па-де-Кале, вдоль и поперек, в разных направлениях двигались суда. Бойкий пятачок! Когда же англичане столкуются с французами и построят под ним железнодорожный туннель? Авось уменьшилась бы суета…
Иван Карпович поймал себя на мысли, что ему не хочется думать о предстоящем приходе в Амстердам. Даже смотреть вперед на равнодушную, свинцовую гладь Северного моря не хочется. Оно вечно нагоняет тоску.
Но хочешь не хочешь, а смотреть вперед, на Северное море, надо, думать об Амстердаме – тоже надо. Там живет Антони Бен Крокенс. Кто он Тулаеву? Ни сват ни брат, а, поди же, не выходит из головы.
Прошло чуть больше года, как в Москве был окончательно решен вопрос о спасении «Атлантика». Каждый получил по заслугам. Уж если Тулаеву досталось на орехи, надо полагать, что Крокенсу досталось больше всех.
Впрочем, здравомыслящий человек не обвинит капитана за пожар в машине. Только много ли на берегу таких здравомыслящих, когда речь идет о морской катастрофе? Ой, мало… Все говорят об объективности, а на деле – сплошной субъективизм.
Ну, ошибся капитан Тулаев? Ошибся. Виноват? Виноват. Он ведь не изворачивался, как у́ж, и, несмотря на промахи, остался капитаном. А как Крокенс?
Статья в газете была. Она застала Ивана Карповича в отпуске, у родных в Сибири. Ахи, охи, телеграммы и звонки. Один дед сказал: «Слава богу, что ты уцелел», а другой спросил: «Портки-то не обмочил?»
Так почему же на душе пасмурно? Крокенс! Как он там? Жив? Здоров? Остался ли в капитанах?
Если бы все начать сначала! Не было бы никакого конфликта с английским спасателем, с агентом фирмы «Атлантик». Не было бы спора в Москве, где определялась доля участия «Воронежа» в спасательной операции.
Когда в святое дело спасания людей и судна пробивается запах денег, оно теряет первозданную чистоту. Ллойдовский принцип «Без спасения нет вознаграждения» правомерен, но разве думали о нем моряки «Воронежа», отправляясь на взрывоопасный «Атлантик»? Нет и еще раз нет. Они рисковали, чтобы обуздать стихию, угрожающую тысячам людей разливом нефти. Да и супертанкер – творение человеческих рук – тоже жалко. Советские моряки рисковали ради святого принципа взаимопомощи на море, записанного испокон веков в судовые уставы всех народов.
В голове, правда, не укладывалось поведение людей Крокенса. Они ведь тоже моряки, и не робкого десятка. Это доказали второй механик, негр-моторист, радист и сам капитан. Почему же пасовали остальные? Неужели в погоне за страховкой они обрадовались пожару, уничтожившему их родной дом?
Низкий берег Голландии был еще не виден, когда впереди показались заводские трубы и красная крыша белой водонапорной башни. В точке встречи лоцманов патрулировало небольшое чистенькое судно с гигантским государственным флагом на гафеле и № 1 на скуле.
– Только для нас! Королева Юлиана выслала для встречи свой лучший лоц-бот, – пошутил Тулаев, приглядываясь к новому старпому, отдающему распоряжения по приемке на борт лоцмана.
Подход к аванпорту Амстердама Эймейдену, шлюзование, безукоризненные действия лоцманов, буксиров и экипажа танкера все это отвлекло мысли Тулаева от прошлого. Но едва судно набрало положенную скорость в Нордзе-канале, он снова вспомнил о Крокенсе.
Что за человек Крокенс? Тулаев с ним и пятидесяти граммов соли не успел съесть. Отсюда неуверенность в оценке собственных поступков, имеющих отношение к судьбе этого полузнакомого человека. Может, не стоит ему звонить? Оставить все как есть: прошлого не вернешь, а будущего у них нет, и не надо… Ведь не спросишь напрямую, как бы он поступил, оказавшись на месте Тулаева?
Что бы сделал капитан Крокенс, увидев малюсенький сигнал бедствия? Неужели прошел бы мимо? К сожалению, у них такие случаи бывали…
Танкер Тулаева уверенно пронес свое крепко сколоченное тело сквозь узкий пролет разводного моста Хомбрюг и, коротко рявкнув тифоном, пошел вправо, оставляя слева по корме знакомый городок Заандам.
Капитан бывал там несколько раз, выработал определенный ритуал: цветы к подножию памятника Петру I на Даймплац, русский сувенир хранительнице Домика Петра Валентине Блом. Среди полустертых надписей, испещривших стены и потолок Домика, он находил автограф Наполеона: «Для истинно великого ничто не является малым» – и возвращался на судно с чувством гордости за основателя российского флота, которому служил сам Тулаев в меру сил и способностей.
Когда закончились встречи и проводы портовых властей, беседы с агентом и грузополучателями, подписание всевозможных документов, Тулаев снял телефонную трубку и набрал номер Крокенса. Не окажись он дома, Иван Карпович скорее обрадовался бы, чем огорчился.
– Хелло, Джон! Вы ли это? Какими ветрами? Я очень, очень рад! – кричал Крокенс, и Тулаеву стало стыдно. – Где вы стоите? Я немедленно выезжаю за вами. Моя жена и дети горят желанием познакомиться с вами.
На судне Крокенс забыл про голландскую сдержанность и дал волю филиппинскому темпераменту, унаследованному от матери. Восторги, комплименты Тулаеву, дружелюбные улыбки так и сыпались из него, как из рога изобилия.
– Помните, Джон, я спрашиваю у мистера Максака, как же мы откроем подплавившийся сейф? Он плюнул на ладони, взял лом и… раз! Все секретные швейцарские замки полетели ко всем чертям!
– А помните, Антон, как мы первый раз шли к «Атлантику»? Невольно думалось: как ахнет! Не успеешь спеть «Легко на сердце от песни веселой»…
Они мчались в машине вдоль безлюдного нагромождения портовой техники по автостраде, а мысли их столкнулись в одной точке Атлантического океана…
Загородный дом Крокенса утопал в цветах. Они привораживали взгляд к палисаднику и к широкому окну нижнего этажа, заставленному цветами в горшочках. Сквозь окно, как в телевизоре, объемно виделась гостиная. Зато окна верхних помещений, в которые заглянуть невозможно, были плотно зашторены.
Тулаев слышал легенду, что со времен кровавого правителя Нидерландов герцога Альбы голландцам под страхом смерти запрещалось задергивать занавески на окнах, чтобы в домах не зрели заговоры против испанского короля. Альба давным-давно сгнил в могиле, а обычай остался. Голландцам нравится держать свои гостиные напоказ.
Мадам Крокенс и сын Альберт усадили гостей за стол. Кругом ни соринки, ни пылинки, в серванте и на книжных полках порядок. Подали легкий коктейль и кофе. На мотороллере примчалась дочь Джудит.
Она извинилась за свой небрежный вид: джинсы и мужская рубашка навыпуск, подпоясанная узким ремешком, – и убежала наверх. Вернулась опять-таки не в платье, а в белых джинсах и ролинге. Вся белая, гибкая, улыбающаяся. Джудит принесла альбом и попросила Ивана Карповича что-нибудь написать на память. Тот подумал и написал: «Дети должны идти дальше отцов. Капитан Тулаев».
– А теперь я повезу вас в ресторан! – весело воскликнул Крокенс. – «Олимпия», «Моби-Дик», «Буканьер» – выбирайте!
Все шло как-то не так. Любезно, но не от души. Тулаева раздражал чрезмерно, театрально веселый Крокенс. В машине он не выдержал и спросил:
– Не могу понять: вы на самом деле счастливый человек, Антон? Или хотите им казаться?
– Джон, истина в вине. Выпьем, и вы поймете. Вам я обязан. Я был разбит, уничтожен катастрофой «Атлантика». Вы вернули меня к жизни, к любимой работе. Фирма высоко оценила героизм ваших моряков, а заодно и мой.
– Хеппи энд! – язвительно воскликнул Тулаев, которого мучительно донимал вопрос: вернул бы Крокенс его, Тулаева, к жизни таким же способом или трусливо провел бы свой супертанкер мимо охваченного огнем «Воронежа»? – Отвезите, пожалуйста, нас на судно.
– Вам не хочется в ресторан, Джон? – спросил Крокенс.
– Нет.
– Хорошо, сэр. По дороге я покажу вам город, нашу картинную галерею…
В музее Крокенс, минуя несколько залов, сразу привел русских гостей к «Автопортрету» Рембрандта. Им повезло. Посетителей было мало, и они оказались одни перед ликом старого, умудренного жизнью художника. Крокенс шепотом сказал:
– Я беседую с ним часами.
Тулаев не мог отвести взор от всепонимающих глаз великого мастера. Они как бы говорили ему: «Не спеши. Не суетись. Верь людям, как веришь самому себе. Человек велик в деле. Никто заранее не знает, на что он способен…»
Иван Карпович догадался, что Крокенс не случайно привел его к своей любимой картине. Нет, с человеком, думающим только о себе, себялюбцем и эгоистом Рембрандт не станет разговаривать часами. Мелкие душонки, приспособленцы, предатели и лжецы не задерживаются в этом зале. Спасибо тебе, великий Рембрандт. Ты снял камень с души капитана Тулаева, и он понял, что за человек этот Антони Бен Крокенс.
А. Миланов
МОНОЛОГ СЕЙНЕРА
Я сейнер. Мне волны помяли бока.
Я рыбой пропах от киля до клотика.
Но все-таки люди меня, старика,
Считают незаменимым работником.
Удел моих братьев, мой личный удел —
Трал за кормой закрепив потуже,
Выслеживать стаи упругих сельдей,
Зубатку и пикшу из моря выуживать.
Казалось бы, что мне до ваших забот,
Товарищи люди? Я вас понимаю!
И как вы желаете, я круглый год
Студеные мили на лаги мотаю.
Стучит мое сердце стальное – мотор,
Едва лишь к причалу прижмешься щекою,
Как снова в рыбацкий уходишь дозор
И тянешь капроновый трал за собою.
И снова путина, волна за волной.
Несется над морем гудок мой осипший.
За то, что покоя не знаю давно,
Спасибо вам, люди. Большое спасибо!
И. Олейников
* * *
Ходит, ходит море в пляске,
Удаль в грохоте слышна.
Я гляжу, гляжу с опаской —
В плен возьмет меня волна:
Хлынет зеленью и синью,
Смоет начисто покой,
И – тогда я не покину
Этот праздник колдовской —
Превращусь в скалу крутую,
Грудь подставлю всем ветрам,
Если жизнь начну вторую —
Морю
вновь ее отдам!
* * *
Оглушен океанским рокотом,
Ногами врастаю в палубу.
Я еще без матросского опыта,
Но никто не услышит жалобы,
Что на палубе зыбкой работа,
Что устал и промок до костей.
Это будни суровые флота
Учат слушать напевы снастей,
Напряженных ветрами, как струны,
Басовито гудящих в ночи.
След в тумане утонет бурунный,
Да охрипший тифон прорычит.
Пусть грозна неуемность морская,
Ванты рвет и корежит металл,
Знаю, ждет меня доля мужская,
О которой я с детства мечтал.
А. Марков
ЛЕДОКОЛ
Я устал быть ледоколом.
Льды… Куда ни глянешь, льды…
В беспорядке невеселом
Трутся. Треск на все лады!
Как хлобыстнет! Как заедет
Льдина – ребра затрещат!
Изумленные медведи
Подгоняют медвежат!
Что ж вы думаете, черти,
Мне не больно? Я – стальной?
Вы попробуйте измерьте…
Этот панцирь ледяной
С головой меня укутал,
Ветер кости пронизал!
Глохнет сердце в стуже лютой.
Нету силы… Я устал!
И зачем моя работа?
Заметает снегом путь!
– Нет, не так, дружище! Кто-то
Успевает проскользнуть!
Не горюй! Не зарастает
Никакой в пространстве след!
Видишь: вон за светом – свет,
Кораблей большая стая
Подмигнула нам в ответ!
Н. Кайнов
МНЕ ИНАЯ ПЕСНЬ СЛЫШНА
Надо мной – чужое небо,
Африканская луна.
Звезды, словно древний
ребус,
Тишина.
Только нет покоя что-то,
Словно заблудился я.
Чужедальние широты —
Неуютные края.
Бьет волной залив
Гвинейский.
Мне иная песнь слышна:
В африканском лунном
блеске
Плещет невская волна.
Е. Богданов
ЧАЙНЫЙ КЛИПЕР
Повесть
ГЛАВА ПЕРВАЯ1
Есть под Архангельском, в устье Северной Двины – при слиянии двух ее рукавов, Маймаксанского и Кузнечевского, – знаменитые Соломбальские острова, именуемые здесь Соломбалой. И предместье Архангельска, поселок, что расположен на одном из островов, носит то же имя.
На Беломорье Соломбалу знают все – от малого до старого. Известна она и заморским гостям, издавна приходившим сюда на парусниках, – норвежцам, англичанам, голландцам, датчанам, французам… Ни один иностранный вымпел Соломбалу миновать не мог: путь Корабельным устьям к городу Архангельску тянулся мимо нее. И в годы, когда Двина мелела, в Соломбале имелся рейд для стоянки кораблей с большой осадкой.
Славится Соломбала мастерами-корабелами. Судостроительная верфь здесь была заложена осенью в 1693 году по указу Петра Первого. В соломбальской люльке пестовался белопарусный младенец – русский военный флот. Когда Россия стала утверждаться на южных и северных морях как полноправная, самостоятельная морская держава, этот «младенец» показал себя грозным и непобедимым мужем.
В 1826 году корабельный мастер А. М. Курочкин построил здесь первый в России семидесятичетырехпушечный линейный корабль «Азов». «Азов» пошел на Черное море и в следующем, 1827 году отличился в Наваринском сражении. На нем плавали знаменитые впоследствии адмиралы П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин. Будучи храбрыми офицерами российского флота, сражались они под командованием капитана первого ранга Михаила Петровича Лазарева у берегов Греции в Наваринской битве на грозном линкоре соломбальской постройки.
В этом бою «Азов» уничтожил пять вражеских кораблей.
Соломбальскую верфь обслуживали многие заводы и мастерские – якорные, льнопрядильные, канатные, пековаренные, лесопильные, парусные. Ведь во времена деревянного флота парусное дело было необходимо для кораблестроения!
Не только военный флот получил крещение в Соломбале. По Северной Двине, Белому и Баренцеву морям ходило немало коммерческих и рыболовных парусников. Принадлежали они купцам и рыбопромышленникам. Шхуны, шнёки [1]1
Шнёка – рыбацкое однопарусное судно для промысла трески.
[Закрыть], раньшины, боты бороздили северные широты под русским флагом. Хаживали купеческие корабли и в заграничное плавание, в английские, норвежские, датские и иные гавани. Коммерческие парусники тоже одевались парусами в Соломбале. Купцов и рыбопромышленников обслуживали частные мастерские.
В Соломбале в те времена каждый мог указать дом парусного мастера Зосимы Иринеевича Кропотова. Стоял он не на самом берегу Двины, а в некотором удалении, посреди рощицы из берез и тополей, высаженных прадедами. От реки к дому вел проулок шириной едва ли не в размах рук. По нему, однако, можно было проехать на телеге. К дому вели деревянные мостки в три тесины, уложенные на болотистой луговине со свежей сочной травой. Под мостками спряталась узкая водосточная канава. Она выходила к другой, пошире.
Дом был невелик, а славился он пристройкой, которая была шире и длиннее дома и, в отличие от него, имела не тесовую, а железную, покрашенную суриком кровлю. В пристройке было прорублено десять окон, по пять с каждой стороны, и она сообщалась с жилым домом узкой крытой галереей, по которой, не опасаясь непогоды, ходили налегке летом и зимой.
В доме жили хозяева, в пристройке располагалась мастерская, где шили паруса, обычно называемая парусной. Она принадлежала главе семьи Кропотовых Зосиме.
В прежние благополучные времена дом был многолюден. Кроме Зосимы, тут жили его супруга Аполлинария, зять Иван Пустошный с женой Марией Зосимовной и сыном Егором. Теперь уже Зосиме Иринеевичу стукнуло шестьдесят восемь лет. Жену он похоронил лет десять назад. Спустя год после ее смерти Зосима женился на соломбалке, дочери шкипера, которая была моложе его на двадцать пять лет. Разница в годах была слишком ощутимой. Молодой жене, видимо, пришлось не по душе житье со стареющим Зосимой, и она, поняв свою ошибку, тайком сбежала с рулевым зверобойной шхуны на Мурман и поселилась в Коле. Зосима Иринеевич хотел было отправиться туда, вернуть жену, но, поразмыслив, махнул на все рукой и стал жить один.
А потом погиб на промысле моржа на Новой Земле зять, и остался Зосима с дочерью Марией и внуком Егором, которому нынче зимой пошел семнадцатый год. Дочь вела домашнее хозяйство, а Зосима занимался парусным делом. Поставлено оно было не то чтобы на широкую ногу – работали всего три мастера, но все же заведение Кропотова пользовалось известностью в Архангельске, и многие обращались сюда, если доводилось чинить старые или ставить новые паруса.
Кропотов выполнял заказы рыбопромышленников и купцов, суда которых плавали за границу, а заодно одевал и маломерный архангельский флот. Когда заказов поступало много, он нанимал в помощь постоянно работавшим мастерам швей-соломбалок и платил им поденно.
Старшим мастером в парусной был Акиндин Крюков, пожилой моряк, немало повидавший в жизни. Смолоду он плавал на рыбацких суденках, потом нес пограничную караульную службу в Белом море на фрегате Адмиралтейства, а когда отслужил на военном флоте, то нанялся шкипером на трехмачтовик архангельского судовладельца Антуфьева, что ходил в Норвегию и Швецию коммерческими рейсами.
Однажды на пути в норвежский порт Варде в Баренцевом море парусник попал в сильный шторм. На палубе сорвало с креплений бочки с треской. Одна из них сбила Крюкова с ног. Он удержался на борту только чудом, схватившись за трос. Другой бочкой Акиндину раздробило ниже колена левую ногу…
Пролежав два месяца в Варде в лазарете, Акиндин вышел оттуда без ноги, на деревянной култышке, и с норвежской шхуной, отправлявшейся в Архангельск, вернулся на родину.
Крюков хорошо знал парусное дело и когда предложил Зосиме Кропотову свои услуги, тот охотно взял его к себе в мастерскую.
Среднего роста, широкоплечий и крепкий, не по-северному смуглый, с пышной седоватой шевелюрой и кудрявой бородой, с серебряной серьгой в ухе – «для шику», Акиндин Крюков был по-своему привлекателен и пользовался вниманием одиноких соломбалок, особенно вдовушек. Веселый нравом, большой любитель гульнуть, он в свободное время не задерживался в парусной, где в углу у него имелась койка из парусины наподобие корабельной, а пропадал у своих «сударушек», навещая их по очереди…
Внук Зосимы Егор с малых лет постоянно увивался в парусной возле Крюкова. Мастер любил парня и охотно рассказывал ему о своих морских походах. Старался Акиндин приобщить паренька и к парусному мастерству.
В пристройке всегда было чисто, светло и тихо. Посредине стоял очень широкий и длинный стол-верстак, на котором сшивали материал. Работали больше на сырье заказчиков – хозяева судов привозили свою парусину. Но иногда Зосима закупал ее у купцов и выполнял заказы из своего материала.
2
Начало июля было в Архангельске необычно жарким, с грозами. На левом берегу Двины, где-то под Емецком горели леса, и даже здесь, в Соломбале, душными светлыми ночами припахивало гарью.
После полудня летник [2]2
Летник – южный ветер ( поморск.)
[Закрыть]притащил кучевые облака. Они медленно плыли в несколько ярусов над Двиной и незаметно превратились в огромную пепельно-сизую тучу. Вскоре молния рассекла потемневшее небо, ударил гром и начался крупный и теплый дождь, перешедший в сплошной ливень.
В парусной мастера Яков и Тимофей побросали работу и стали закрывать оконные створки. Всплеск молнии на миг ослепил Тимофея, и он поспешил стать в простенок, Яков перекрестился и отошел от окна, сказав:
– Боюсь грозы. Рассвирепел Илья-пророк…
Над крышей снова громыхнуло, словно там повернули огромный каменный жернов. Вода за окнами лилась потоками, несла по двору мусор и мелкие щепки.
Акиндин положил поверх серебристого полотнища мерку с делениями и кусочек мела, которыми размечал парусину.
– Худо стало видно, – посмотрев в окно, заметил он. – Вон где туча-то! Весь белый свет застила.
– Гроза в лес не гонит, – отозвался Яков. – Не все робить, можно и отдохнуть под шумок-то. – Он зевнул и повалился в угол, на ворох старой парусины.
В мастерскую заглянул Егор, хозяйский внук. Волосы мокрые – дождь застал его на улице. Успел только сменить штаны да рубаху. Акиндин обернулся, серьга блеснула в ухе острым косячком молодого месяца. Окинул внимательным взглядом крепкую ладную фигуру парня.
– Садись, Егорша. Редко ты к нам стал заглядывать. Видать, крепко захороводила тебя Катюха… Все с ней милуешься?
Егор покраснел, отвел взгляд. Катя – дочь соседа Василия Старостина – нравилась ему, и он частенько проводил с ней белые ночи на берегу. Об этом знали все, хотя Егор и Катя прятались от любопытных взглядов.
– Да не-е… На реке был, лодку с парнями конопатили. Надо бы под парусом на взморье сбегать, порыбачить…
– И то дело. Лето коротко. Успевайте, – сказал Акиндин.
Егор потрогал рукой новенькое, пахнущее льном полотно.
– Кому теперь шьете? – спросил он.
– Шхуну купеческу чекуевскую надобно оснастить, – ответил Акиндин, набивая табаком старую обкуренную трубку.
– Давай и мне какое-нибудь дело, – попросил Егор.
– Да темно ведь, худо видно. Ну да ладно, держи пока… – Акиндин подал парню два льняных веревочных конца. – Узлы помнишь? Вяжи-ка рифовый.
Егор улыбнулся, откинул еще не просохшие светло-русые волосы со лба и ловко заработал длинными гибкими пальцами.
– Эту науку я давно прошел, – сказал он, протягивая мастеру готовый морской узел. – Вот.
Акиндин положил связанные концы на колени, раскурил трубку и только тогда взял их, стал рассматривать.
– Верно, рифовый. – Он потянул за свободный конец, и узел распустился.
Рифовый узел вязался так, чтобы при надобности его можно было быстро развязать.
– Ну а беседочный не забыл? – Мастер снова подал концы Егору.
Егор, хотя и не столь быстро, как рифовый, связал и беседочный узел.
– Я говорю, что эдака наука мне не в диковинку.
Молнии стали сверкать реже, дождик помельчал.
– Уходит гроза, – заметил Акиндин и подошел к окну.
Вдали, над тесовыми крышами соседних домов, небо стало проясняться, зазолотилось, и в мастерской посветлело.
– Ну, за работу! – сказал Акиндин.
Яков поднялся с вороха брезента и, надев на руку гардаман – кожаный накулачник, стал сшивать парус. Тимофей помогал ему.
Егор следил, как Акиндин раскладывает на верстаке скроенные куски полотна. Он уже многому научился у парусных мастеров: сам сшивал полотна двойным швом, проглаживал их гладилками, делал по краям парусов подшивку, по линии рифов нашивал риф-банты, гордень-боуты. Мудреных названий разных частей парусной оснастки, употребляемых морским бродягой Акиндином, было великое множество, и Егор долго путался в них. Но потом все-таки запомнил все эти риф-банты и нок-гордени… В прошлом году зимой он научился «оканчивать» паруса, то есть выполнять последнюю стадию работы над ними. Заделка паруса заключалась в пришивании к нему лик-троса на шкаторинах.
Полотнища парусов были огромны. В летнюю пору в хорошую погоду мастера разворачивали штуки полотна прямо во дворе, на лугу, и вымеряли их и кроили там. А по зимам – на полу в мастерской.
Постигать парусное ремесло Егору повелел дед. И по тому, как ревниво следил Зосима за успехами внука в ученье, нетрудно было догадаться, что он растил себе замену. Внук должен будет принять по наследству парусную и вести дело дальше.
3
В последнее время Зосима Иринеевич стал частенько прихварывать: его донимал застарелый ревматизм, нажитый еще в молодости на промыслах нерпы и тюленя во льдах. Особенно неважно он чувствовал себя перед ненастьем, ложился на печь и грелся, словно старый кот, на кирпичах. Вдобавок ко всему дед стал плохо видеть и вынужден был обратиться к доктору Гринбергу, что жил близ центра города, в Немецкой слободе. Доктор выписал ему очки. Плохое зрение досаждало деду больше, чем ревматизм. У него заведено было по нескольку раз в день заходить в мастерскую с проверкой. Зосима тщательно оберегал репутацию своей парусной, следил, чтобы все было сделано на совесть, придирчиво ощупывая, осматривая каждый грот, фок или марсель, чтобы заказчики были довольны.
Однако Зосима все же бодрился и старался не подавать вида, что стар и немощен. Он по-прежнему ходил быстрым шагом, высоко нес крупную голову с подстриженными в скобку седыми волосами и говорил с мастерами уверенным, твердым голосом.
Парусные мастера были народ серьезный. Яков и Тимофей вели трезвый образ жизни, заботясь о своих семьях, и во всем слушались хозяина. Акиндин отменно знал свое дело. Вот только разве за ним водилась слабинка: любил кутнуть, хотя и не в ущерб работе. Иногда вечерами Акиндин отправлялся «на чашку чаю» к своим «сударушкам» и пил там, разумеется, не только безобидный и приятный напиток, а и то, что покрепче… Но никогда не видели его сильно пьяным. Только однажды с ним приключилось такое, что он добрался до парусной с трудом и вошел в нее через черный ход с огорода.
В мастерской уже никого не было, кроме Егора, заглянувшего сюда по какому-то поручению деда. Акиндин стучал по полу своей деревяшкой и кричал во всю мочь:
– Марсовые на марс, марсель ставить! Отдава-а-ай! Марса-шкоты тянуть!
Он задрал голову кверху, будто глядел на реи, где работали матросы. Бородка торчала кудлатой метелкой, глаза налились кровью. Войдя в раж, крикнул еще громче:
– Гротовые брасы на левую! Слабину выбрать! Поше-е ел брасы-ы-ы!
Он умолк, резво, хотя и не очень уверенно прошелся по мастерской, задевая за стол и табуреты, остановился и… пуще прежнего:
– На бизань фал и шкот! Бизань-шкот тянуть! На кливер и стаксель фалы. Кливера подня-я-ять! [3]3
Примерно такие команды подаются, когда парусное судно снимается с якоря.
[Закрыть]
Егор притаился в углу. Его разбирало любопытство. Увидев наконец хозяйского внука, который, наблюдая за мастером, беззвучно хохотал, прижав руки к животу, Акиндин чуть протрезвел и вернулся к действительности:
– У Ксюши наливка хороша была… Смородинная… Ладно… Ложусь в дрейф. Только ты, Егорша, деду ни-ни!..
Он «лег в дрейф» неуклюже завалился на койку.
Час был уже довольно поздний. По мастерской струился тихий серебристый полусвет. Егор закрыл дверь на крюк, чтобы ненароком в парусную не зашел дед и не застал Акиндина врасплох. Подойдя к койке, парень расслабил воротник рубахи Акиндина, погрузившегося сразу в беспробудный хмельной сон, а потом осторожно отстегнул ремни его деревянной ноги, которыми она крепилась на культе. Укрыл Акиндина суконным матросским одеялом и тихонько вышел…
Наутро Акиндин работал с преувеличенным усердием, виновато поглядывая на Егора. Он несколько раз прикладывался к ковшу с квасом, крякал, а потом вдруг ударился в воспоминания.
– Слушай-ко, Егорша. Вот было в Северном море. Мы в Англию ходили, в Ливерпуль… Идем курсом зюйд-зюйд-вест. Ветер ровен, на море спокойно. Все паруса у нас поставлены, ход добрый у шхуны.
И вышел я на палубу проветриться. Гляжу – обгоняет нас судно, парусник поболе нашего. Идет ходко, ну прямо летит! Мачты такие высокие, что кажется: ударит боковой ветер – перевернется корабль, оверкиль сыграет. Идут до пятнадцати узлов. Нас легко обошли. Вижу: стоит у них на юте матрос, хохочет и нам конец показывает: дескать, не взять ли вас на буксир? Чего вы тут воду толкете?..
Ну, наш капитан в азарт вошел, командует: «Отдать все рифы!» Мы – на реи. Отдаем, значит, рифы, чтобы площадь у парусов была больше. Отдали все, запаса боле нету. А парусник уже далеко впереди, пластает волны надвое… Не по силам нам с ним тягаться. И что ж ты думаешь, Егорша? Какой это был корабль?
– Не знаю, – ответил Егор.
– Клипер! Клипера – самые быстроходные парусники. Хозяева моря. Парусов на них – тьма, да и корпус судна устроен по-особому. Длинный и узкий. На нашей шхуне верхний парус марсель. А у клипера над марселем – брамсель. А над брамселем – бомбрамсель… Его на клиперах зовут королевским парусом. Но это еще не все. Над королевским – еще трюмсель, называется небесным парусом, потому как выше королевского звания – бог и только он да небо над королем власть имеют. Вот, брат, какой корабль! Прошел, как рысак чистых кровей. И захотелось мне тогда поплавать на клипере, да у нас на Беломорье их нету. Клипера строят в Америке… Тот, судя по флагу, был английский… Английские клипера за чаем ходят в Китай. Потому их зовут еще чайными клиперами.
– На таком бы и я поплавал, – сказал Егор мечтательно.
– Может, и поплаваешь, если к парусной не присохнешь. У тебя еще все впереди, – сказал Акиндин. – Только знай: на клиперах матросам трудно приходится, работают как черти, потому что парусов много и капитаны любят быстрый ход.
Акиндин замерил кромку полотна и что-то зашептал про себя, шевеля губами. Егор смотрел на мастера, а перед глазами у него стояло диковинное судно, о котором он только что услышал, с парусами в пять ярусов, с тремя высоченными мачтами.
Вошел дед, чуть прихрамывая. Высокий, костистый, седобородый, он склонился над Акиндином:
– Что, Акиндинушко, не потерял вчерась свою серьгу?
– Да не-е, она крепко прицеплена. Не потеряется…
– Голова небось трещит?
«Откуда дед узнал, что Акиндин вечор пришел пьяный? – думал Егор. – Я не проговорился. Якова и Тимофея в парусной не было. Видать, соседи насплетничали. А может, и сам дед углядел в окошко…»
Зосима потрепал Акиндина по плечу и, не сказав больше ни слова, надел очки и принялся рассматривать готовые паруса. Работой он, видимо, остался доволен.
Когда Зосима ушел, Яков спросил Акиндина:
– Значит, ты вечор проштрафился?
– И на старуху бывает проруха…
Яков гладилкой стал приглаживать готовый шов.
– Скажи, Акиндин, откуда у тебя серьга? Неужто ты цыганского роду? – спросил Тимофей.
– Нет брат, в нашем роду цыган не бывало. Из Неноксы я, помор коренной. И ежели уж тебе любопытно, так поведаю по секрету, что серьгу эту серебряную мне одна норвежка подарила… Любовь мы с ней крутили.
– А чего не поженились? – спросил Яков.
– Дак как женишься-то? В разных государствах проживаем, под разными ампираторами: у нас царь-батюшка, у них король. Она в Норвегии, а я в России.
– Привез бы ее сюда, пачпорт исхлопотал бы…
– Хотел было, да она родину бросить не захотела. И я тоже матушку-Россию не могу оставить. Так и живем: я люблю норвежку, она меня, я люблю Россию, а она – Норвегию. Кругом любовь, а счастья нету. Вот, брат, как…
– Она уж, поди, там замуж выскочила.
– Все может быть, – вздохнул Акиндин.
– А соломбалки-то не оборвут у тя серьгу из ревности? – пошутил Тимофей. – Ты ведь и тут любовь крутишь. Возьмут да и отхватят вместе с ухом…
– Ну, оне не ведают, откуда серьга. Я им не проговорюсь, – улыбнулся Акиндин впервые за все утро.
4
Своими рассказами о морских странствиях и необыкновенных кораблях вроде чайных клиперов Акиндин пробудил в душе Егора Пустошного стремление познать непознанное, заронил искру любви к морю.
А оно было недалеко. От мыса Пур-Наволок, на котором выстроился Архангельск с его старинными гостиными дворами и таможней, с пристанями, деревянными домишками обывателей и хоромами купцов, с церквями и Троицким кафедральным собором, до взморья было не больше пятидесяти верст.
Когда в парусной Егора особенно не удерживали, он с дружками-приятелями проводил время на берегу, плавал на лодке на острова, которых в двинском устье было не счесть. Там удили рыбу, разжигали костры, когда было тепло – купались. К архангельским причалам и обратно от них сразу после ледохода и до глубокой осени, до ледостава, шли поморские шнёки, кочи, раньшины, шнявы [4]4
Коч, или кочма́ра, – древнейшие парусное судно. Ра́ньшина – небольшое поморское судно для ранних весенних промыслов и море. Шня́ва – разновидность рыбачьего судна у поморов. Отличалась малой маневренностью.
[Закрыть], купеческие и иноземные шхуны, бриги. Из рыбацких сел – с Зимнего и Летнего берегов – приходили с грузом рыбы и морского зверя парусные морские карбасы и боты. Все эти суда и суденышки Егор до поры до времени принимал как само собой разумеющееся: идут себе и идут, каждое со своей командой, со своим грузом. Освободят трюмы у пристаней, погрузится и опять уплывают к дальним берегам. Корабли на двинском фарватере были для соломбальских парней столь же привычны, как, скажем, возы с кладью на большой дороге или чайки над пенной волной.








