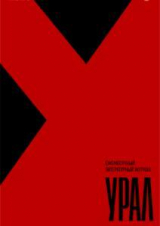
Текст книги "Млечный путь"
Автор книги: Вионор Меретуков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
Петька являет собой ярчайший пример разгильдяя, который сознательно и с удовольствием сам себе роет могилу. При всем при том Петька не бедствует, деньги у него водятся: тотализатор, карты, бега, бильярд, шашки, домино и шахматы на деньги – это его «продовольствие». Еще в студенческие годы Петька женился, и женился не на ком-нибудь, а на внучке какого-то давно почившего сталинского министра и живет в просторной квартире на Тверской. Правда, отношения с женой у него не простые, изобилующие столкновениями, которые временами переходят в рукопашные схватки.
Я был на их свадьбе. Было это почти двадцать лет назад. Хорошо, что свадьба отмечалась не в привилегированной министерской квартире. Не то ее разнесли бы на куски. Торжество состоялось в коммуналке на Мясницкой, где у Петькиной матери была комната рядом с общей уборной. Издревле русская свадьба заканчивалась дракой. Эта свадьба ею началась. В побоище приняли самое деятельное участие не только родственники и друзья со стороны жениха и невесты, не только соседи всех семи этажей дома, но и некие посторонние неофициальные лица, прельщенные возможностью бесплатно подраться. Они были засосаны в свалку некой центробежной силой, в основе которой не ненависть к случайно подвернувшемуся противнику, а тоска по развлечениям, которых не так уж много было в те годы на Руси, и поэтому расквашенных носов и выбитых зубов было предостаточно. Участники драки бились, что называется, не на жизнь, а на смерть, видимо, держа на прицеле известную пословицу, что кулаками надо махать не после, а во время драки. Многие, чтобы не терять драгоценное время на переодевание, дрались в халатах и пижамах.
Жениха чуть не зарезали. За ним по всем этажам дома с кухонным ножом гонялся разъяренный брат девушки, проживавшей в соседнем подъезде и незадолго до свадьбы соблазненной коварным Петькой и, естественно, не приглашенной на торжество.
Не пощадили даже мать невесты, ей сломали ребро и вывихнули лодыжку. Среди этой сосредоточенно и со знанием дела дерущейся оравы бродил фотограф с зажатой в зубах папиросой, который деловито щелкал «лейкой». Как ни странно, его никто не тронул. Драка была грандиозной даже по меркам того сурового времени. Одного наряда милиции оказалось недостаточно. Пришлось вызывать на подмогу еще два десятка милиционеров, сняв их с облавы на колхозном рынке. Короче, можно было с полным основанием сказать, что свадьба удалась на славу. «Чтобы знали, суки, с кем имеют дело!» – грозно высказался после драки Петька в адрес рафинированных родственников невесты.
У Петьки есть отдушина. Раз в год он сбегает от жены и отправляется в горы. Он бредит альпинизмом и скалолазанием с детства. За его плечами громкие победы, в числе коих восхождение на Эверест и Монблан, покорение вершины Летавета на Тянь-Шане по восточному склону, а также беспримерный по героизму спуск с крыши в собственную квартиру по водосточной трубе.
Булькающий голос Эры Викторовны прерывает мои размышления:
– Ну и писатель нынче пошел! Даже я со всеми своими выдающимися редакторскими талантами не в силах превратить сборщика собачьего дерьма в Хемингуэя. Илюша, ты только послушай, что пишет этот мудозвон! «Декабрь 1907 года Ленин провел в Лозанне в обществе Дзержинского и Инессы Арманд…» На самом деле Ильича там и на дух не было, он изнывал от тоски в люксе стокгольмского «Мальмстене», где поджидал свою лупоглазую грымзу. А будущий карающий меч революции в это время находился в Варшаве, но, в отличие от своего гениального патрона, жил куда менее комфортно: он дрожал от холода в одиночке для уголовников. А об Инессе Ильич тогда еще и слыхом не слыхивал. Кстати, Инесса Федоровна в 1907 году не раскатывала по Европам в платьях от Поля Пуаре, а полоскала белье в проруби на реке Мезень. Это в Архангельской губернии. Она там ссылку отбывала. Летом и зимой ходила на рыбалку. Там хорошо щука шла на живца. Она и Ильича на живца подманила, но случилось это значительно позже, уже в Париже. Ну и вкус же был у основателя первого в мире государства рабочих и крестьян! Илюша, скажи честно, мог бы ты увлечься Инессой Арманд, этой рыхлой, уже немолодой женщиной, дважды побывавшей замужем и имевшей от всех этих мужей круглым счетом пятерых спиногрызов?
Милое дело, подумал я! Все интересуются моими возможностями. Корытников спрашивает, могу ли я, со всех сторон продуваемый колючими ветрами, две недели просидеть на дереве. Теперь вот и Бутыльская…
– Нет, не мог бы! – отвечаю я категорично.
– Вот и я так думаю.
Она делает паузу и спустя минуту опять принимается за свое.
– Как же сложно пишет этот бумагомарака! Ну, вот, упомянул ни к селу ни к городу «каденцию»… идиот! – Она с ненавистью слюнявит пальцы и листает страницы рукописи. – Вряд ли Виктор Астафьев знал, что это такое – «каденция». Что никак не мешало ему быть прекрасным писателем. Ну как тут не вспомнить Чехова. «Зачем писать, что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, – недоумевал Антон Павлович, – а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все. И потом, зачем эти подзаголовки: психический этюд, жанр, новелла? Все это одни претензии. Поставьте заглавие попроще, – все равно, какое придет в голову, – и больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычек, курсивов и тире – это манерно». А этот болван, как неразумная скотина, пишет, что «…небо заволокло черными тучами, вдали загрохотали страшные грозы, и я понял, что на Москву с боями пробивается весна». Он наверняка уверен, что создал стилистический шедевр. Тоже мне, Набоков какой выискался! Кретин!
Бутыльская, несмотря на свой очень и очень почтенный возраст, сохранила прекрасную память. Она обладает уникальными познаниями в самых разнообразных областях науки, техники, музыки, спорта, философии, истории, литературы и искусства. Она может наизусть продекламировать любое место из «Улисса». Она помнит, в каком году родился каждый лауреат Нобелевской премии. Знает, чем кормили лошадей во время Второго Азовского похода Петра. Помнит, как размножается колорадский жук в засушливые годы и как – в дождливые. Знает, как часто в поэме Гоголя «Мертвые души» встречается слово «подлец». Она может без ошибок написать все математические формулы сокращённого умножения многочленов. Ее память безбрежна, как Мировой океан. Вся Ленинская библиотека, не поцарапав внутренних стенок черепной коробки, со свистом, как сабля в ножны, вошла в ее память еще в те времена, когда ее голову украшали девичьи косы.
Эра Викторовна по ватерлинию напичкана всяческими занимательными фактами, недостоверными и достоверными данными, датами, малоизученными сведениями и прочими премудростями. И все это у нее не тупо, не мертво приросло к мозговым извилинам, а активно работает. Она редко пользуется компьютером: у нее все в голове. Мой мозг, вернее моя память, в сравнении с ее безразмерным хранилищем, все равно что изба-читальня против Библиотеки Лондонского Королевского Общества или крохотный мозг дятла рядом с могучим мозгом примата. Когда я не могу вспомнить подробности некоего подзабытого исторического события, я обращаюсь к ней. И не было случая, чтобы она чего-то не знала. Ко мне она относится почти с материнской нежностью, говорит, что я очень похож на ее племянника. «Просто одно лицо! – говорит она. – Жаль только, что мой племянник, – добавляет она печально, – редкостная свинья».
Кто он, этот племянник, как его зовут, чем он занимается и где обитает, – об этом ни слова. Свинья – это все, что она может о нем сказать. Когда ей выгодно, она не очень-то и разговорчива.
Бутыльская когда-то была страстной болельщицей московского «Спартака». Ходила на все матчи. В далекие пятидесятые ее познакомили с Анатолием Ильиным, знаменитым в ту пору футболистом. Синеглазый, златокудрый, он был невероятно похож на Сергея Есенина. Бутыльская против любимца миллионов не устояла. В награду Ильин научил ее виртуозно материться. Но Бутыльская знает меру, то есть знает, когда и где можно щегольнуть соленым словцом. Получается это у нее очень мило и почти невинно. Кстати, Бутыльская в молодости была неотразимой красавицей. Сейчас в это трудно поверить, но когда-то волоокая одесситка сводила с ума всю Москву. Я видел ее фото той поры. Вскоре после романа с футболистом она познакомилась с боевым генералом, который был старше ее лет на двадцать, и вышла за него замуж. Когда он умер, она унаследовала его огромную квартиру, в которой устроила нечто вроде литературно-художественного салона. Среди ее друзей, как я уже оговорил, немало знаменитостей.
Я вспоминаю, ведь и с Корытниковым я познакомился в ее доме. Странно, но каким-то образом Павел Петрович оказался в числе ее гостей: он ведь не писатель, не ученый, не художник, а человек неопределенных занятий с более чем сомнительным прошлым.
Я продолжаю бездельничать. Мой взгляд от трехстворчатого зеркального окна, выходящего в мрачный колодец внутреннего двора, перебирается на стену, покрытую краской унылого больничного цвета. К стене прислонена черная школьная доска. Много лет назад ее откуда-то приволок Дима Брагин.
Когда-то Дима, приехавший в Москву из Владивостока, играючи поступил в Суриковку. Видно, экзаменаторы сразу распознали в нем талант. Еще учась на первом курсе, он стал подрабатывать. Тогда же устроился на полставки к нам в редакцию. Суриковку окончил с отличием. А дальше, как говорится, дело не заладилось. Видно, засбоило пресловутое «величие замысла». Господь часто ставит ограничитель на свои благодеяния уже на стадии рождения отдельно взятого индивидуума: явил тебе чудо рождения, и – будет с тебя. Скажи спасибо, что вообще родился. Мне кажется, Брагин это понял и стал жить по формуле: «Хочешь жить, умей вертеться». Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину испытаний и бедствий, то есть во все дни, свободные от пьянства, Брагин копирует мастеров старой школы. Работает он с невероятной быстротой. И что интересно, профессионально и высокохудожественно. С трудно предсказуемыми интервалами, зависящими от его изменчивых настроений, он появляется на субботних и воскресных вернисажах в Измайлове. Там он сбывает свои подделки ценителям средней руки.
Дима строен и высок. Если быть точным, его рост от макушки до пяток составляет 1 метр 95 сантиметров. Хороший баскетбольный рост. Но Дима считает, что обделен судьбой, и страшно завидует тем, кого природа одарила двухметровым ростом.
– Черт возьми, ну почему я такой невезучий?! – жалуется он.
Его коллегам, по большей части приземистым и тучным, понять его трудно.
– Всего-то пяти сантиметров не хватает, – хнычет Брагин.
– Нет, каков негодяй! Мало ему 195 сантиметров, сажень ему подавай! – завистливо возмущается полутораметровый Ефим Берлин.
– Пять сантиметров… – недоуменно повторяет широкозадый и коротконогий Ефим Лондон и цокает языком: – Ай-яй-яй, как же, оказывается, мало надо человеку для счастья!
К своему пагубному пристрастию, то есть к своему моральному падению Брагин относится с уважением, рассматривая его с научной точки зрения. Он как академик Павлов, который, угасая, рассказывал ассистентам о своих предсмертных ощущениях. «Ага, холодеет правая голень, – с удовлетворением констатировал великий физиолог, – все идет по плану! Превосходно! Я это предвидел! Вот начала холодеть левая! Записывайте же, идиоты, записывайте! Теперь пронизывающе холодеют бедра, холод поднимается выше, выше, еще выше! Вот он подбирается к детородному органу! О, Господи!..»
Дима проштудировал уйму книг и брошюр, посвященных проблеме алкоголизма. Удивительно, но у алкаша Брагина великолепная память. Конечно, ему далеко до Бутыльской. Но этому самородку достаточно раз пробежать глазами страницу, чтобы запомнить ее на месяц-другой. Дальше память начинает дурить и подбрасывает ему совсем не то, что он от нее ожидает.
Димину фигуру отличает некая хрупкость, чуть ли не женственность – черта в общем-то не присущая людям высокого роста. Кажется, он вот-вот переломится пополам. Хотя ему за сорок, выглядит он юношей, у него изящные руки музыканта и голубая полупрозрачная кожа. Он похож на молодого Чехова и одновременно на хулигана с Разгуляя. Он любит прикидываться простачком. Иногда мне кажется, что он что-то скрывает, вынашивая некую тайну, которой не поделится ни с кем.
– На первой стадии алкоголизма больной часто испытывает непреодолимое желание выпить, – слышу я его мягкий баритон. Занятый своими мыслями, я не заметил, как Дима вошел в комнату.
– На этой стадии заболевания, – продолжает он, – состояние опьянения нередко сопровождается чрезмерной раздражительностью и агрессивностью: больной может кого-нибудь зарезать или удавить. Учтите это, коллеги! – с угрозой выкрикивает он. – У алкоголика пропадает критическое отношение к пьянству и появляется тенденция оправдать каждый случай потребления алкоголя. В конце первой стадии начинается заметный прирост толерантности, то есть переносимости алкоголя. Первая стадия алкоголизма постепенно переходит во вторую. Судя по симптомам, – задумчиво заметил он, – я как раз нахожусь на пути ко второй.
– Не тяни! Врубай третью! – криком подбадривает его Фима Бйрлин.
– Вторая стадия алкоголизма, – Брагин грозит Фиме кулаком, – характеризуется значительным ростом толерантности к алкоголю. Постепенно человек теряет контроль над употребляемой выпивкой. На этой стадии появляется физическая зависимость от алкоголя. Именно на второй стадии возникает абстинентный алкогольный синдром, сопровождающийся головной болью, жаждой, раздражительностью, проблемами со сном, болями в области сердца, дрожанием рук. Вот, посмотрите! – трагическим тоном восклицает он и выбрасывает перед собой руки с напряженно растопыренными пальцами.
Мы присмотрелись: руки не дрожали.
– Друзья! Войдите в положение! У меня нестерпимая жажда, боли в сердце, плохо залеченный триппер и проблемы со сном! Дайте пару тысяч! С получки отдам.
– Месяц назад ты взял у меня пятьсот, – со значением напомнил Меланхолин.
– Отдам, не переживай!
– Я и не переживаю, потому что знаю – не отдашь.
– Ребята, дайте хотя бы тыщу! Сапега, друг! – он повернулся ко мне. – Подкинь тысчонку!
– Откуда ты всё это вычитал?
– Что – все это?..
– Ну, это твое наукообразие про вторую стадию.
– Из медицинской энциклопедии, год издания 1976-й, том первый, страница шестая, пятнадцатая строка снизу, – выстрелила всезнайка Бутыльская. Она поправила седой пучок на затылке и добавила: – Это единственная книга, которую Дима еще не пропил. А все потому, что ее не принимают букинисты…
– Братцы! Ну, хотя бы триста! Я вчера сильно перебрал, – понизив голос, признался Брагин.
– Кого ты здесь хочешь этим удивить… – пробормотал Меланхолин и отошел в сторону.
Кроме Бутыльской и главного редактора, в редакции пили все. Даже шагнувшие за пенсионный барьер Лондон и Бйрлин. И понедельник, как правило, был не самым легким днем недели.
Вернусь на минутку к школьной доске. Разноцветными кнопками к ней пришпилены листочки с ляпами и выдержками из писем в редакцию.
Все эти «шедевры» я помню наизусть: «главный почтамп», «фолиан», «велоромный», «перетурбация», «переспектива», «огненное пламя», «пьестедал», «модержом», «рыба-капитан – жареный», «константировать», «инциндент», «на баскетбольной площадке в тот день играли одни Гулливеры», «Севильские колокола», «Корневильский цирюльник», «акын Джамбул Джабаев прожил 99 лет, не дожив 2 месяцев до конца своей жизни», «непокобелино», «неукродержимо», «орловских скакунов взращивают в Орловской области», «Эпицентр землетрясения находился в самом центре города», «жупело» и так далее. Был даже шедевр, извлеченный из рукописи одного из постоянных авторов: «последнее упражнение тяжелоатлет закончил в толчке». В числе прочего было потрясающее по своей трагической мощи письменное признание юной жалобщицы, только что вернувшейся из сочинского пансионата, – кстати, тоже в некотором роде на тяжелоатлетическую тему: «Знала бы ты, дорогая редакция, – писала страдалица, – что это такое, часами лежать под штангистом!» Письмо было написано на листочке, вырванном из ученической тетрадки, и заляпано слезами.
Рядом с доской висит плакат. На нем аршинными буквами выведено: «Параграф номер один – Шеф всегда прав. Параграф номер два – если Шеф не прав, в силу вступает параграф номер один». В любой редакции таких пошлостей хоть отбавляй.
В комнату влетает курьер, смышленый малый лет восемнадцати, имени которого я никак не могу запомнить. На лице его играет самодовольная улыбка.
– Если умного обозвать дураком, он не обидится: он знает, что он не дурак. А вот если дураку сказать, что он дурак, то… – изрекает курьер и мотает головой. – Самая опасная разновидность дурака – это дурак с высоким коэффициентом интеллекта.
– И ты все это выложил главному?! – охнула Бутыльская. – Несчастный! Он же тебя уволит!
Курьер без имени навел на нее нагловатый взгляд. К слову, я тогда не знал, что этому негодяю куда больше лет и он в шаге от получения университетского диплома.
– Да клал я на него! Ишачить за такие гроши… А вы, Эра Викторовна, словно вчера родились, будто не знаете, что устроиться на такую работу – раз плюнуть, тоже мне проблема. Кстати, Пищик идет сюда, – сказал он и мерзко хихикнул.
– Полундра! Спасайся, кто может… – вполголоса проговорил Брагин и тенью скользнул за дверь.
– Что мне нравится в Пищике, так это его прическа, – глубокомысленно заявила Бутыльская.
– Замечательная куафюра, – подхватил Лондон. – Огненно-рыжая черепушка завидной кудрявости.
– Если его голова попадет под яркий свет, – добавил Берлин, – она начнет светиться, как издыхающий газовый фонарь в безлунную ночь.
– Очень образно, – с усмешкой оценила Бутыльская. – У кого украл?
– Вах-вах, зачем украл?! Подарили!
Глава 6
…В органах – было это уже после смерти Сталина – каждые два года основательно перетряхивали кадры. Называлось это переаттестацией. Кого-то увольняли, кого-то понижали. Мой дед, которому тогда было примерно столько же лет, сколько мне сейчас, успешно выдержал очередную чистку. Его оставили в прежнем звании полковника и в должности начальника отдела. А вот его другу, тоже полковнику, повезло меньше: у него с погона срезали звездочку. Дед пришел домой, сияя от счастья, и первым делом бросился к телефону. «Поздравляю вас, товарищ подполковник!» – весело поприветствовал он друга. Согласитесь, шутка неумная, неуместная и жестокая. Друг молчит. Потом рассмеялся и говорит: «Если бы я не знал, как ты ко мне относишься, я бы не простил тебе этого до гробовой доски». – «Не переживай», – сказал дед. «Я и не переживаю. Чего ты взял?..» – «Я сделаю все, – пообещал дед, – чтобы тебя восстановили». – «Знаю», – растрогался друг. «Не расстраивайся, – продолжал дед, – все не так уж и плохо, раньше тебя бы просто расстреляли». – «Спасибо, – произнес друг замогильным голосом, – умеешь ты утешить».
Если я что и унаследовал от своего давно почившего деда, так это его любовь к шуткам и розыгрышам. Филипп Пищик, наш главный редактор, всегда корил меня за это, утверждая, что для меня нет ничего святого и что рано или поздно меня ждет петля.
Возможно, он и прав, но, скорее всего, у Пищика просто-напросто отсутствовало чувство юмора.
Да и о каком юморе можно было говорить, если Филипп радовался и смеялся лишь тогда, когда его щекотали секретарши или когда приходило извещение о посылке из Франции. Двоюродный брат Филиппа, карьерный дипломат, много лет работает в Страсбурге. Наезжая в Москву, он изредка заглядывает к нам в редакцию. Дипломат жалуется, что ему до смерти опротивела «эта окаянная Европа», что он невыносимо страдает там из-за отсутствия русской бани по-черному, жигулевского пива, бородинского хлеба, соевых батончиков фабрики «Рот-фронт», простого человеческого общения и воблы. И так он ропщет уже лет двадцать. Все поддакивают и сочувственно кивают головами. Как-то раз я не удержался и спросил: не снятся ли ему там, на чужбине, лапти, деревянные ложки и тульские самовары? Не тоскует ли он по березкам, жаворонкам, волжским закатам и обильной деревенской закуске? И как ему годами удается обходиться без бекеши на меху, онуч и зипуна? Был скандал.
Иногда я разыгрывал Пищика. С помощью упоминавшегося выше камушка я изменял голос и звонил ему от имени высокого руководителя – столь высокого, что его макушка упиралась в своды колокольни Ивана Великого. Басовито покряхтывая и начальственно растягивая слова, я извещал Филю, что завтра, ровно в десять ноль-ноль, ему надлежит прибыть в Екатерининский зал Кремля. Там, мол, состоится награждение его орденом Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в области популяризации макулатурной беллетристики. Филя грязно ругался и бросал трубку.
У этого мизантропа и сухаря было две страсти. Одна – вздорная, несбыточная – страсть-мечта-мания со временем стать во главе всего Издательского дома «Олимпиек». Другая – это почти противоестественная страсть к чаю. Вернее, к его экзотическим сортам. Чаевничал он по тридцати раз на дню. Это приводило к тому, что у него постоянно булькало в животе. Булькало, когда он ходил. Булькало, когда он сидел. Даже когда он спал, у него булькало в животе. Об этом конфиденциально поведала мне редакционная секретарша Юля.
Филипп не употреблял чай в пакетиках. Только рассыпной. Все это хорошо знали, и раболепствующие авторы, зависимые от него, как проститутки от сутенера, регулярно снабжали его новыми сортами рассыпного чая. У него в кабинете все было заставлено чайными коробками, коробочками, пакетами, кулечками, банками и баночками, привезенными из самых разных частей света. В кабинете пахло, как в чайном магазине на Мясницкой.
Одна банка, красивая, расписная, из сандалового дерева, стояла у него на письменном столе рядом с огромным электрическим чайником в виде недействующей модели печатного станка с паровым приводом. В банке помещался особый, очень дорогой чай под названием «Серебряные иглы гор Цзюнь-шань». Филипп никому не позволял даже притрагиваться к этой банке.
– Секрет «Серебряных игл» до сих пор хранится за семью печатями. Восемь тысяч долларей за кило, – важничая, рассказывал Пищик, – до начала 20 века вывоз этого чая за пределы Китая карался смертной казнью.
…Сегодня Пищик, по всей видимости, встал не с той ноги и решил покомандовать разболтавшимися подчиненными.
– Чем вы, коллега Сапега, собираетесь заниматься? Сапега! Вы слышите меня?
Редактор стоял возле моего стола и, покачиваясь с пятки на носок, платком протирал очки. Он уже проинспектировал все редакционные комнаты и всем задал один и тот же вопрос.
– Чем я собираюсь заниматься? – переспросил я, не поднимая головы.
– Что вы собираетесь сейчас делать, коллега? Чем вы конкретно собираетесь сейчас заниматься? – заметно раздражаясь, спросил он.
Я смерил его взглядом. Этакий мышиный жеребчик с впалой грудью и мерзким запахом изо рта. Такие долго не живут.
– Конкретно? – я повысил голос.
– Да-да, конкретно! – он тоже повысил голос. При этом у него забулькало в животе.
– Конкретно, многоуважаемый коллега Пищик, – подчеркнуто любезно сказал я и поднялся, при этом я по-приятельски, ласково положил свою ладонь ему на живот, – я иду в сортир. А если вам не терпится получить от меня детализированный, уточняющий, исчерпывающий и развернутый ответ, извольте, не могу не удовлетворить вашего досужего любопытства: я направляюсь в сортир не просто так, а с серьезными намерениями, а именно: чтобы конкретно и от души поср…ть.
Это слышали все. Включая судорожно захохотавшую Бутыльскую и опять сдуру забредшего в комнату Брагина. Редактор рассвирепел:
– Сапега, вы забываетесь! – Он брезгливо сбросил мою руку со своего живота.
– Есть немного, дорогой, – с грузинским акцентом ответил я.
Ему надо было «сохранить лицо». Но как это делается, он не знал. Уволить меня он бы не посмел: во-первых, профессионалами, готовыми работать за гроши, не разбрасываются, во-вторых, меня он побаивался.
Багровея от ненависти, он стоял и топтался на месте.
И тут отличился Лондон. Воздев указательный палец к потолку, он вдруг громко и патетично возвестил:
– Величием и гордо-спокойным сознанием власти и могущества дышит мужественное, прекрасное лицо Пищика, – Лондон оборвал себя и в притворном ужасе зажал себе рот ладонью: – Простите, Филипп, вырвалось…
Пищик еще какое-то время пребывал в замешательстве. Потом горлом издал клекот, похожий на орлиный, и, переваливаясь на кривых ножках, засеменил к выходу.
– Вы еще пожалеете об этом, – процедил он.
«Ну, это мы посмотрим, кто пожалеет», – подумал я.
– Рисковый вы человек, Илюшенька! – покачал головой Лондон, после того как за Пищиком затворилась дверь.
– Я ничем не рискую, – уверенно сказал я, наперед зная, чем все это очень скоро завершится.
– Самый рисковый – это ты, Фима, – вздохнул Бйрлин и тоже покачал головой. – Жизнь тебя ничему не научила.
Далее события разворачивались с быстротой, изумившей даже меня, хотя я и был в общем-то готов ко всяким неожиданностям.
…Декабрьское солнце ласкало серую стену и доску с редакционными ляпами, золотая пыль тепло и покойно клубилась в его лучах. Сонно жужжала муха, перепутавшая зиму с летом. Кстати, не могу удержаться и не сказать двух слов об этой мухе. Влетела она к нам года два назад. И с тех пор летает и жужжит. Она стала как бы одушевленным предметом обстановки. Та ли это муха, что влетела тогда в комнату, или другая, никто не знает. К ней привыкли. Ну, жужжит и жужжит, черт с ней. Но в прошлом году Петька, находясь во взвинченном состоянии после очередной семейной баталии, решил с мухой покончить. Он снял с себя рубашку и скатал ее в жгут. Решительно подошел к окну. На самой верхотуре, на стекле, перебирая лапками, спокойно умывалась большая помойная муха. Видимо, она тоже привыкла к нам и ничего не боялась.
Петька подтащил к окну стул, взгромоздился на него. Привел орудие убийства в боевую готовность. Прицелился. Начал отводить руку назад.
– Открой окно. Чего проще… – сказала в этот момент Бутыльская.
– Кто вас просил говорить под руку, любезнейшая Эра Викторовна!
– Выпустил бы ты ее.
– Выпустить?! На волю?! Еще чего! – возмущенно прошипел Петька. – Нет, дорогие мои, уничтожить эту гадину – для меня дело чести! – добавил он зловеще и со всего маху врезал по мухе. Оконное стекло разбилось на мелкие осколки и разлетелось по всей комнате. Тут ножка стула под тяжестью грузного Петьки подломилась, и он, несмотря на все свои навыки альпиниста, с воплем полетел на пол. Петькины руки до локтей оказались изрезаны стеклянной крошкой. Слава богу, кости остались целы. А муха? А героическая муха успела вовремя ретироваться и перелететь на потолок. С тех пор ее оставили в покое.
Итак, вернемся к декабрьскому солнцу, которое ласкало доску с редакционными ляпами, бормочущему чайнику на плите и убаюкивающему голосу Эры Викторовны, болтавшей с кем-то по телефону.
Пищик вломился в комнату, когда на часах было два пополудни. С невероятной резвостью перебирая ногами и лавируя между столами, он, ни на кого не глядя, метнулся к окну. Бутыльская прижала трубку к груди и привстала.
– Вывоз чая за пределы Китая карается смертной казнью! – выкрикнул Филя, истерично хохоча. – Аллилуйя!
Мгновением позже он птицей взмыл на подоконник. Дернул старинный латунный шпингалет. Рванул раму на себя. Зазвенело стекло, извилисто лопнув по диагонали. Рама с омерзительным треском подалась, и морозное облако впорхнуло в комнату. Окинув всех горящим взором, Филя еще раз возопил: «Аллилуйя!» – и с шестого этажа сиганул вниз.
Еще висело в воздухе молитвенное слово, как до нашего слуха донесся звук упавшего тела. В голове завертелся глагол «брякнулся».
Первым к опустевшему окну подбежал я. С трудом сдерживая радостное волнение, я глянул вниз. Мой враг лежал ничком, уткнувшись лицом в грязный снег. Вокруг его огненно-рыжей головы, медленно разрастаясь, расплывалась темная лужица. Это было единственное, что как-то оживляло картину. Руки и ноги Пищика были широко расставлены, как у человека, который, стоя на путях, хочет остановить поезд.
Подошла Бутыльская. Она тоже глянула вниз и холодно констатировала:
– Рожденный ползать летать не должен. Был Пищик, нету Пищика.
«Псилоцибе полуланцетовиидная, или “Колпак свободы” – особый вид грибов. Входит в группу галлюциногенных грибов. В результате разового употребления у человека возникает искаженное восприятие окружающей действительности. Такое состояние принято называть психоделическим опытом, а на сленге бывалых наркоманов подобные ощущения величают “путешествием”».
Это я вычитал в одной очень полезной книжице, которую случайно углядел на столе Бутыльской. Если подмешать в чай, говорилось в ней, три грамма таких грибочков, высушенных и в порошок истолченных, и выпить это снадобье, то спустя примерно час возникнет непреодолимое стремление выпрыгнуть из окна. Справиться с этим невозможно.
А что, если подмешать десять граммов, подумалось мне. А если двадцать – для верности?
Я потратил несколько выходных, чтобы найти этот «Колпак свободы».
Из соображений конспирации я каждый раз переодевался в офицерский полушубок из нестриженой овчины, а на голову нахлобучивал лохматую казачью папаху. Полушубок достался мне от деда, страстного любителя подледного лова, и поэтому даже спустя десятилетия от полушубка воняло рыбой. Ноги грели оленьи унты, тоже дедовские. Обрядившись во все это, я подошел к зеркалу. Вид у меня был ослепительный: ни дать ни взять отважный покоритель Арктики. Я повернулся к зеркалу боком. А так – чистый махновец. Я себе очень понравился. Наверно, я хорошо буду смотреться в овощных рядах, среди горок квашеной капусты и пирамид из соленых огурцов.
«Колпак свободы». Интересно, какой болван его так назвал? Более несуразное сочетание слов трудно вообразить. Свобода ассоциируется с волей, вольтерьянством, независимостью, необозримыми просторами, прериями, бескрайними пампасами, с известной статуей, наконец. А колпак?.. Колпак – он и есть колпак.
Я побывал на «Птичке», затем расширил круг поисков – пришлось выезжать за пределы Московской области. И наконец в недрах овощного рынка в городишке Грибунине набрел на местного специалиста по галлюциногенным грибам, страдающего тяжким похмельем. По сходной цене приобрел пакетик. Кстати, у «Колпака свободы» был довольно приятный запах, напоминающий аромат спелой дыни.




