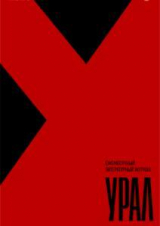
Текст книги "Млечный путь"
Автор книги: Вионор Меретуков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Холод поднимается от пола, пронизывает лодыжки, стремительно взбирается выше и уже поджимает копчик. Я ежусь. Я чувствую холод, как будто это живое существо. Странное ощущение. Если меня не разогреют с помощью ужина и чего-нибудь возвышенного, вроде качучи на столе и пинты виски, я отсюда сбегу, не дожидаясь утренних петухов.
– Я от нее без ума, – слышу я пылкий шепот Левы. Мы все еще идем за Симоной, пронизывая одну комнату за другой, не удивлюсь, если мы будем идти так до утра. Хозяйка дома, не оборачиваясь, давала пояснения:
– Колонн здесь столько, потому что надо же чем-то подпирать крышу и стены. Если бы не это, дом давно бы рухнул: ему восемьсот лет, – поведала она спокойно.
– Восемьсот лет! Возраст Царь-пушки, помноженный на два. Береги голову, если хочешь остаться в живых, – вполголоса сказал Фокин.
Мы с ним незаметно переглянулись.
– Загнала бы смарагд, вот тебе и деньги. Построила бы себе новый дворец из керамического саксонского кирпича и зажила бы в свое удовольствие – без страха за завтрашний день, – шепчет он.
– В этом зале прежде устраивались дуэли. Здесь дрались на шпагах и стрелялись на дуэльных пистолетах. Дальний предок моего мужа, маркиз Гвидо Паллавичини, живший лет триста тому назад, за приличную мзду предоставлял этот зал всем желающим поиграть с жизнью в кошки-мышки. В то время дуэли под страхом смерти были запрещены, и предприимчивый, но жуликоватый маркиз в конце концов на этом попался и сложил голову на плахе. Вот портрет этого красавчика… взгляните.
Мы послушно приблизились к полотну. У маркиза был мужественный вид: серо-голубые глаза, высокий чистый лоб и волевой подбородок. Вот как, оказывается, выглядели жулики триста лет назад. Ничем не отличаются от нынешних: те же благородные черты защитника обездоленных и смелый, открытый взгляд.
– Ну, теперь из-за обилия колонн здесь не постреляешь. А жаль… – произнесла Симона.
Наконец добрели до столовой. Расселись. Официанты, грустные, унылые, с преувеличенно размеренными движениями, слегка пренебрежительно обслуживают нас.
Хлеб черств, из закусок – десяток чикетти размером с наперсток, из вин – отвратительное «Бардолино», которое подают к обеду в придорожных кабачках. Чуть позже официанты подали кур, пережаренных и сухих. И вдобавок еще и успевших остыть. Каждому по курице, вернее, по петуху, всего три штуки. Значит, в угоду гостям свернули головы петухам, зарезали на мясо, не пожалели сладкопевцев. Интересно, кто будет кукарекать, когда приспеет время? Может, сама Симона! Зачем столько официантов, если жрать нечего? Я хотел попросить принести мне виски, но почему-то воздержался. И налег на вино, надо же было что-то пить, чтобы держать себя в тонусе.
Через час, нарушая все мыслимые и немыслимые гастрономические законы, подали огромное блюдо с устрицами. От голода я потерял голову и стал поглощать их десятками, стараясь не чавкать, пил соус и от жадности не заметил, что устрицы несвежие, и очень скоро у меня схватило живот. Я терпел, сколько мог. Наконец я почувствовал, что через мгновение произойдет непоправимое. Дрожа, как в лихорадке, я подскочил на стуле, пулей вылетел из-за стола и, цедя заплетающимся языком извинения, устремился вон из столовой. Слава богу, уборную я нашел сразу.
Хотя меня слегка и удивило, что на унитазе отсутствовал стульчак, я, пробормотав, что «так будет даже лучше, так будет сподручней», быстро спустил брюки и с ногами взгромоздился на унитаз. Издав возглас удовлетворения, я закрепился на унитазе в позе орла-стервятника, который с горы, господствующей над местностью, по-хозяйски озирает квадратные мили своих владений и с точностью до дюйма определяет дислокацию съедобного врага.
Я успел вовремя. Если бы я промедлил хотя бы секунду, случилась бы катастрофа. Теперь можно было не спешить.
Я уперся взглядом в стену, на которой в простой деревянной раме висел портрет бравого усача в форме капитана Королевской армии Италии. Справа от портрета на гвозде, вбитом в кирпичную кладку отопительной печи, висели добротные сапоги, начищенные до зеркального блеска.
В углу лежала каска, похожая на тазик для бритья, – такими пользовались в девятнадцатом столетии постояльцы недорогих гостиниц с удобствами во дворе. Я отметил про себя, что каска не могла быть применена как часть бритвенных принадлежностей, ибо пулей или осколком была пробита в двух местах.
Значит, понял я, все эти армейские аксессуары служат для того, чтобы напоминать посетителям туалета о тех временах, когда рвалась шрапнель, и солдаты, наложив полные подштанники, в грохоте сражения улепетывали от врага, что, по мысли создателя этой необычной инсталляции, должно было активизировать деятельность кишечника и способствовать полному и правильному его опорожнению. Страх как метод. На мой взгляд, это может заинтересовать медиков – проктологов и специалистов по запорам.
С наслаждением опроставшись, я понял, что попал в солдатский рай, пахнущий свиной кожей, дегтем, свежим навозом и еле теплящейся паровозной топкой. Мне стало так хорошо, что я закрыл глаза и замурлыкал какую-то песенку. Когда подошло время, я рукой нащупал цепочку и что есть силы дернул ее вниз.
На самом деле я дернул висевшую рядом с цепочкой бечевку, которая была привязана к ящику, полному кирпичей и установленному на крышке сливного бачка. Ящик с высоты двух метров рухнул вниз. Меня спасла случайность. По какому-то неведомому побуждению я в этот момент привстал и отклонился вперед. Если бы не это, я сложил бы голову под портретом капитана Королевской армии Италии и его сверкающими сапогами. На это, скорее всего, и рассчитывал тот, кто устанавливал смертоносный ящик на сливном бачке.
Я отделался лишь синяком на левой ягодице.
Потирая ушибленное место, я подумал, что в этом доме, наверно, уже не одного человека таким макаром отправили на тот свет. Смерть в сортире, что может быть ужасней? Гостеприимство по-венециански в действии.
Какое-то время я обдумывал план мести. Я бы с удовольствием засунул Симону, целиком с головой и ее выдающейся задницей, в сортир.
Видимо, Симона, когда задумывала эту подлость, вдохновлялась историей Агасфера, утонувшего, как известно, в выгребной яме.
Следующим посетителем уборной, по всей вероятности, станет Лева. Что ж, вряд ли ему повезет так, как мне. Поэтому я водрузил ящик с кирпичами на прежнее место.
Минуту я рассматривал себя в зеркале. Вид у меня, прямо скажем, был неважнецкий: перекошенное лицо, испуганные глаза и бисеринки пота на бледном лбу.
Умывшись, я поплелся в столовую залу.
Симона удивленно посмотрела на меня. Видно, не ожидала увидеть меня живым.
Ужин, как и обещала Симона, затянулся. Я апатично жевал корочку хлеба и потягивал винцо.
– Венеция обезлюдела, – жаловалась Симона, – туристов все меньше, молодежь уезжает, всем осточертели каналы и гондолы. Город маленький, не развернуться. Здесь скучно. Развлекаемся, как можем, – она хитро посмотрела на меня и подмигнула.
Некоторое время мы ведем вялый, легковесный разговор: о погоде, о знаменитостях, о футболе. Словом, разговор ни о чем, так, пустопорожняя трепотня. Мне стоило больших трудов отделаться от Фокина: он сидел как пень и никуда не собирался уходить. Симона покорила его сердце. Но она отдала предпочтение мне. Великодушие свойственно победителю, поэтому я попросил Фокина проявить повышенную осмотрительность, когда он будет спускать воду в уборной.
Лева долго бродил по дворцу, мы слышали, как он демонстративно стучал каблуками по мраморному полу, хлопал дверями и истерично вскрикивал, когда натыкался на стулья. Наконец он угомонился, уснув в саду под кустом с розами, где я и обнаружил его поздним утром.
Поворчав для порядка, он позавтракал со мной и Симоной на веранде. Отсюда была видна пузатая церковь с призывно открытыми дверями, за которыми угадывалась пахнущая ладаном прохлада, и часть канала, чернеющего на фоне домов с пока еще закрытыми ставнями,
На столе появился шотландский виски. Чуть позже – копченый окорок на разделочной доске. И каравай белого хлеба размером с мельничный жернов. Уж не решила ли Симона вознаградить меня за ночную пылкость?
Я налегал на копченое мясо и усиленно подливал Фокину.
– Ты еще не прозондировал ее? – заплетающимся языком спросил он меня час спустя. – Еще нет?! Под нежный шепот лживых обещаний выпытай у нее, где она закопала этот окаянный камень. Узнай, и я все прощу. И не тяни с этим. Пока она находится под винными и любовными парами, у тебя есть шанс…
День был посвящен возлияниям и болтовне. Спиртному в этом доме, похоже, уделяли повышенное внимание.
Свиная нога куда-то подевалась, об обеде Симона не заикалась, да и ужином не пахло. Одновременно с ногой исчез куда-то и Лева. Я подумал, уж не уволок ли он ее с собой?
Через пару часов я опять был голоден.
– Голод и холод усиливают мужскую потенцию. Так все итальянцы поступают со времен Овидия, – успокоила меня Симона, когда я нервно поинтересовался, когда же наконец подадут хоть что-нибудь поесть.
Я ответил, что такие аргументы меня не убеждают, может, итальянцам это и нравится, но я не итальянец и не собираюсь голодать и обкладывать яйца холодными компрессами, как советовал Овидий: с тех пор прошло немало времени, взгляд на эту дурацкую теорию претерпел существенные изменения, и сексологи рекомендуют куда более гуманные средства для поддержания потенции. И вообще, во времена Овидия никаких итальянцев еще и в помине не было. Этруски были, венеты были, умбры были, лангобарды были, а вот итальянцев не было. Увы, к моим доводам она не прислушалась.
Продолжая испытывать мучительный голод, я тем не менее пробыл у Симоны до середины следующей ночи. Хотя намеревался остаться до утра. Но посреди ночи нас, образно говоря, побеспокоили. Рассказ о том, как мне пришлось, распугивая котов, по крышам, вернее, перепрыгивая с крыши на крышу, почти нагишом под мертвыми лунными лучами, спасаться бегством, я приведу ниже. А перед этим я имел с Симоной разговор, носящий интимный характер с осторожным креном в сторону меркантильности.
– Камень? Какой камень? – вспылила она, когда от откровенных воспеваний ее прелестей я осторожно, стараясь ее не спугнуть, подтянулся к главному. – Ну, конечно, тетушка! – она злобно захохотала. – Старая карга! Не могла простить кратковременного увлечения моей матери ее муженьком. Это же он подарил ей камень. Платиновое кольцо, украшенное крупным то ли рубином, то ли смарагдом. Широкий жест тороватого генерала. Легко быть щедрым за чужой счет.
Значит, и муж Бутыльской не терялся во время войны. И нечего его осуждать за это. Он действовал в соответствии с классической воинской традицией, следовать которой начали еще во времена палеолита: имущество побежденного «по праву войны» принадлежит победителю. И никакое это не мародерство. Кольцо с рубином такой же трофей, как вражеские знамена и ордена, как произведения искусства, как костяные гребешки, губные гармошки, штампованные часы, автомобили, танки, гаубицы и подводные лодки. Сколько же еще в распоряжении Бутыльской находилось этих трофеев? Я вспомнил аспидно-зеленое бальное платье на новогоднем балу в бывшем особняке графа Игнатьева, водопады драгоценностей и заколку с брильянтовым бантом. Трофей. Для военных это закон. И в наше мирное время закон победителя остается законом. Это является законом даже для тех, кто не может отличить детский пистолетик от могучего «Магнума».
– Не слишком ли быстро ты решил стать поверенным в моих семейных делах? – воскликнула она и с такой силой откинула одеяло, что оно перелетело мне на голову.
– Симона, любовь моя, уймись, – сказал я, вложив в голос как можно больше приторной сладости, – я лишь хотел помочь тебе. Продашь кольцо и сохранишь себе жизнь, – чтобы усилить впечатление искренности, я сделал попытку ласково обнять ее.
– Ты мне угрожаешь?! – отстранилась она.
– И не думаю. Я совсем о другом. За кольцо получишь огромные деньги и отремонтируешь свое бунгало. Надо делать это поскорей, не то вся эта средневековая красота обрушится тебе на голову.
– Одного не могу понять, тебе-то какое дело? Из каких, так сказать, соображений?..
– Из соображений сугубо филантропических. Люблю, знаешь, помогать замужним женщинам.
– Никакого кольца у меня нет. Оно давным-давно потерялось или было продано, черт его знает, я не помню…
Похоже, не врет. Коли так, надо было под каким-то предлогом быстренько отсюда смываться. Я по-прежнему испытывал страшный голод. Кроме того, в спальне было холодно, как в морозильной камере. Если я пробуду здесь еще час, то околею либо от простуды, либо от голода. Не до потенции тут.
Она провела рукой по моей груди и уперлась в цепочку с ключом.
– Что это? Почему не крестик? Ты что, неверующий? – ужаснулась она.
– Верующий, верующий. А это ключ от небесных врат. Кстати, когда вернется твой муж? – деликатно поинтересовался я.
– Вообще-то, – она зевнула и бросила взгляд на стенные часы, – вообще-то он обещал быть еще вчера. Ага, – сказала она, поднося палец к губам и прислушиваясь, – а вот и он. Советую тебе побыстрей сматывать удочки. Он всегда держит при себе тесак из золингеновской стали. Он тут прирезал двоих или троих. Он страшный человек, жестокий, волосатый, сильный, на зверя похож, – она захохотала дьявольским смехом, – у него когти на ногах, как у медведя, он может разодрать тебя на части…
В разные конфузные ситуации попадал я на протяжении своей жизни, полной амурных историй не всегда с благополучной развязкой. Все было. Были и драки, и страстные выяснения отношений, и слезы, и молитвенные стояния на коленях с воздеванием рук к небесам, и проклятия, и угрозы, и даже барьерный бег, то бишь преодоление частоколов и двухметровых каменных заборов с битым стеклом и колючей проволокой. Но все это происходило у меня на родине. Где, кажется, сам воздух пропитан знакомым духом и стены, как говорится, помогают. А тут враждебная страна, Венеция. Кстати, в последнюю войну русские и итальянцы постреливали друг в друга. Кроме того, я даже не знаю, в какую сторону бежать.
– Слышишь? – зловещим шепотом спросила Симона.
Как не слышать! Звуки шагов разносились по всему зданию. Казалось, вышагивает статуя Командора, а за ней рота кирасиров. Даже колонны завибрировали. Грохот нарастал. Так по-хозяйски мог шагать лишь тот, кто имел на это право. Я подскочил как ошпаренный и бросился искать свою одежду.
– Куда все подевалось? – взревел я, натягивая на себя первые попавшиеся трусы.
– А разве ты пришел не так? – хохотала Симона.
Вот они, развлечения пресыщенных венецианок! Спрятала, мерзавка, одежду. Трусы если и одежда, все-таки не та, в которой уходят из гостей. Особенно если это трусы женские. Как я буду выглядеть в таком виде на улице?
Спасая свою жизнь, я покинул театр военных действий без боя, оставив победителю в качестве трофея все свои шмотки. Вещей, конечно, не вернуть, но было и чему радоваться: хвала Создателю, я хоть документы оставил в номере. А то оказался бы в чужой стране не только в чем мать родила, но и без паспорта.
Надо признать, Симона грамотно меня обыграла. Сначала ящик с кирпичами, потом попользовалась моей… как бы это сказать помягче… моей мужской слабостью, а теперь еще и трусы. Шутить столь жестоко даже я не умею. Я был до такой степени обескуражен своим поражением, что забыл вознаградить победительницу затрещинами.
Кстати, должен с прискорбием отметить, что рубенсовские прелести Симоны никак не соответствовали ее технической оснащенности. Попросту сказать, в постели она была холодна как лед. Во время этого самого дела она курила сигарету за сигаретой и поминутно осведомлялась, сколько времени, по моему мнению, осталось до конца.
Глава 46
Еще не родился Колумб. И Коперник еще не сказал, что Земля и планеты вращаются вокруг Солнца. На Руси еще не было слышно о хане Батые. На месте Берлина стояли шалаши гуннов Аттилы, не было «Божественной комедии» Данте, не было в Риме собора святого Петра, а лондонские ремесленники еще не начинали борьбу за Великую хартию, когда в Венеции было официально разрешено убийство человека человеком, если речь шла о сохранении семейной чести. Недели не прошло, как прикончили первого прелюбодея. Осатаневший рогоносец перерезал горло любовнику своей юной жены метровым тесаком. Симона не так уж молода и не так уж красива, но, судя по всему, ее муж считает иначе, и для него она полна очарования юности. Судя по тому, как он шагал, рогоносец был настроен весьма решительно. По ее словам, удачный опыт расправы у него был. Почему бы ему не прирезать очередного разрушителя семейного счастья? Я правильно сделал, что вовремя дал деру.
О, боже! Как грохотали крыши под моими босыми ногами! Так они, наверно, не грохотали даже под ногами Казановы, когда тот улепетывал от тюремщиков. Мог ли я подумать еще час назад, что мне придется, сверкая пятками, удирать от вооруженного до зубов рогоносца! Но как же крепко, однако, спят венецианцы. Ни одно окно, ни одна ставня не распахнулась, ни одно заспанное лицо не высунулось, чтобы поинтересоваться, кто это поднял такой тарарам на весь город! Видно, в них сидит генетическая глухота с бесчеловечных времен Венецианской республики, когда ночной шум и предсмертные вопли были обычным делом.
То, что я установил рекорд Гиннесса по скоростному перемещению по венецианским крышам, не подлежит сомнению. Я и не подозревал, что так быстро навострюсь прыгать с кровли на кровлю. Галопировать с такой скоростью по крышам, да еще в женских трусах, это, знаете ли, не каждый сможет! Преследователь или преследователи – интересно, сколько их было? – от меня отстали. То ли были утомлены погоней, то ли устрашились высоты. Я, наверно, доскакал бы так и до родной Мушероновки, если бы в одном месте не проломил пяткой прохудившуюся от времени черепичную плитку. Не успев толком испугаться, я провалился в чердачное помещение, угодив, на счастье, в громадную кучу тряпья. С осторожностью пошарив в темноте, я нащупал руками какой-то ящик, взобрался на него и таким образом вновь выбрался на крышу. «Здесь, в Венеции, скучно», – жаловалась эта сука Симона. Вот уж не сказал бы!
…Я утвердился на коньке кровли и, насколько позволяла обстановка, попытался настроить себя на созерцание дремлющей Венеции. В ней было нечто эротическое. Венеция обволакивала, я тонул в ней, как тонешь в глазах женщины, которая выдает свое вожделение за любовь. Вокруг расстилалась ночь. Долгая-долгая ночь, которая, кажется, и не собиралась отходить в прошлое.
Мне вдруг пришло в голову, а хорошо бы именно здесь завершить свой жизненный путь. Смерть в Венеции? А что? Совсем не плохое место. Правда, сыровато. Но зато как романтично!
Здесь обрели последний свой приют Марко Поло, Тициан, Дягилев, Эзра Паунд, Иосиф Бродский. Какие имена! Хорошо бы пристегнуть к великим мертвецам Илью Сапегу, может, это придаст ему значительности хотя бы в собственных глазах. Смерть в Венеции как кульминация индивидуального величия духа. Размышления о смерти, как обычно, увлекли меня, и я готов был помереть хоть сейчас: если что и мешало мне, так это отсутствие одежды – женские трусы, разумеется, не в счет. И потом, мне не хотелось умирать босым, на голодный желудок да еще на такой верхотуре. Я посмотрел на свои ноги. Они выглядели как ноги покойника. Я с изумлением обнаружил, что они начали фосфоресцировать. Как гнилушки в ночном лесу. Биолюминесценция? Как напоминание о смерти? Мои туфли остались там, куда мне нет хода. Мысль, что аристократический рогоносец, победительно постукивая каблуками, поутру отправится в них на рынок Риальто за помидорами и баклажанами, повергла меня в бешенство, и мысль о самоубийстве сама собой отпала.
Я огляделся. По моим представлениям, уже давно должно было бы наступить утро. Но вокруг по-прежнему расстилалась бесконечная южная ночь.
Внутри меня всегда находятся часы, которым я слепо доверяю и которые подводили меня лишь тогда, когда я помногу и подолгу пил: это когда мутная ночь сменялась не менее мутным днем. Когда, просыпаясь и смотря на циферблат будильника, я не мог понять, что показывают стрелки: семь утра или семь вечера.
Когда же я бывал трезв, а это случалось, слава богу, куда чаще, то, пробудившись и не глядя на часы, я иногда с точностью до минуты мог определить положение стрелок. Сейчас я был в затруднении. Часы и мобильник я оставил в номере, на крыше же не у кого было спросить, который час. А ночь все длилась и длилась. Вообще, похоже, венецианская календарная ночь во много раз длинней венецианского календарного дня. Утверждаю это с полной уверенностью, исходя из своего печального опыта. Впрочем, возможно, ее продолжительность зависела не столько от всемирных законов, сколько от того, как много я вчера выпил. Я помотал головой, снова огляделся, и тут из коричнево-серого клочковатого тумана выплыли крыши соседних домов, стены, колоны, портики, а чуть дальше – узкое зеркало некоего канала; далеко-далеко замигали огни пробуждающегося города. Из облаков высунулась бледно-розовая луна. Луна вместо солнца. Сразу посветлело. Я встрепенулся и полез обратно в дыру. И не без успеха. В куче хлама я обнаружил вонючее рванье, которое кое-как напялил на себя. И – о, счастье! Ботинки! Вернее, футбольные бутсы со сбитыми шипами. Они оказались мне впору. Если удастся выйти живым из этой передряги, возьму их с собой.
А пока мне предстояло каким-то образом выбраться на улицу. Спрыгнуть на брусчатку – верная гибель. Соскользнуть вниз, обняв водосточную трубу? Но я не Петька Меланхолин: нет у меня его альпинистских навыков. Да и трубы не видно. И я снова полез в дыру. Луна, освободившись от туч, проникла наконец-то в чердачное помещение. Это позволило мне обнаружить не запертую дверь, которая вела на лестницу, а та в свою очередь через сад – к калитке, тоже не запертой. Это была несомненная удача. И вот я на свободе. Быстро светало. Легко вздохнув, я вышел на улицу и, топоча бутсами, побежал в сторону отеля. На полпути меня накрыл мощный ливень. Он закончился так же внезапно, как и начался. Но этого хватило, чтобы я вымок до нитки. Лохмотья, намокнув, облепили тело. Завоняло помойкой. На миг я притормозил у кондитерской. В широком витринном окне, как в зеркале, отразился грязный подозрительный оборванец.
Войти в пятизвездочный отель в таком виде нечего было и мечтать. Номер Фокина находился на первом этаже. Это я помнил. Пришлось-таки мне вспомнить альпинистские подвиги моего первого бесценного друга. Я подтянулся на руках, перелез через перила, открыл балконную дверь и проник в его номер.
Фокин не спал. Он сидел на диване и курил. Перед ним на столике стояла полупустая бутылка виски. Когда я вошел, он встал. Казалось, он совсем не удивился. Глаза его вспыхнули веселым огнем.
– Ты неотразим! – одобрил он мой внешний вид, кружа вокруг меня и похохатывая. – Но вчера ты выглядел все-таки лучше… Результат встречи с разгневанным мужем? – он указал пальцем на мои обноски.
Я кивнул.
– Синяков, переломов, огнестрельных и колото-резаных ран нет?
– Бог миловал.
– Легко отделался.
После паузы он неожиданно выпалил:
– Твоя приятельница по имени Вика опять свободна.
– Развелась? – Я уже перестал удивляться, что Фокину известны мои знакомства и мои связи.
Фокин загадочно улыбнулся.
– Ее муж врезал дуба. Переохладился. Опасно нежиться в ванне со льдом, когда у тебя столько врагов. Она теперь многократная вдова. Безутешно скорбит. Говорят, с горя купила себе новый дом на Рублевке. И подумывает о новом браке.
– А что Маша?.. – спросил я, вспомнив ординарца маршала.
Фокин наморщил лоб.
– Маша? Какая еще Маша? Ах, эта… Мне удалось ее не привлекать… не так уж она была, в сущности, и виновата. Маршал обещал, что облагодетельствует ее, и… надул. Вот она его черпачком-то и огрела.
– И где она теперь?
– Готовится к выполнению ответственного задания. Отрабатывает прыжки с парашютом. Она же теперь крепко замазана. Она на крючке. А из таких-то как раз и получаются самые преданные агенты. С моей подачи ее повысили до капитана. А что касаемо маршала… был он герой, но был, чего уж тут скрывать, и вороват… и изрядно прижимист. Люди этого не любят. Он и с тобой не расплатился за работу над мемуарами. Вот ты его картинку-то и слямзил. Так?
– С твоего позволения я приму душ, – сказал я и принялся стаскивать с себя одежду. Намокнув, она прилипла к телу, и мне пришлось буквально отдирать ее от тела, труднее всего оказалось снять с себя трусы: они буквально приросли к коже.
– Хорош трофей! – смеясь, издевался Лева. – Кстати, камушка ты, конечно, не обнаружил?
– Говорит, потеряла… или продала…
После ванны я с наслаждением растерся полотенцем и облачился в хозяйский халат.
– Скажи, какого черта ты дал мне фальшивый ключ? – спросил Лева через минуту.
– Ключ был настоящий, из легированной стали, ты об него, помнится, коронку сломал.
– Скотина! – он задохнулся от возмущения. – Рассказать тебе, как меня там отделали? Сначала все шло прекрасно. Перед отлетом загримировали меня под Бублика, взял я из следственного дела его паспорт и отправился в Стокгольм, но дальше… Прохожу в банк, все чин-чинарем, сую ключ… и тут как завоет сирена! Меня еле отстояли наши ребята из посольства.
– Есть еще второй ключ, в два раза больше первого, – вкрадчиво сказал я.
– С меня довольно, – он со злостью покосился на меня. – Мне и первого хватило с избытком. У меня до сих пор ребра побаливают. Таблетки не помогают. У тебя случайно нет какого-нибудь бальзама или мази, чтобы снять боль?
– Мази нет, – сказал я. – Зато есть порошки.
– Знаю я твои порошки… – пробурчал он, – обойдусь как-нибудь таблетками.
Я с трудом уговорил Леву дать мне на время что-то из одежды. Он упирался, предлагая мне отправиться на завтрак в халате и бутсах. В конце концов, он, ворча и причитая, выдал мне шорты, майку и шлепанцы.
Свежий ветер с моря приятно холодил тело. Мы расположились на веранде отеля Bonvecchiati. После принудительной голодовки у Симоны и ночного кукования на крышах у меня разыгрался аппетит, и я с таким рвением набросился на свежеиспеченные круассаны, горячий хлеб и кофе с пирожными, что на меня вышли поглазеть повара.
Ни к селу ни к городу вспомнился Генри Миллер: «Лишь убийцы получают некоторое удовлетворение от жизни». Здесь ключевое слово «некоторое». То есть, полагает Миллер, в этом гнусном мире даже тем, в чьих руках чужие жизни, не всегда живется так, как им того хочется. А об остальных и говорить нечего.
А Фокин тем временем разливался соловьем.
– Странно, что я тебя еще не пристрелил, – говорил он, потягивая через соломинку крепкий коктейль и разглядывая меня сквозь солнечные очки. – Ты упорно пренебрегаешь моими советами. А зря. У тебя нет ясной цели, так вот, я тебе ее обеспечу, так сказать, обозначу, а твое дело, следовать моим советам или нет. Каким-нибудь ясным утром, сегодняшнее утро уже упущено, допустим, завтра ты должен сказать себе: все, с прошлым покончено!
– Если я покончу со своим прошлым, от меня ничего не останется.
– Ты все усложняешь. А надо на жизнь смотреть просто, – продолжал Фокин.
– Я и смотрю просто.
– Если бы! Ты не на жизнь смотришь просто, дуралей, а на смерть! В этом твое глубочайшее заблуждение. Ты влез не в свое дело, займись тем, чем занимался всю жизнь. Ты ослепительно талантлив. Протри глаза и вернись в прошлую жизнь, я помогу тебе. Да у тебя это единственный шанс. Пиши книги.
– Писать? Ну, уж нет. Ждать, что тебя признают через сто лет?
– Ты останешься в вечности, идиот. Как Толстой, как Сервантес…
– Остаться в вечности… – я засмеялся. – Я хочу жить сейчас, а не через сто лет. Что мне до того, что меня признают после моей смерти. Я же этого не увижу! Пойми, меня не будет! Я не смогу насладиться успехом. А не это ли главное?
– Пиши, пиши… Главное не в этом, еще Пушкин сказал, что главное… – Фокин зевнул во весь рот, – главное – это выразить себя в звуке.
Я слушал болтовню Фокина и думал, что он, в сущности, разобрался во мне лучше меня самого. Укокошить его, что ли?
Но тут некое чувство вроде жалости или болезненного сострадания вдруг шевельнулось у меня в груди, что ненадолго привело в смятение мой грязноватый дух. Не напрасно я этого опасался. Видно, совесть изжита мной не окончательно.
– И весна мне не на радость, коль зима в душе моей… – запел Фокин. У него был приятный баритон. Почти как у Геворкяна. – Это песня про тебя. Жить надо страстями. А ты живешь головой. А поскольку она у тебя дырявая, все у тебя идет сикось-накось.
– Будь она проклята, эта Венеция! – вдруг вырвалось у меня.
Поздно вечером ко мне в номер постучали. Оказалось, служащий принес сверток от Симоны. В нем были мои шмотки и записка всего в одно слово: «scusa». Здесь все вежливы, не исключая богатых мерзавок.
…Я никак не мог уснуть. Пересчитал миллион слонов, потом – миллион баранов, потом – миллион ослов. Чуть не рехнулся. Миллионные стада вхолостую трубили, крутили хвостами, блеяли и шевелили ушами: сон не шел. Забылся я только под утро. Приснился мне ужасный сон. Будто я шестидюймовыми гвоздями приколачиваю Иисуса к зеркальному кресту на луковке моей церкви в Мушероновке.
Тонкая струйка крови на узкой, розовой, почти детской ладони. Кровь течет по желобку ладони, желобок, заполненный кровью, это и есть Его короткая земная линия жизни… Иисус, нежный, хрупкий, похожий на мальчика или юную женщину, слабо постанывает, протягивает мне окровавленную ладонь и недоуменно смотрит на меня пронзительно синими глазами.
Звонарь, похожий на Петьку, берется за веревку и с остервенением дергает ее книзу. Потом повисает на веревке и изо всех сил тянет ее к земле. Колокол отзывается пронзительным звуком, рвущим душу на куски. Я плачу. Но продолжаю злодействовать. Я уже не могу остановиться. Один гвоздь вбит, три других зажаты во рту. На языке кисловатый вкус ржавого железа. Я деловито и сноровисто, упершись коленом в хрупкое тельце Христа, работаю молотком, похожим на тот, что лежал на золотом блюде во дворце Симоны.
Некогда Агасфер отвесил оплеуху самому Христу. Нет-нет, я не какой-то там заср…ный Агасфер, я не стану размениваться на оплеухи! В моих руках длинный тонкий нож. Я убийца. Я убиваю Христа! Полилась кровь – темная, густая, как патока. Я видел детскую ладонь, видел линию жизни, прямую и ясную, как слово пророка. Я пресеку эту линию, я вобью в нее гвоздь, и человеческая история с этого мгновения потечет вспять.
И вот работа завершена. Все гвозди израсходованы. Ладони и ступни Иисуса намертво прибиты к зеркальному кресту. Голова Христа со спутанными волосами лежит на ввалившейся окровавленной груди. Иисус мертв! И тут словно раскаленное железо прожигает мне сердце. О, горе мне, горе! Да я же только что вколачивал гвозди в самого себя!




