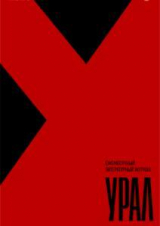
Текст книги "Млечный путь"
Автор книги: Вионор Меретуков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Конечно, я бодрился. На самом деле я чувствовал себя отвратительно. Я никак не мог избавиться от ощущения, что кто-то пробрался мне в душу и наследил там грязными ногами.
…Таксисту она назвала какой-то адрес. Сначала я пропустил ее слова мимо ушей. Потом насторожился. Кажется, она произнесла: «Сретенка». Машина остановилась у подъезда, который мне был хорошо знаком: полгода назад я выходил из него в шубе Деда Мороза, с мешком на плече.
– Ты здесь живешь? – спросил я, стараясь скрыть изумление. Похоже, в этом мире все крутится вокруг некоего мифического центра, который с полным основанием можно назвать средоточием случайностей.
– Здесь живет Генрих Наркисович Геворкян, мой будущий муж.
– Отличный выбор! – одобрил я. – Блондинка выходит замуж за потомка покорителя горы Арарат…
– Он москвич в шестом поколении. Его предки жили на Сретенке еще во времена Ивана Калиты.
– Тогда еще не было никакой Сретенки. Да и армян не было…
– Не говори глупостей, – раздраженно сказала она. – Армяне были всегда. Ты поможешь мне поднять вещи на десятый этаж?
– Только этого не хватало!
– За это, – сказала она, не слушая меня, – я тебя с ним познакомлю.
– Как-нибудь в другой раз, – уклонился я.
Вещи на десятый этаж в результате поднял таксист.
Глава 24
Целую неделю я только тем и занимался, что, чертыхаясь и стеная, приводил свое гнездышко в порядок.
В пятницу я позвонил Корытникову. Поведал ему о разгроме в квартире.
– Мне почему-то кажется, что это твоя работа, – заявил я. Тут не до церемоний.
– Как ты мог подумать такое! – театральным голосом вскричал он. – В основе наших отношений – полное и безоговорочное доверие. Если ты мне не веришь, нам лучше…
– Расстаться?
– Нам лучше встретиться и объясниться.
Мы встретились и объяснились. У него дома.
Об утаенных драгоценностях я умолчал. Зато признался в краже картины.
– Ты мог все погубить… – болезненно перекосив рот, воскликнул он со слезами. Плачущий монстр. Наверно, прячет, подлец, в рукаве свежеразрезанную луковицу.
– Картина меня заворожила, – солгал я. – Она меня притягивала. Я не устоял. Я хотел владеть ею единолично. Как любимой женщиной. Что мне теперь с ней делать?
Корытников деловито осушил глаза платком и сказал:
– Черт с ней. Оставь себе. Илья, голубчик! – Корытников молитвенно сложил руки. – Заклинаю тебя, не делай глупостей.
– Скажи, ты знаешь, кто побывал у меня дома?
– Повторяю, я здесь ни при чем. Но я готов помочь тебе привести квартиру в порядок.
– Лучше узнай, кто у меня все в доме раскурочил.
Корытников кивнул. Он стоял, как обычно, у книжного шкафа и по привычке барабанил костяшками пальцев по стеклу.
– Кстати, можешь меня поздравить, – сказал он и указал на полки с книгами. Гоголи с золотыми корешками исчезли. Их место заняли одинаковые тома черного цвета. – Я произвел выгодный обмен. Обменял с небольшой доплатой 600 Гоголей на 600 Библий. Есть мнение, – он глубокомысленно возвел глаза к потолку и даже погрозил пальцем люстре, – недалек тот день, когда Библия станет пользоваться повышенным спросом.
Когда моя квартира приобрела более или менее пристойный вид, я решил, что пора позвонить Вике. Тем более что я истосковался по женской ласке.
– Все готово к принятию высоких гостей: постель расстелена, – проинформировал я ее.
– Приезжай лучше ты к нам. Постарайся поспеть к обеду.
– Ты хочешь заменить любовь биточками с рисом?
Она засмеялась:
– Приезжай, не пожалеешь.
– А что будут подавать?
Она перестала смеяться и отчеканила:
– Стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой. Яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках. Филейчики из дроздов с трюфелями. Перепела по-генуэзски.
– И шипящий в горле нарзан?
– Да-да, и шипящий в горле нарзан.
Генрих Наркисович оказался пожилым господином с мягкими, вкрадчивыми манерами. Чернобородый, с большим красным ртом и выпученными черными глазами, он напомнил мне образцовского Карабаса-Барабаса. Генрих Наркисович был, что называется, человеком дела. Его мало интересовало прошлое Вики. Она была хороша собой, мало того, она была блондинкой, что для южанина значит очень много, и она была моложе его на тридцать лет, что значит еще больше.
Обед, несмотря на отсутствие заявленных филейчиков, перепелов и стерляди, был восхитителен. Он был выдержан в древнерусском стиле. Повар постарался на славу. Лебедь жареный, медвяной. Мальвазия в золотых кубках, тетерева, журавль под взваром в шафране, лососина с чесноком, заяц в рассоле.
– Угощайтесь, – Генрих Наркисович широким жестом пригласил меня к столу.
– Да вы патриот, Генрих Наркисович! – сказал я и уточнил: – Русский патриот.
– Чтобы быть русским патриотом, совершенно не обязательно быть русским по национальности, – напыщенно сказал он. – Может, вы хотите еще чего-нибудь? Говорите, не стесняйтесь.
Когда-то я редактировал кулинарную книгу со старинными русскими рецептами. Мне не хотелось ударить в грязь лицом. Я напрягся…
– Мне бы чего-нибудь… – я защелкал пальцами, усаживаясь и покрывая салфеткой колени, – чего-нибудь этакого. Вроде тюри с редькой, вымени отварного, яиц с крапивой и свекольного кваса.
– Это в следующий раз, – миролюбиво откликнулся он. – А пока – чем богаты, тем и рады.
– Как это есть? – спросил я хозяина, когда увидел все это великолепие на столе да еще на золотых блюдах. – Я в затруднении.
– Руками, мой юный друг, руками!
Я так наелся, что с трудом вышел из-за стола. Вечер был посвящен игре в карты, сигарам, коньяку и болтовне. Генрих Наркисович делился своими воспоминаниями и учил Вику правильной семейной жизни.
– Я много грешил, но я всегда придерживался строгих моральных правил, – назидательно сказал он и бросил на Вику многозначительный взгляд.
– Ты, по слухам, не пропускал ни одной юбки, – вскользь заметила она, тасуя колоду.
– Это не имеет ни малейшего отношения к морали! Душа мужчины не должна отвечать за прегрешения тела! – запротестовал он. – И потом, это наглая ложь! Я знаю, какой негодяй распространяет эти слухи! Повторяю, я всегда придерживался строгих моральных правил. Мои отношения с женщинами, – он помедлил и в задумчивости почесал бороду, – неизменно носили дружеский характер, базировавшийся на взаимном уважении.
– Тому доказательство семь твоих браков. Хотелось бы знать, изменял ты своим женам или нет?
– Чрезмерное любопытство наказуемо, – пробурчал Геворкян.
– Нет, ты должен признаться! Изменял?
– Практически нет.
– Практически нет?! – дьявольски захохотала Вика. – Значит, изменял!
– Очень редко. Хотя стоило бы почаще. А они, мерзавки, мне изменяли. К счастью, я не ревнив. Удивительное дело, я им практически не изменял, а мне, такому красавчику, душонку, жены изменяли. И делали они это с размахом. А ты изменяла своим мужьям? – он резко повернулся к Вике.
– Нет, – сказала она и преданно посмотрела Геворкяну в глаза. И добавила: – И ничуть об этом не жалею.
* * *
В каждом человеке от рождения намешано всего поровну: и порока, и добродетели. Чуть перегни палку в сторону порока, и ты – негодяй. Перегни палку в сторону добродетели, соверши, к примеру, героический поступок, лучше со смертельным для тебя исходом, и ты – почти святой.
Как сказал один умудренный жизнью писатель, во всем должна быть капелька абсурда. Без этой капельки жизнь была бы убийственно скучна. Абсурд – это отсутствие намека на порядок, на общепринятую норму. От отсутствия нормы до сумасшествия – пара шагов. Первый шаг – это утрата чувства реальности. Второй – потеря своего «я», то есть потеря себя как личности. Ты растворяешься в окружающем мире и обретаешь бессмертие. Вот эта часть абсурда мне по душе. Я всегда мечтал о бессмертии. Думаю, об этом мечтают все – все без исключения. Хотя очень часто публичные персоны лгут, что они ни за какие коврижки на это не согласятся. Они утверждают, что, даже если бы известный инфернальный соблазнитель гарантировал им бессмертие даром и без каких-либо предварительных условий, они бы с негодованием отказались. Иными словами, лучше умереть, к примеру, восьмидесятилетним, чем жить до тысячи, как Агасфер, считают они. Умереть, умереть, умереть! Пусть не сегодня, пусть завтра, но – умереть. Это ли не сумасшествие – предпочесть жизни смерть?!
Неужели эти люди не замечают, что мир близок к тому, чтобы полностью погрузиться в сумасшествие? Я бы с удовольствием подтолкнул его в этом направлении.
Для этого необходимо только слегка пошевелить обыденность и внести в нее немного сумятицы. Чем больше действующих лиц – тем больше неразберихи и меньше уныния. Почему бы не вовлечь в игру Сашку Цюрупу? Тем более что он владеет картинной галереей. Я позвонил ему.
Было время обеда, и Сашка что-то жевал.
– Геворкян? – переспросил он с набитым ртом. – Как же, как же… объект, достойный пиетета. Я с ним, можно сказать, дружу. И регулярно у него бываю. По субботам. Мы играем в карты. В последний раз этот мерзавец раздел меня до исподнего. Надо бы отыграться. А как ты с ним познакомился?
– Через общих знакомых.
– Все понятно, – он засмеялся, – через бабу.
* * *
Генрих Наркисович посматривал на меня с известной долей недоверия и, возможно даже, подозрения, и это понятно: хотя он и утверждал, что не ревнив, но кто станет доверять доброму приятелю хорошенькой невесты, которая к тому же трижды стояла под венцом? А когда несколько дней спустя, в очередной свой визит, я завел разговор о бриллиантах, он еще и насторожился. Но когда я сказал ему, что не с неба свалился, что у нас общие приятели, – тут я назвал Сашку Цюрупу, – он не только успокоился, но и стал посматривать на меня с симпатией. Он даже заулыбался. Видимо, упоминание о Сашке вызвало у него приятные воспоминания о выигрыше. Может, он подумал, что и на мне ему удастся поживиться. А еще через несколько дней я показал ему одно из ожерелий.
Как ни старался он спрятать изумление под напускным равнодушием, глаза его выдали: я увидел, как в них вспыхнул алчный огонек.
Повторяю, Генрих Наркисович был человеком дела. Стоя под люстрой, он, вставив в глазницу лупу часовщика, внимательно осмотрел колье со всех сторон. Потом с видом знатока подержал колье в руке, как бы взвешивая его. Я стоял в стороне и любовался им: чернобородый, с выпученными глазами, он действительно был очень похож на Карабаса-Барабаса.
– Позвольте полюбопытствовать, откуда у вас это? – он продолжал рассматривать колье уже без лупы.
– Помнится, кто-то сказал, что чрезмерное любопытство наказуемо.
– И все же?..
– Нежданное наследство, фамильные драгоценности от богатой бабушки из Сарапула.
– Из Сарапула? Где это? – озадаченно переспросил он. – Впрочем, наплевать. Лимон деревянных, – вынес он вердикт. В голосе его звучал металл.
Я усмехнулся. Он тоже. Мы оба отлично понимали, что ожерелье стоит во много раз дороже.
Я вспомнил, что лишь моя невольная ошибка уберегла его от смерти. То, что он не знал об этом, никак его не извиняет. Ему бы следовало проникнуться ко мне чувством повышенной признательности, а он, неблагодарный, вместо этого пытается меня надуть. Я посмотрел на то место на полной груди Генриха Наркисовича, где у него должно было находиться сердце, и подумал, что было бы неплохо проверить, достанет ли моя самая длинная спица до правого предсердия.
Он понял, что в своем жульничестве переборщил, и попытался смягчить тон:
– Один мой очень хороший знакомый и, к слову, баснословно богатый человек как-то поутру на своей роскошной яхте, находясь вдали от берегов родной Невы, а конкретно на Гавайях, повелел своему слуге, чрезвычайно почтенному индивидууму с магистерским дипломом, доставить ему килограмм папирос «Беломор». Килограмм, и ни граммом меньше, и ни граммом больше. Каприз, самодурство! Уж не знаю как, но к вечеру этот килограмм был на яхте. Так вот, мой приятель лично взвесил все эти папиросы и, когда обнаружил, что там что-то не так, повелел выбросить магистра – в брюках, пиджаке и туфлях – за борт.
– Утонул?
– Не знаю… Но то, что прекрасные туфли от Кристиана Лабутена пришли в полнейшую негодность, мне известно достоверно. Так вот, он, этот самодур, мог бы отстегнуть за эту вашу безделку, может быть, и больше. Я переговорю с ним.
Внезапно Геворкян переменил тему. Он, как я уже успел заметить, любил в разговоре перескакивать с одного на другое.
– Вокруг всех нас расстилается безжалостный мир низменных страстей, демагогии, стяжательства и бесстыдства, – говорил он, оттопыривая нижнюю губу. – Таким мир был во все времена. Наверху может комфортно и уверенно чувствовать себя только особая порода двуногих. Им начхать на все, что не входит в сферу их интересов. Но если мы будем беспрестанно зубоскалить, плакаться, стенать, причитать и тайно завидовать тем, кому удалось больше, чем нам, мы придем к краху, к иссушению души. Констатация ущербности, несовершенства, уродства мира – все это очень мило, но, как говорят шахматисты, неплодотворно. Мы, обычные люди, народ, защищаемся от несправедливости мира. Бодрим себя пьянством, дружбой, работой, любовью, болтовней и надуманным цинизмом. Словом – живем. Знаете, чем хороший человек отличается от мерзавца?
– Тем, что, совершая дурные поступки, в отличие от мерзавца, испытываем отвращение?
– Совершенно верно! Между святым и мерзавцем располагаемся все мы. Мы взяли всего понемногу: и от первого, и от второго. Это называется быть хорошим человеком. Мы все хорошие люди. Даже мой сосед и близкий друг Цинкельштейн… Хотя его давно пора повесить.
Он помолчал, переваривая собственные соображения.
– И еще. Право устанавливает сильный. Это аксиома. Сильный говорит слабому: то, что я считаю выгодным для себя, – правильно, законно и справедливо для нас обоих. Попробуй ослушайся! Знаете, что погубило Березовского?
– Какого Березовского?
– Ну, того самого…
Я задумался.
– Вероятно, неумение правильно рассчитывать ходы. Хотя он был неплохим шахматистом. Но жизнь не шахматы.
Геворкян, как мне показалось, посмотрел на меня с любопытством.
– Хотя вы и заговорили банальными афоризмами, вы совершенно правы! Мы-то с вами понимаем, что подвела Березовского его чрезмерная самоуверенность, то есть вера в собственную непогрешимость. Березовский – это трагическая фигура. Был ли он умным человеком?
– Был. Но – не совсем.
Лицо Геворкяна зарумянилось от удовольствия.
– Какое точное определение! Вот именно: не совсем! Но сам Борис Абрамович был уверен, что он умнее всех! Он недооценил соперников. Березовского в какой-то момент занесло. Его и раньше заносило, он совершал ошибки, но его спасала удача. Он полагал, что удача будет всегда при нем. И это его погубило. В финале у него хватило ума осознать, что во всем повинен он сам. Это было крушением его иллюзий. Жизнь была для него шахматной партией, где он всегда должен был выигрывать. Он считал, что способен обыграть кого угодно. Но он просчитался. И его обыграл тот, кто играл несравненно хуже, но кто умел выжидать. В какой-то момент удача отвернулась от Березовского, и посредственность обыграла яркий талант. Борис Абрамович проиграл. Проиграл всухую, проиграл самую главную партию в своей жизни. Вынести он этого не мог. И поэтому он умер. Впрочем, возможно, кто-то ему в этом, так сказать, посодействовал.
– Ваши изречения надо записывать и издавать отдельной книгой.
Он тут же ухватился за эту идею:
– Вот и займитесь этим, вы же издатель!
Глава 25
В субботу, после раннего обеда, к слову, вновь изысканного и до чрезвычайности вкусного, на этот раз это была экзотическая индийская кухня, мы очень мило проводили время, ковыряя в зубах палочками из корня сальвадоры персидской и развлекая себя умеренной выпивкой, сигарами и утонченной беседой на темы о новых веяниях в искусстве.
– Андеграунд отвергает и часто нарушает принятые в обществе политические, моральные и этические принципы, – говорил Генрих Наркисович, с важностью поджимая губы. Вика стояла за спиной мужа и с очень серьезным видом гладила его по голове, время от времени делая ему рожки и подмигивая мне.
– Вика, прекрати дурачиться! – прикрикнул Геворкян, увидев ее проделки в зеркале.
И тут раздался звонок в дверь. Вернее, четыре звонка.
– Это, вероятно, Цюрупа, – предположил я, вспомнив, что Сашка бывает здесь по субботам.
Генрих Наркисович отрицательно помотал головой.
– Нет, Цюрупа днем не приходит, он придет позже, ближе к полуночи. Он всегда приходит ночью. Как убийца.
Опять послышались четыре звонка.
Генрих Наркисович усмехнулся и пропел:
Я милого узнаю по походке.
Он носит, носит брюки галифе.
А шляпу он носит на панаму,
Ботиночки он носит «нариман».
– Это Цинкельштейн: только этот идиот всегда звонит четыре раза, – сказал Генрих Наркисович. – Человек-анекдот. Пришел поиграть в карты. Обожает «смертельный» покер. Не так давно Цинкельштейна чуть не убили. Хотели наколоть его на булавку, как лесного клопа. Цинкель уверяет, что побывал на том свете, и ему там не понравилось. Вышел из больницы и сразу ко мне. Вика, рыбка моя, не сочти за труд, открой нашему соседу и дорогому другу. Только проследи, чтобы этот гаденыш тщательно вытер ноги. У меня ковры новые!
Я развернулся в кресле, чтобы оказаться лицом к двери. Ну что ж, посмотрим, каков Генрих Натанович при дневном освещении. Я испытывал легкую, почти приятную тревогу. А что, если он меня узнает?.. Но тревожился я напрасно: Генрих Натанович меня не узнал. Правда, при звуках моего голоса он едва заметно вздрагивал и недоуменно сдвигал брови.
Кстати, выглядел он значительно лучше, нежели при нашем расставании.
…Играли по-крупному. Ставки, ставки, ставки…
Ближе к полуночи Цинкельштейн неожиданно для всех надрался. Покачиваясь, он встал из-за стола, подошел к распахнутому окну и, сняв с запястья механические часы, принялся их сосредоточенно заводить. В уголке рта у него тлела сигарета. Было несложно предположить, что произойдет в следующее мгновение. И это мгновение не замедлило наступить: сигарета догорела до фильтра и обожгла толстые губы фальшивомонетчика. Истерично взвизгнув, Генрих Натанович схватил горящий окурок и вместе с часами выбросил в окно. Проделав все это, он с довольным видом вернулся на свое место за игорным столом.
– Болван, – сказал ему хозяин дома, – ты только что выбросил часы с десятого этажа.
– Ерунда! – пьяно усмехнулся Цинкельштейн. – Они у меня противоударные.
Прошло полчаса, Цинкельштейн слегка протрезвел и приступил к поискам часов. Я ему напомнил: окурок, окно, десятый этаж… Лоб Генриха Натановича покрылся испариной. Мутные глаза как по волшебству очистились и приобрели осмысленное выражение. Спустя секунду Цинкельштейн издал страдальческий вопль и, как сумасшедший, вылетел из квартиры.
– Это «Патек Филипп»! – орал он. – Тридцать пять тысяч евро…
Через минуту он вернулся. Сияющий и улыбающийся во весь рот. Рядом с ним стояли Цюрупа и девушка в очках. В руке девушка держала книгу. Я присмотрелся. Ну, конечно, «Мадам Бовари». Где, интересно, Цюрупа с ней познакомился? В библиотеке?
– Я же говорил, что они противоударные! – тыча часами в разные стороны и обнимая одной рукой Цюрупу, восторженно вопил Цинкельштейн. – Они упали с десятого этажа и не разбились, лежали прямо перед подъездом! Чудо из чудес!
Девушка поправила очки и бросила на меня быстрый взгляд.
Красивая девушка, отметил я про себя. Очень красивая и очень молодая. Мне почему-то стало неприятно, что она пришла с Сашкой. Даже под сердцем заныло. Какое имел право мой второй бесценный друг обзаводиться такой красавицей?
Я стоял рядом и, не скрывая восхищения, любовался ею.
– Мне о вас отец рассказывал, – сказала она мне очень тихо, когда на минуту мы остались одни.
Я вопросительно взглянул на нее.
– Я Аня, дочь Дмитрия Брагина.
– Москва, несмотря на миллионы обитателей, – пробормотал я, – не так уж и велика. Особенно если этими миллионами управляет случай.
– Ну-с, друзья мои, – вздохнул хозяин дома и, взбодрив бороду ладонью, обвел нас ласковым взором, – нас как раз шестеро, самое время перекинуться в «дурака».
– Величие замысла, – говорил Геворкян спустя час, побивая валетом десятку Цинкельштейна, – величие замысла тогда срабатывает, когда есть гармония: когда дарование соизмеримо с мечтами о славе. А у меня при грандиозных амбициях – таланта кот наплакал. А жить-то хочется, – он побил еще одну карту, на этот раз Сашкину.
Геворкяну сказочно везло. Чего не скажешь о Цинкельштейне.
Позже за Генрихом Натановичем пришла жена. Я вспомнил, что некогда он очень неодобрительно отзывался о ее шее. Я присмотрелся. Шея как шея. Да, слегка морщинистая, ничего тут не поделаешь, возраст. Во всем же остальном Серафима Ивановна была, что называется, женщиной с изюминкой. Стройная, высокая, спортивная. И глазами постреливает.
– Генрих, – сказала она, – тебе давно пора бай-бай. Ты только что из больницы. Пожалей себя. Твое сердце…
– Оставь меня в покое! – взвился Цинкельштейн. – С сердцем у меня все в порядке!
Да и с деньгами, у тебя, сукин ты сын, тоже, по всей видимости, полный порядок, коли ты, глазом не моргнув, проигрываешь в карты астрономические суммы. Да и миллион, унесенный в мешке липовым Дедом Морозом, судя по всему, не очень-то пошатнул твое финансовое положение.
– Вы знаете, – обратилась Серафима Ивановна почему-то ко мне, – после того как на моего Генриха было совершено покушение и его сердце проткнули чем-то длинным и острым, оно стало функционировать как часы. А у него ведь был благоприобретенный порок сердца. Убийца, сам того не желая, что-то там сдвинул, и сердце заработало, как новое.
– Действительно, – подтвердил Цинкельштейн, – этот живодер стал моим непреднамеренным врачевателем. Я снова могу пить, как в молодости. Кроме того, он опосредованно приучил меня к чтению, – Генрих Натанович полез во внутренний карман пиджака, вынул оттуда миниатюрную книжицу с золотым обрезом и торжественно потряс ею в воздухе, – я с ней не расстаюсь.
Это был урезанный до размеров карманной записной книжки, брикетированный вариант романа Пруста «Под сенью девушек в цвету». Молодец, про себя похвалил я Цинкельштейна: схватываешь все на лету. Если бы я был эскулапом, засел бы за диссертацию под названием «Вязальная спица как нетрадиционный метод лечения множественных пороков сердца».
– Все забываю поклониться тебе в пояс, – сказал Геворкян Цинкельштейну, – именно после той злополучной истории я ничего не храню дома. Ни крупных сумм, ни драгоценностей.
Значит, Генрих Наркисович прежде действительно хранил что-то дома, и Корытников располагал, по всей видимости, достоверными сведениями о его сапфирах и жемчугах.
– Кстати, Цинкель, я бы на твоем месте, – Геворкян бросил на своего приятеля быстрый взгляд, – не благодушествовал, никто не знает, что взбредет в голову твоему спасителю в следующий раз. Ведь, насколько мне известно, его так и не сцапали.
– Черт с ним, повторяю, благодаря ему, я снова могу пить, как в молодости.
– Хорошо, что твоя мама этого не видит! – воскликнула Серафима Ивановна. – Еврей-пьяница! Это такая редкость…
Цинкельштейн захохотал.
– Еврей-пьяница – обычное явление в наше время. Почитайте Сергея Довлатова, у него там евреи только и делают, что пьют… да и сам Довлатов…
– Увы, евреи деградируют. Трудно представить себе спившегося армянина, – Геворкян выкатил грудь и обвел всех высокомерным взором, – армяне еще держатся… К слову, Довлатов был армянином! – вскричал он. – Не забывай об этом!
– Да, – лицемерно согласился Цинкельштейн, – действительно, Довлатов был армянином, а в итоге, когда, неустанно работая над собой, умственно подрос и повысил свои интеллектуальные кондиции, автоматически и закономерно превратился в еврея.
– Подумать только! Каких только чудес не бывает на свете! – изумилась Серафима Ивановна.
– Дорогая Сима, эти твои попытки остроумничать… они неуместны. А все потому, что ты опасаешься выглядеть дурой. Должен с прискорбием заметить, что твои опасения не лишены оснований, – сказал Цинкельштейн, незаметно подглядывая за картами Геворкяна.
– Была бы дурой, никогда не вышла бы за тебя замуж.
– У тебя природный дар говорить загадками.
Пока Цинкельштейны лениво упражнялись в острословии, Геворкян выигрывал партию за партией.
Кстати, Цинкельштейн сильно прибавил в весе. Наверно, потянет на 10 пудов. Такого Цинкельштейна мне не втащить на кровать.
Все это время Аня молчала, лишь изредка бросая короткие взгляды то на меня, то на хозяина дома.
* * *
Уже на следующий день Геворкян собрал всех на званый ужин. Он решил пышно отпраздновать свой очередной карточный выигрыш. Генрих Натанович, проигравшийся в пух и прах и по этой причине сильно удрученный, тем не менее на ужин явился.
Геворкян обзавелся дворецким, поваром, экономом и ключником. И научил этих жуликоватых типов обращаться к нему согласно давно канувшей в прошлое императорской Табели о рангах.
– Прошу великодушно простить, ваше сиятельство… – почтительно обратился дворецкий к своему хозяину.
– Только не говори, что поросенок не готов! – вскричал Геворкян, гневно сверкая глазами.
– Не застыл-с, ваше превосходительство. Желе еще…
– Протобестия! Каналья! – загремел Геворкян. – Разжалую в ливрейные лакеи!
Дворецкий исчез.
– Превосходительство, сиятельство?! – изумился я. – Как это понимать? Как причуду?
– Как же быстро народ забывает своих героев! – качая головой, посетовал Геворкян. – А ведь еще совсем недавно я занимал пост заместителя председателя госкомитета по драгметаллам. У меня разряд государственного советника 1-го класса. А это не хрен собачий, это соответствует чину тайного советника в царской России, то есть чину штатского генерал-лейтенанта. А к тайным советникам обращались именно так. Тогда умели с должным уважением относиться к верным сынам отечества.
– С сиятельством – та же история?
– Нет, это уже за деньги. Один чрезвычайно сообразительный пройдоха… – он впился глазами в Цинкельштейна, который тут же вжал голову в плечи, – открыл в подвале на Неглинной балаган. Назывался он так: Международный Монархический Двор или что-то в этом роде. Короче, пройдоха принялся за деньги раздавать дворянские титулы. Он ручался, что за три лимона он кому угодно, хоть свинопасу, хоть дворнику, раскопает в древних архивах, анналах и летописях достоверную запись о том, что его предки произошли если не от Адама, то уж точно от Вещего Олега или Святополка Окаянного, а графство получили из рук самого Ричарда Львиное Сердце.
– И ты, конечно, не устоял, – засмеялась Вика.
– А чем я хуже других? Предложение было уж больно заманчивое. Всем хотелось потешить свое тщеславие. От Березовского до Лужкова… Э, да что говорить! У пройдохи была такса: лимон – дворянство. Два – баронство. Три – графство. За четыре он твердо гарантировал герцогство или даже курфюрство. Это он сделал Лужкова светлейшим князем. А меня – графом.
– Не понимаю, почему ты на меня так ополчился, пройдохой обозвал… – надулся Цинкельштейн. – Гордись! Не каждому удается получить знаки дворянского достоинства из рук иудея.
Он почему-то с ненавистью посмотрел на свою жену. Во мне вдруг заговорил писатель. Я представил себе, о чем он сейчас, глядя на жену, думает. «Как же она постарела, как подурнела! Вислая грудь, дряблая кожа, тьфу! А я? А я еще хоть куда! Хоть женись на молодой!»
Я перевел взгляд на Серафиму. Она смотрела на мужа с грустью и обожанием. «Господи, зачем он так много пьет?.. – наверно, думает она. – Боже, как он постарел! Седая голова, походка старца, слезящиеся глаза… Но как же я его люблю!»
– Занимался наш пройдоха, – разносился по комнате бодрый голос Геворкяна, – и организацией развлечений для бизнесменов, не знавших, куда девать деньги. Пройдоха начинал вполне традиционно, занимаясь организацией вечеринок и банкетов для очень состоятельных людей. Однако вскоре искушенной публике наскучили светские рауты, они возжаждали большего, хотели быть заинтригованными. Он стал устраивать развлечения всех видов – от экзотических до непристойных. Он придумывал игры. Например, одевал клиентов как бродяг и вез их на вокзал. Они должны были просить милостыню. Кто наберет больше всего монет за утро, тот и выиграл. Жены этих бизнесменов тоже захотели играть. Их отправили работать официантками в забегаловки. Выигрывала та, которая получала больше чаевых. Иногда они должны были играть роль стриптизерш. Некоторые очень богатые женщины хотят играть роли проституток. Он организовывал и это. Конечно, светские дамы не идут до конца. Почему им хочется делать такие вещи? Думаю, ими движет страх, что когда-нибудь они могут оказаться нищими или проститутками… да и многие помнят, что начинали именно с этого. Не удивительно, что наши жены приняли деятельное участие в этом захватывающем марафоне.
– Твоя пятая жена тогда выиграла с большим отрывом, – напомнила Серафима Ивановна Геворкяну.
– Да, удалая была женщина, – охотно подтвердил тот, – она чуть-чуть опередила тебя, дорогая Серафима, а ты ведь долго лидировала. Но, если честно, все это бешенство от жира, все эти трюки – от безделья, от скудости духа и ума! – Последние слова он произнес с пафосом и даже приподнялся со своего места.
– Кстати, я так и не понял, зачем тебе графство… – вернул Генрих Натанович разговор в прежнее русло. – Мог бы удовлетвориться и баронством. И дешевле бы обошлось.
– Нет, баронства мне было маловато, – сказал хозяин дома, немного остывая. – Если кто забыл, я в качестве зама председателя комитета по драгметаллам в течение некоторого времени курировал алмазодобывающую промышленность всей страны. А это тянуло на графство. Я был, так сказать, главным государственным ювелиром Российской Федерации.
– Не понимаю, почему ты оставил такое хлебное место.
– В тени меньше потеешь. Вовремя уйдя на покой, я сохранил кроме жизни еще и незапятнанную репутацию. Кто от этого выиграл и кто проиграл?
– Выиграл, несомненно, ты, – пробурчал Цинкельштейн, – а проиграл я, ты ведь так и не заплатил мне за графство…
– Не позорься! – страшно вращая глазами, воскликнул Геворкян. – Какие могут быть счеты между закадычными друзьями! Кстати, когда ты отдашь мне карточный долг?
Спустя минуту Геворкян вернулся к теме о хлебном месте.
– Вообще-то все было не совсем так, я имею в виду свой уход с государственной службы. Меня «ушли». Причем как раз тогда, когда меня больше всего хвалили за успешную работу. Меня знал президент, однажды я даже удостоился его рукопожатия. Я так обнаглел, что уже подумывал о министерском портфеле. Но тут-то меня и прихлопнули. Я ничего понять не мог, ведь еще вчера я был принят на самом верху, мне жали руку первые лица государства, я превосходно справлялся со своей работой, заключал выгодные контракты…




