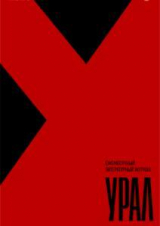
Текст книги "Млечный путь"
Автор книги: Вионор Меретуков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
Новая начинка состоит из деревянных стеновых панелей из Англии, буазери из Франции, стильной мебели из Италии, люстр из Китая. Кстати, тоже из дерева. Люблю дерево: оно прекрасно горит. Видно, мысль о пожаре крепко засела у меня в голове.
Бываю я здесь редко – лишь когда возникает желание испытать себя в атмосфере типовой роскоши. В мягких сапожках с загнутыми кверху носами (точно такими, как у покойного Геворкяна) я разгуливаю по своему новому дому. Конечно, он изменился. И изменился в лучшую сторону. Но я никак не могу понять, нравится мне здесь или нет. В голову закрадывается подозрение, а не грозит ли мне постепенное и незаметное превращение в известного чеховского персонажа, который, дробя зубами крыжовник с пуленепробиваемой кожурой, перекошенным от кислятины ртом изрекал: «Как вкусно! Как вкусно!»?
Ну, есть у меня дом с колоннами. И что?.. Кстати, несмотря на все переделки и изменения, дом все равно похож на областной Дворец культуры. Провинциализм так и прет из каждой щели. Амбарно-древнеримский стиль, так его назовем. Слава безымянному архитектору! Как-то, бродя по участку, я споткнулся о некий предмет. Ржавая подкова. Висела, наверно, над дверью какого-то легковерного мечтателя, кому счастье так и не улыбнулось.
Моим соседом оказался значительный чин из областной прокуратуры. У него дом в полтора раза шире и выше моего. Однажды в лесу мы с ним встретились. Его сопровождала хорошенькая девочка лет двенадцати и дюжий охранник. В руках охранник держал вместительную корзину – вероятно, для грибов. А может, для автомата.
Я приветливо кивнул прокурору. Он коротко взглянул на меня, что-то буркнул и отвернулся. С каким наслаждением я всадил бы в него свою самую длинную и острую спицу! Истыкал бы его с ног до головы, чтоб живого места не осталось. Отвратный тип. С бледным, нездоровым цветом лица, наверно, от несварения желудка. Крысиные глаза-пуговки сидят глубоко и не мигают. Голова похожа на тыкву Хэллоуина. Только свечи не хватает. По какому принципу назначают таких омерзительных типов на высокие государственные посты? Сразу видно, что взяточник, чинуша и предатель. Хороший руководитель на пушечный выстрел не подпустит такого субъекта к надзору за исполнением законов. Но где взять такого руководителя? Скорее всего, у того, кто его назначал, голова столь же хэллоуиниста. Если не более.
Я с удовольствием убил бы его. А потом быстренько смазал бы свои нежные пятки гусиным салом. Чтобы свободней, восторженней и стремительней был победный забег.
Мне по-прежнему было скучно, ведь, если разобраться, ничего не изменилось, у меня были деньги, но я не мог найти им применения. Что-то я отдавал на благотворительность, что-то на строительство православного храма на окраине Мушероновки, какие-то деньги уходили еще на что-то. Но все это, по сравнению с основным капиталом, были мелочи.
Я тратился на дорогих проституток. Но они мало отличались от сравнительно дешевых девок с Трубной: такие же дуры, только фанаберии больше.
Дворец Бублика мне быстро опротивел.
Полгода праздной жизни мне хватило, чтобы более или менее трезво взглянуть на все, что я натворил за последние несколько лет. Каков итог? Я добыл много денег, но не знал, что с ними делать. Видно, умение тратить – тоже талант. У меня его не было.
Журналисты мной не интересовались. Я не был селебрити, не жил на Рублевке, не шлялся по ночным клубам, тусовкам и телевизионным шоу. Меня не замечали, несмотря на все мои миллионы. Меня это никак не задевало, скорее забавляло. И я зажил открыто. Для начала, похерив здравый смысл, я выбросил очки, отрастил шевелюру и сбрил усы. И опять стал Сапегой.
Если быть предельно честным, то мне надоело каждое утро при бритье любоваться своим гладким черепом, который сиял, как тот зеркальный шар, что висел под потолком в зале игровых автоматов в доме покойного Геворкяна. Не спасала даже шляпа борсалино: лысая голова под ней постоянно потела. Молодые девушки обходили меня стороной. Даже по проституткам можно было заметить, что совокупляются они со мной, несмотря на мои щедроты, без ожидаемого воодушевления.
Выяснилось, что, вернув себе прежний облик, я поступил правильно. Потому что никто на мою смерть не обратил никакого внимания. Лишний раз я убедился: всем на все наплевать. Живым трупом мне пришлось побыть совсем не долго. Я даже не понял, что это такое – быть мертвецом.
Для работников паспортного стола мое воскресение не стало сенсацией, оно прошло незаметно, как будто они каждый день имеют дело с чудесным образом ожившими покойниками. Я написал заявление и уже через несколько дней получил новый паспорт, вновь став Сапегой: тем дело и кончилось.
Наконец-то мне удалось выкупить со всеми потрохами Издательский дом «Олимпиек». Обошлось без вмешательства правительства и Роспечати. Деньги решают многое. А большие деньги решают все. Владельцы, вдруг возникшие из своего заокеанского небытия, заломили непомерно высокую цену. Но я не торговался.
Я быстро провел революционные преобразования: упразднил все редакции, кроме той, в которой оттрубил почти двадцать лет; я укрупнил ее за счет тех редакций, сотрудников которых хорошо знал и кому мог доверять.
Очень скоро нашелся талантливый мальчик. Они всегда валяются под ногами, мы часто проходим мимо, не замечая их или не понимая, кого топчем, а ведь талантами Россия не оскудела. Раскрутил его. Хорошенько раскрутил. Вот на это я не поскупился. Но это не принесло мне ничего, кроме разочарований. Как только я перестал вкладываться в рекламу, всякую – явную, тайную, опосредованную, все застопорилось: книги одаренного мальчика стали залеживаться на магазинных полках. Увы, так называемого широкого читателя, привыкшего к простым истинам, то есть к черному и белому, не интересует литература, которая играет иными красками и призывает задуматься о неких смыслах, не всегда очевидных и простых.
Мальчик, вкусив соблазны короткой, но шумной славы, заболел одной из самых опасных болезней нашего времени – звездной лихоманкой. Он хорошо начал, но плохо кончил: его пригласили вести на телевидении некое скандальное шоу. Теперь он раскатывает на «Феррари». Говорят, он очень доволен жизнью. Лучше бы он спился, по крайней мере, имел бы шанс занять место в хвостовой части очереди вслед за великими страдальцами вроде Есенина и Высоцкого.
Очередная новость. Петька решил жениться.
– Опротивело одиночество, – безрадостно сказал он. – Женюсь.
– На ком?
– На Юльке.
Ни для кого не было секретом, что Юля, работавшая когда-то секретаршей у Пищика, спала не только с ним, но и почти со всеми более или менее боеспособными сотрудниками редакции, включая, разумеется, и меня.
И мне стоило немалого труда унять свое изумление и сдержанно похвалить его за выбор невесты:
– Милая, хорошая девушка, да уж больно молода.
– Молода-то молода, но уж очень шустра… – процедил Петька.
– Ты ведь мой ровесник, – не обращая внимания на его слова, продолжал я. – Ей чуть больше двадцати. Ты при опыте и при роскошной квартире, она при молодости. Брак, выгодный обоим брачующимся. А она умеет готовить? – Надо было как-то отвлечь Петьку от мыслей, которые, похоже, все-таки будоражили его воображение в связи с бурным прошлым его избранницы.
– Готовить? – он растерянно воззрился на меня и надменно прибавил: – Я женюсь не на стряпухе, а на очаровательной девушке! Мне начхать, как она готовит. Если она вообще умеет это делать…
– Не скажи. Одно дело, когда жена услаждает тебя щами и гусем с капустой, а совсем другое, когда каждый вечер она ставит перед тобой миску с макаронами по-флотски.
– Дело не в этом… – он запнулся. – А в том… словом, она же тут чуть ли не с каждым… Кстати, – он с неожиданной ненавистью посмотрел на меня, – и с тобой, кажется. А макароны по-флотски я обожаю.
– Я – тоже. А теперь давай по совести. Во-первых, со мной она не спала, клянусь мамой. А во-вторых, по крайней мере, ты знаешь, с кем она и как…
– Ты полагаешь, что лучше знать, чем – не знать?..
– В данном случае лучше, – я дружески положил ему руку на плечо и уточнил: – В твоем случае, несомненно, лучше.
Глава 39
У меня складывалось ощущение, что я мечусь, как сбесившаяся лошадь в загоне. Я менял любовниц, шил дорогие костюмы, посещал международные автосалоны, где за бешеные деньги покупал автомашины лучших марок, но делал это так, словно покупал грошовые игрушки в «Детском мире». На первых порах покупки радовали меня. Я мог купить, что душа пожелает. Но уже через полгода я всем этим пресытился и с тоской вспоминал невозвратные дни, когда дремал в своем редакционном кресле, когда под убаюкивающий аккомпанемент закипающего чайника слушал болтовню Бутыльской по телефону. Я вспоминал свой стол с иконой звероподобного святого, вспоминал, как сквозь полусон безмятежно и безучастно думал о судьбах мира. И мне было покойно и хорошо. Моя тогдашняя совесть не была обременена ничем, кроме мыслей о несбывшихся надеждах. Я не понимал тогда, что был, в сущности, самым счастливым человеком на свете. Я жил грезами, а самые счастливые люди на свете – это те, кто не торопит время и кто покойно мечтает о воздушных замках.
Действительность не оправдала моих чаяний. Она была скучна, грязна и неинтересна. Минусов было куда больше, чем плюсов. Жизнь богача, по крайней мере, такого, как я, отличалась от жизни бедняка в худшую сторону.
Надо было искать способ, как избавиться от хандры. Лучший, уже не раз мной опробованный, – это путешествия. И я принялся собираться в дальний путь. Но мне не хотелось отправляться в дорогу без напарника. Мне нужен был компаньон, товарищ и собутыльник.
* * *
Наверно, деньги устанавливают незримый барьер между имущими и неимущими. Сейчас я испытывал это на себе, меня не тревожили, как только поняли, что я защищен огромными деньгами. И главное, если хочешь жить спокойно, соблюдай общепринятые правила: не высовывайся, води дружбу с дорогими адвокатами, не лезь в чужой бизнес, и вообще, не греми золотыми цепями. Тише едешь, дольше проживешь.
Мне было уже наплевать, кто на кого охотится: Фокин ли на меня и Корытникова, Корытников ли на Фокина. Все играли в какие-то игры. Включая Бутыльскую с ее загадочными связями, поумневшего Цинкельштейна с томиком Марселя Пруста за пазухой и даже Аню с ее достаточно прозрачными намеками. Ведь она ясно дала мне понять, что догадывается, кто повинен в смерти ее отца.
Что из того, что я не стал ферзем? Успокаивая себя, я бормотал себе под нос: главное, я перестал быть пешкой, а это уже само по себе достижение. У меня была относительная свобода. То есть свобода перемещения в пространстве. И грех было ею не воспользоваться. Почему бы не смотаться на Азорские острова? А что? Воплотить в действительность детскую мечту – доплыть до райского места на роскошном круизном лайнере, этом болтающемся в океане чудо-городе с магазинами, ресторанами, барами, танцплощадками, кинозалами, бассейнами, теннисными кортами и даже искусственными горами для скалолазания.
Я позвонил Сашке Цюрупе.
– Увы, – начал он жаловаться, – мне не до кругосветных путешествий, совсем нет времени. Верчусь как белка в колесе. Ну и времена! Кстати, Аня… – Сашка деликатно покашлял и замолчал.
– Что – Аня? – не выдержал я.
– Аня сказала, что кто-то у нее взял последний набросок Димы. Не ты ли?
– Может, и я.
– Надо бы вернуть.
– Надо бы…
Я продолжил поиски напарника или напарницы.
Кандидатуру Ани я отмел сразу, во-первых, потому что я не хотел, чтобы кто-то из ее хахалей навешал мне фонарей по всей морде, а во-вторых – боялся разочароваться в своих не совсем чистых чувствах.
Может, Рита? Но, оказалось, у этой красотки романы с главрежем и еще с кем-то, за кого она всерьез, но пока без ведома главрежа рассчитывает выйти замуж.
– Это возмутительно! – раскричался я. – Ты хочешь выскочить замуж, не посоветовавшись со мной!
На миг возникла сумасшедшая мысль взять в путешествие двух шлюх с Трубной. Они бы задали мне такого жара, что было бы не до скуки. Но я отбросил ее как слишком экстравагантную.
Оставался Петька Меланхолин, мой первый друг, мой друг бесценный.
– Азорские острова? – переспросил он. У него загорелись глаза. – И ты говоришь, на теплоходе специально для меня воздвигнут искусственные горы для скалолазания?
– Воздвигнут, можешь не сомневаться. Но сначала Париж.
– Почему Париж?
– Я хочу сходить там в церковь.
– В Москве что, мало церквей?
– В том-то и дело, что слишком много.
– Хорошо, я согласен, тем более что мне надо развеяться перед свадьбой, – сказал он с мрачным видом.
Забегая вперед, скажу, что Петька спустя полгода женился на Юле. А через неделю развелся. Предполагаю, он опасался повторно лишиться свободы. Да и возраст был уже не тот, чтобы, рискуя жизнью, лазать по крышам и карабкаться по стенам, как какой-нибудь ландскнехт.
………………
Осенний Париж. Первая неделя была в основном посвящена питейным заведениям. Вторая – восстановлению пошатнувшегося здоровья.
И наконец светлым прохладным утром я пешком, чтобы немного проветрить мозги, отправился на поиски Rue Galande.
«На этой тихой улице, – рассказывала всезнайка Бутыльская, – находится церковь Сен-Жюльен-ле-Повр, которая была возведена триста лет назад как католическая и которая спустя сто лет почему-то стала православной. Чем-то она напоминает деревенскую церквушку где-нибудь в глубинах Центральной России. На самом деле эта церковь не совсем православная. Даже, скорее, совсем не православная, но что-то православное в ней есть. Например, запах оплывающих свечей и отсутствие католической помпезности. На это обратил внимание еще Набоков, когда в марте 1939 года жил неподалеку, в отеле «Рояль Версаль» на рю Маруа».
Двери были открыты, и я вошел внутрь. Церковь была пуста. Ни души. Ни звука. Точно все вымерло. Я был один в храме. Наедине с Богом, усмехнулся я.
Склонив голову, я застыл на мгновение у алтаря, отделенного от верующих преградой – огромным аляповатым иконостасом.
У распятого Христа постоял минуту. Или две…
И тут что-то произошло в моей душе. Я стоял перед почти языческой фигурой деревянного Иисуса, прибитой гвоздями к бутафорскому кресту из многослойной клееной фанеры. И в мое сердце вдруг вкралось некое – новое для меня и, вероятно, абсолютно неуместное в церкви – трепетно-нежное чувство к женщине, приправленное светлой грустью.
Я вдруг понял, что в грубой фигуре распятого Сына Божьего мне страстно хочется увидеть беззащитность, мудрую покорность судьбе, ранимость и хрупкую женственность. Я вдруг обнаружил в себе болезненно-сладостное сострадание ко всем женщинам, которых когда-либо любил и которых оскорбил, обидел, обманул, ударил.
Впервые в жизни я, до той минуты не очень-то веровавший в Бога, в церкви осмелился осенить себя крестным знамением, искренне испросив у Создателя покоя своей измученной душе.
Боялся, что дрогнет рука.
Не хотел обманывать ни Бога, ни себя.
Рука не дрогнула.
Оглядевшись, я осторожно опустился на колени. Я видел себя со стороны. Склоненная фигура кающегося грешника, застывшая в искусственном благоговении. Ни дать ни взять, «Блудный сын» Рембрандта. Только вместо пяток, покрытых дорожной пылью, – кремовые подошвы новых туфель от Джона Лобба.
Как же жарко я молился! И как искренне! Примерно в течение двух часов я крепко верил в Бога. По мере приближения к отелю мой религиозный пыл несколько поостыл и моя вера если и не пошатнулась, то вновь покрылась налетом сомнений.
…С отрешенным видом я целыми днями бродил по набережным, подолгу стаивал на мосту Луи-Филиппа, впиваясь взором вдаль, в сторону острова Сен-Луи, туда, где Сена, величественно изгибаясь, скрывается за дырявым шпилем храма Сен-Луи-ан-л’Иль.
По-наполеоновски скрестив руки на груди, я наблюдал, как низкие облака тяжело наплывают на храм и надолго застревают над шпилем. Казалось, еще немного, и тучи подхватят строение и унесут его вместе с персоналом на небеса, туда, где обитает Вседержитель, который решит, что делать с церковниками дальше – вернуть ли обратно на грешную землю или оставить на небесах, на курсах повышения квалификации.
На улице Saint Plaside я застываю у одной из витрин. Вижу себя, вернее, свое отражение в сверкающих зеркалах. Моя голова с больными глазами и хохолком на макушке мелькает за спинами разодетых в пух и прах манекенов. Так и хочется прицепить на хохолок ценник. Чтобы поставить отметку не столько отражению, сколько оригиналу. Я верчусь, разглядываю себя со всех сторон. И хотя в зазеркалье не я, а мое отражение, возникает дивная иллюзия моего присутствия в бездушном мире подделок под людей. Я давно заметил, что лучше всего я смотрюсь в витринах магазинов женской одежды. Мой отраженный зеркальный образ вторгается в застывший мир цветного пластика, папье-маше, туфель на высоком каблуке, котиковых манто, шуб из норки и фальшивых драгоценностей, которые сияют ярче и убедительней настоящих. Высший свет, выставленный на продажу. Котиковые манто из кролика. Норка из эрдельтерьера, умерщвленного в угоду бережливым декораторам и модельерам. Драгоценности из ограненного бутылочного стекла. Мой витринный двойник начинает чувствовать себя там как дома. По всей видимости, ему там нравится. Вижу это только я. Я единственный свидетель своего, такого естественного, перехода в другую реальность. Меня занимает мое отражение. С каждым днем мой облик меняется. Каждый новый день старит меня на год. Наверно, из-за отрастающей щетины и глаз, которые все глубже влипают в глазницы. А может, еще почему-то. Каждый новый день неотвратимо приближает меня к вожделенной смерти. Велик соблазн исчезнуть из этого мира, незаметно и плавно перебазировавшись в мир призраков. От души налюбовавшись своим отражением, я не прихватываю его с собой на память, а оставляю в зазеркалье, за узкими спинами имитаций живой жизни, и медленно бреду к себе в гостиницу. Я знаю, путь мой длинен, но спешить мне некуда: жизнь почти не задевает меня своими шестеренками, она не вовлекает меня в свое равнодушное монотонное вековечное движение, и вообще пока ей не до меня. Я бреду, опустив голову, и не смотрю на прохожих. Бреду и думаю, каково ему, моему покинутому одинокому отражению, там, в горестном мире манекенов? Мое сочувствие к двойнику так велико, что я заливаюсь слезами.
По утрам я долго валяюсь на своем ложе и смотрю в сторону реки. Над Сеной стелется невесомый туман. Цвет у него, как у всего Парижа, серо-голубой. Говорят, зимы в Париже не холодные, но пережить их удается не каждому. Парижский воздух зимой смертоносен. Особенно для тех, кто ночует под мостом. Я ночую, слава богу, не под мостом, а в теплом гостиничном номере. Тем не менее надо было выбираться отсюда, уезжать туда, где солнце светит приветливей и где нет промозглого воздуха. Да, надо было уезжать. Или – что тоже неплохо – попытаться умереть до наступления холодов. Я тут же обрываю себя: нет-нет, мне сейчас не до шуток со смертью, я должен, должен выжить! Слишком много испытаний выпало на мою долю за этот год, я не могу позволить себе так вот запросто распрощаться с жизнью.
Отслужи свой век, проживи его достойно от первого дня до дня последнего. Стисни зубы и в поте лица своего снеси свой крест. Это моя жизнь, а моя жизнь – это мой ответ Богу на дарованное мне чудо рождения. Это будет моя благодарность Создателю. Или проклятие. Это уж как получится. «Каждый на свой лад отрабатывает свою судьбу», – сказал Генри Миллер. Который был всегда бодр и весел. Хорошо бы поднабраться у него оптимизма. Но я не знал, как это делается. Я барахтался в своих сомнениях и никак не мог из них выбраться.
Одноразовая попытка покончить с хандрой при помощи коньяка привела к тому, что я, проклиная все на свете, после этого два дня провалялся в постели. Петька несколько раз заглядывал ко мне в номер. Он качал головой и что-то бормотал.
Когда я по нужде наведывался в уборную, то вид призывно торчащего оконного шпингалета приводил меня в состояние полнейшего уныния. А не повеситься ли мне? Но боязнь быть обнаруженным парижскими ажанами в непотребном виде, с вывалившимся распухшим языком, в луже мочи, отвратила меня от этого постыдного намерения.
Вокруг меня были фантомы. И я был фантомом. Фантомом со спицей. Везде было одно и то же. Что в Москве, что в Париже. Те же улицы, те же люди, которым до меня не было никакого дела, те же мысли, от которых не было спасения ни днем, ни ночью. Фантомы, фантомы, фантомы.
Единственной реальностью стала женщина, которая вывела меня из состояния душевного оцепенения. Женщина… Вернее, юная проститутка, появившаяся как-то утром, как призрачный добрый сон, как ласковый ангел с порочными наклонностями, она искушала меня своим ослепительно свежим видом, звонким голоском и какой-то нервозной напряженностью, которая лучше всяких слов говорила о ее намерениях.
Девушка была в узких джинсах, красной майке с лейблом «Адидас» и кроссовках на толстой подошве.
Она выглядела бы как барышня, занимающаяся на досуге благотворительностью, если бы не вышеупомянутая напряженность, бархатные глаза и открытые в призывной улыбке влажные зубы. Было видно, что ей не терпится заняться любовью.
Как бы доказывая, что эти занятия ей в радость, эта продажная представительница Афродиты, глядя мне в глаза и продолжая улыбаться, медленно разделась.
Вещи побросала на пол.
Быстро прошлепав босыми пятками по полу, она подошла к постели и скользнула ко мне под одеяло…
После удачно проведенного сеанса сексуальной терапии я практически сразу пошел на поправку. Прав был старый пройдоха Фрейд: все наши беды и проблемы подвешены к стволу, который крепнет по мере приближения к волшебному розовому кусту, благоухающему диким медом.
Мое временное спасение – целиком и полностью заслуга моего первого, поистине бесценного друга. Он правильно разобрался в моем душевном состоянии. Наутро, посвежевший и помолодевший, я спросил у него:
– Как тебе это удалось?
– Да они тут перед отелем табунами ходят. Я выбрал наугад, первую попавшуюся. И как она тебе показалась?
– Она оказалась на высоте положения и отлично справилась с задачами, которые я перед ней поставил.
Азорские острова отпали. Выяснилось, что туда ни посуху, ни по воде не добраться. Только по воздуху. Обойдусь как-нибудь. Тем более что ветряных мельниц и в других местах хватает.
Через день мы вернулись в Москву. Пока летели, друг с другом почти не разговаривали. Оказалось, что мы, если нас не связывают служебные отношения или кратковременное застолье, не можем длительное время находиться рядом. Вывод: бесценный друг тогда бесценен, когда он, не мешая нам жить так, как нам хочется, находится в пределах досягаемости, но не слишком близко.
В самолете меня так била нервная дрожь, что пришлось обратиться за помощью к стюардессе. Та измерила давление и дала мне какую-то сомнительную таблетку, от которой у меня разболелась голова. Но как только нога ступила на родную землю, дрожь и головную боль как рукой сняло.
Глава 40
Сразу после возвращения я решил, что пора заканчивать свои литературно-промышленные изыски. И не стоило с этим тянуть. И я почти даром запродал Издательский дом смуглолицему джентльмену с кавалерийскими усами, возглавлявшему этажом ниже рекламное агентство «Унион».
Мы сидели в его роскошном кабинете. Дорогая деловая мебель, ковер, в котором по щиколотку утопала нога, напольные вазы, стильные светильники, аквариум с разноцветными рыбками и даже миниатюрный террариум с крокодилом размером с крысу.
– Живой? – спросил я.
– Не только живой, но и кусается, сволочь, – последнее слово он произнес, глядя мне в глаза. Мол, истолковывай, как знаешь.
– У меня есть одно условие, – сказал я. – Вы издадите мой роман.
– Вы же знаете, как это делается, – цинично скривил губы смуглолицый джентльмен, глядя, как кубики льда истаивают в стакане с виски. – Платите, и мы издадим хоть самоучитель игры на балалайке, назвав его романом века.
Опять Аня. Я неотступно думал о ней. Меня к ней тянуло, как к чему-то запретному, но без чего невозможно обойтись. Я был как тот неразумный мальчишка, что с простудой лежит в постели и при этом страстно мечтает о сливочном мороженом.
Что мне делать с карандашным рисунком, шедевром Димы Брагина? Если я верну его Ане, я совершу преступление – прежде всего по отношению к покойному: потому что рисунка этого никто никогда не увидит. Вряд ли она поймет истинную цену шедевра. В лучшем случае эта милая простушка положит рисунок в альбом рядом с засушенной розой. Или просто потеряет.
Я позвонил Сашке Цюрупе. Через день мы встретились в моем излюбленном ресторане на Трубной. Я прихватил с собой рисунок.
Мои барышни были на месте. Увидев меня, они заулыбались и прошелестели губами вот так: «пу-пу».
– Узнаю руку Брагина, – сказал Цюрупа, рассматривая рисунок. – Да, недурно, весьма недурно, я в этом разбираюсь. Но сейчас… – он замолчал, в раздумье поджав губы.
– Что – сейчас?.. – переспросил я, наперед зная ответ.
– Этот рисунок разделит печальную судьбу тысяч, если не миллионов шедевров, – сказал он. – Я называю то, что творится в нашем деле, помойкой. Определяют все не истинные знатоки, которых теперь днем с огнем не сыщешь, а деньги. Назначат какого-нибудь Пашу Иванова современным Сезанном, вложатся в раскрутку, на весь мир раструбят о появлении нового гения и спустя короткое время празднуют победу, то есть приступают к усердной стрижке купонов. Деньги, деньги, деньги… Сейчас я раскручиваю одного наркомана, успешно подражающего великому каталонцу. Впрочем, думаю, в твоем литературном деле не лучше. Искусство пропало!
– Совсем?
– Искусство пропало! – подвывая, повторил он. – Его погубили равнодушие, неумение и непрофессионализм людей, призванных, казалось бы, наводить порядок в мире искусства и совершающих на этом поприще злодеяния, сопоставимые с преступлениями против человечности. Впрочем, – он посмотрел на меня, вернее, на мои наручные часы, видимо, с ходу определив, сколько они стоят, – можно попробовать, и если у кого-то найдутся деньги…
– Найдутся, – сказал я.
* * *
Прошел месяц. Опытный Сашка выкупил для своей галереи Димкины работы у так называемых любителей живописи, любящих рассуждать на досуге о высоком искусстве и разбирающихся в нем не лучше массовиков-затейников.
– Пришлось побегать, – признался он. – Я проделал титаническую работу, отыскивая всех его «сезаннов» и «тулузов». Димка продавал свои шедевры кому попало. С каждым днем я все больше убеждаюсь, что Брагин, умерев, правильно сделал. Сейчас он идет дороже Никаса Сафронова.
Я еще раз убедился, что, приложив, так сказать, руку к смерти Димы Брагина, я, в сущности, оказал ему услугу: вряд ли, будь он жив, на него обрушилась бы такая шумная слава.
– Ему надо было умереть, чтобы превратиться в гения, – сказал я.
– Так всегда и бывает, – поддакнул Сашка. – Так что с рисунком? Ты вернул его Ане?
– Боюсь, она его потеряет. Сделаем так, я пришлю рисунок тебе, ты включишь его число выставочных работ, а после я верну его Ане.
Вскоре в Манеже состоялось открытие выставки. Народ, разогретый и взбудораженный хорошо продуманной рекламой, валил валом. Очередь растянулась до Тверской. Цюрупа ликовал. Он оказался прав: деньги решают все. Кстати, думаю, он неплохо нажился на мне. У рисунка люди стояли часами.
Глава 41
Скверно, когда потерян интерес к жизни. Этот трюизм не нов, как не новы и мерзки все трюизмы в мире. Но этот – мерзок вдвойне. Особенно он отвратителен тогда, когда затрагивает тебя лично.
Прочитал у Гонкуров: «В кафе “Риш” рядом со мной сидел старик. Официант, перечислив ему все имевшиеся блюда, спросил: что он желает. “Я желал бы, – сказал старик, – я желал бы… иметь какое-нибудь желание”. Этот старик был сама старость», – делают вывод братья.
Нет слов, сценка что надо. Гонкуры уловили все очень тонко, глубоко и точно. Но с выводом не согласен, братья не заметили юмора (пусть грустного) в словах мудрого старца. А юмор – это оружие, которым мы обороняемся, когда обороняться уже нечем.
Хорошо там, где нас нет. Это касается не только места, но и времени. Времени, наверно, даже в большей степени. Мне хорошо было в детстве. Но не открутишь же назад три десятка лет: нет у меня заводного ключа, вращающегося жизнь против часовой стрелки. Мне хорошо было и позже, когда я работал в редакции.
Я лишь слегка, так сказать, вползуба вкусил прелестей жизни богатеев, поскребся в богатые двери, но уже успел понять, что такая жизнь не по мне. Оказалось, что лучшими днями моей жизни были дни, когда я дремал в редакционном кресле, снисходительно наблюдая, как мой индивидуальный мир как вкопанный стоит на одном месте. Трепотня Бутыльской по телефону, сопение забытого на плите чайника и прочие милые сердцу мелочи – это были сподручные покоя. Ты дремлешь в кресле, а Время, неторопливо снявшись с места, обтекает тебя, делая непродолжительные остановки на перекур. Но где-то там за окном, далеко-далеко, я знал, бурлит иная жизнь, которая и манит, и пугает. И Время там не плетется, а скачет галопом, не давая никому передышки. Хорошо дремать, когда знаешь, что стоит тебе пошевелить пальцем, и ты сможешь влиться в эту чужую жизнь, и она станет твоей. Я какого-то черта пошевелил, и что?..
Я опять живу на даче в моей любимой Мушероновке. Я нуждаюсь в одиночестве, как бедняк нуждается в медном гроше. Понятное дело, увлекаться одиночеством опасно – можно сойти с ума, но и пренебрегать им не стоит. Одиночество продуктивно, как сказал некогда один доморощенный мудрец, рекомендовавший мне каждый день, дабы не терять навыка, душить хотя бы по одному бездомному коту.
Мои мысли об одиночестве, а заодно и собственно одиночество неожиданно нарушил автор этой максимы, Павел Петрович Корытников.
Был тихий вечер. Я славно поужинал и немного выпил. И теперь передо мной стоял сложный, но решаемый вопрос, что мне делать дальше: завалиться спать или выпить еще. Я уже все больше и больше склонялся к последнему, как увидел, что кто-то темный, большой, с развевающейся седой бородой шел, раздвигая кусты, по тропинке к дому. Вид его ошеломил меня. Человек, а это был Корытников, был одет в синий шелковый халат с орлами и драконами, на голове его была турецкая феска, а на ногах – ничего, кроме желтых гетр до колен. Туфли он почему-то нес в руке.
Как он узнал, где я обретаюсь? Ведь адрес дачи ему не известен. В который раз я убеждался, что Корытников очень многое от меня скрывает.
Он поскребся в дверь как раз тогда, когда я взволнованно размышлял о том, как изменится мир, и изменится ли он к лучшему, если Павел Петрович исчезнет с лица земли.




