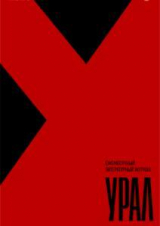
Текст книги "Млечный путь"
Автор книги: Вионор Меретуков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Умирает один человек – умирает целая вселенная. Поначалу эта мысль ужасает – ведь целая вселенная! Но если хорошенько вдуматься, то ничего страшного в этом нет. Этих вселенных шатается вокруг нас до черта и больше. Исчезнет одна вселенная, народится миллион новых, не хуже и не лучше прежних. Корытников любил рассуждать на эту тему.
Я не стал рассусоливать и сразу приступил к делу. Корытникову надлежало умереть, у него просто не было иного выхода. Мой бывший наставник и искуситель так часто разглагольствовал о жизни после смерти, что, похоже, свихнулся – подтверждение тому дикая борода, халат с драконами, желтые гетры и феска. Поэтому ему не оставалось ничего, как только примкнуть к тем, кто, выстроившись в ряд, с нетерпением дожидался его на том свете.
Я вежливо пропустил дорогого гостя на веранду, и, когда Корытников повернулся ко мне спиной, проткнул его своей самой любимой, самой прочной и самой надежной спицей, той, которой прикончил Геворкяна. Почему со спины? Мне не хотелось любоваться вытаращенными глазами Корытникова. Спица вошла в жирное тело моего наставника, как нож входит в сливочное масло. Он умер сразу, без мучений. Хотя кого-кого, а его помучить стоило. Ведь это он превратил меня в преступного неврастеника, одержимого манией убийства.
Перед глазами возникли строки из Екклесиаста: «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению». Я готов был поспорить с покойным царем Соломоном, хотя не просто спорить с общепризнанным мудрецом, но у меня перед глазами было убедительное свидетельство моей правоты: Корытников, пока был жив, не подозревал, что ждет его через мгновение, иначе черта лысого он мне бы так просто дался. Пусть его смерть станет для меня точкой отсчета на пути к нравственному возрождению. А для царя Соломона, если он на том свете еще на что-то способен, это повод задуматься над собственной мудростью.
Корытников упал плашмя, ничком. Показалось, рухнула деревянная колода: столь шумно расставался Корытников с жизнью. Застонали старые половые доски, и сами собой с грохотом захлопнулись двери в комнаты.
Теперь мне предстояла процедура захоронения. Местом временного упокоения Павла Петровича Корытникова, бывшего офицера, уголовника и свихнувшегося философа, стал тайник, который достался мне в наследство от предков и в котором я некоторое время прятал свои сокровища и картину Сурбарана. Тайник оказался Корытникову, что называется, впору.
Тайник, он и есть тайник. Чтобы никто не нашел. Вряд ли останки моего наставника кто-то обнаружит. Пусть полежат здесь до поры до времени, может, они еще и пригодятся. Мир праху твоему, о, беспутный сын своего времени, ты неплохо пожил на этом свете, надеюсь, тебе будет неплохо и на том.
Я посмотрел на то, что еще несколько минут назад было Корытниковым. За свою довольно долгую и пеструю жизнь ему приходилось играть разные роли. Кем он только не был! И офицером, и дровосеком, и преступником, и даже библиофилом, вспомним его Гоголей.
Последняя роль – это роль покойника. По-моему, он сыграл ее превосходно, и она очень ему подошла. Говорю это как многоопытный ценитель чужих смертей.
Может, он попал в мусульманский рай, о котором тайно грезил? И на практике убедился, что муллы не врут, и там, в их гостеприимном раю, благоухающем фиалковыми дезодорантами, действительно текут реки, полностью состоящие из в меру охлажденного шампанского, где вздымаются горы огнедышащего плова, а сонмы дев с задницами-мандолинами развлекают новоиспеченных покойников прельстительными песнями и зажигательными танцами, а потом дарят им ночи, полные неги и страсти? Надеюсь, там все так и есть. Не то что у христиан, которым надо сначала пройти многовековую проверку в Чистилище, где с помощью сильнодействующих стиральных порошков их будут отмывать от греховной скверны. И только потом либо в ад, к чертям на сковородку, либо в рай к ангелам, с их надтреснутыми лютнями, душу изматывающими псалмами и пресной амброзией.
Корытников был сумасшедшим, чрезмерно увлекшимся философией жизни и смерти. Если о жизни и смерти думать лишь изредка, можно допустить, что это принесет некоторую пользу мыслителю. Но если думать об этом постоянно, это приведет к повреждению рассудка. Вот Корытников и свихнулся. А теперь одним сумасшедшим на свете стало меньше. И так их развелось до черта и больше. Корытников, конечно, был опасен. Он был опасен уже тем, что был непредсказуем, как все сумасшедшие. Как я не понял этого раньше?
Мертвый Корытников оказался почти нетранспортабельным. Весил он никак не меньше центнера. «Где этот негодяй так отъелся, не понимаю!» – с ненавистью бормотал я, волоча его за ноги по тропинке к запрятанному в можжевеловом кустарнике тайнику.
«Наверно, я сделал все правильно», – рассуждал я, сидя на веранде и устремив взгляд за окно, где полыхал розовыми, белыми и иными весенними цветами разросшийся фруктовый сад. А может, и не полыхал, может, мне все это казалось, потому что я не знал, какое сейчас время года. Я был как бы вне времени.
Я налил себе полный стакан первача. Выпил. С удовлетворением констатировал, что первач ничем не хуже «Мартеля», которым я накачивался в Стокгольме. На душе у меня впервые за последние месяцы было покойно. Сердце билось ровно, словно я только что вернулся из кардиологического санатория.
Мне опять припомнился Екклесиаст: «И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем». Ну, так далеко я не заглядываю. Попробуем немного подправить высказывание, подкрепив его знаком вопроса: «И кто скажет, что будет со мной хотя бы завтра?»
Глава 42
Настала пора сжигать за собой мосты. Но поскольку никаких мостов у меня за спиной не было, надо было сжигать то, что находилось под рукой и что хорошо горело. Начать я решил с дворца под Можайском. Дерева после реконструкции там было навалом. А оно, как известно, прекрасно горит. И очистительному огню безразлично, из каких мест доставлены эти деревяшки: из Италии, Карелии или Китая. Когда дерево хорошенько разгорится, его не остановить никакими пенными огнетушителями.
Мне надо было окончательно похоронить Андрея Андреевича Сухова. Мало было избавиться от тускло сияющей лысины, усов и роговых очков, так уродовавших его внешний облик, надо было добить его физически. И вернуть самому себе доброе старое имя. Сапега так и рвался из меня наружу.
Мне предстояла нелегкая работа. Роль мертвого Сухова должен был исполнить куда более мертвый Корытников. Пусть его труп послужит благому делу.
Проклиная все на свете, я извлек тело своего бывшего наставника из тайника. Мертвый Корытников сильно отличался от Корытникова живого: за эти дни он ощутимо потяжелел. Прибавил он и в объеме. Он разбух. Наверно, напитался сырым воздухом. И пахло от него не так, как пахло, когда он был жив. Кривя и морща нос, я завернул тело в ковер и уложил в багажник. Я так взмок, что пришлось переменить рубашку. После этого я отдувался не менее получаса. Когда руки от перенапряжения перестали дрожать, я сел за руль.
Домина под Можайском была записана на имя Андрея Андреевича Сухова. И, насколько мне помнилось, не застрахована. Так даже лучше. Сгорит, а вместе с ней сгорит и память о последнем владельце.
Подожженный с восьми сторон, аналог Парфенона полыхнул, как будто был сложен из игральных карт. Огонь заполоскался на нижних этажах. Потом, стремительно разрастаясь и напористо гудя, рванул ввысь. Пламя лизало стены и добиралось до кабинета под крышей, где, полулежа в кожаном кресле, дожидался кремации труп Корытникова. Чтобы втащить его туда, мне пришлось попотеть повторно.
Я стоял в укрытии, обнюхивал руки, упоительно пахнущие бензином, и любовался зрелищем. Пламя над дворцом превысило его высоту примерно вдвое. Вот не ожидал, что пожар подействует на меня столь возбуждающе! Пожар завораживал! Прямо Рим времен Нерона. В какой-то момент я почувствовал себя великим актером. Я разделял чувства преступного императора: мне нравилось, как горит мой Парфенон. А не поджечь ли мне Москву? При нынешних ценах на бензин денег у меня хватит. Начать с богатых предместий и ими же и закончить.
Зрение я унаследовал от отца, который говорил, что у него глаза грифа. Я усилил свое безупречное зрение с помощью окуляров цейсовского бинокля и в окне соседнего дома узрел мерзкую рожу прокурора. Выпучив глаза, служитель закона прижимал к уху телефонную трубку и яростно шевелил губами. Видимо, вызывал пожарных. И действительно, спустя какое-то время послышались пронзительные звуки сирен. К этому моменту дворец практически перестал существовать. Я не стал дожидаться концовки восхитительного зрелища, сел в машину и рванул в Мушероновку.
Из обреченного дома я забрал лишь позолоченные сапожки с загнутыми кверху носами.
Одна мысль не давала мне покоя. Когда я увидел прокурорскую рожу, я пожалел, что не поджег и его дом.
Странным образом пламя повлияло на мое внутреннее состояние: мне страстно захотелось вновь испытать то, что называется жизнью. Со смертью повременю, решил я. Пусть этим умышленным сокращением, искусственным прерыванием дней быстротекущей жизни занимаются другие – те, кому это в радость. Кстати, кое-кому я бы с удовольствием помог. А сам бы занялся самим собой, своим нравственным и физическим здоровьем. Для начала хорошо бы проветрить мозги. Но как это сделать? Ах, если бы было можно отделить голову от плеч! Снять ее, погрузить в крепкий раствор каустической соды, хорошенько промыть, очистить ее от всякой дряни, налипшей за годы поисков так называемой цели жизни, и потом, стерильно очищенную, свободную от воспоминаний, треволнений и душевных потрясений, водрузить обратно. А впрочем, можно оставить так: голова отдельно, тулово отдельно. Удобно и хорошо помещается в чемодане: на случай, если вдруг появится желание попутешествовать налегке.
В моих действиях по-прежнему было мало логики. Ну, кто, скажите, будет сжигать собственный дом, только что с таким тщанием отстроенный? Повторяю, в моих действиях по-прежнему почти не было логики. И я надеялся, что именно это повергнет моих преследователей, если они существуют, в состояние неуверенности, недоумения и растерянности.
Глава 43
Я вспомнил ночь, самую страшную ночь в моей жизни. В воображении зарябили, запрыгали картинки. Накануне, перед той страшной ночью, я находился в больнице, где в проклятой желтой палате нестерпимо медленно умирала моя жена. Она была безнадежна, врачи это знали и методично, с упорством маньяков и в полном соответствии с министерскими инструкциями, продлевали ее страдания. Когда-то в юности она и ее закадычная подруга поклялись, что если для одной из них настанет некая ужасная пора, полная мучений перед смертью, то другая из милосердия найдет способ облегчить ее страдания, то есть даст ей яду.
Я бы напомнил подружке о клятве, если бы та оказалась рядом. Но подружки имеют обыкновение исчезать тогда, когда в них есть нужда. Зато рядом оказался я – со дня свадьбы мечтавший о свободе и совершенно одуревший от ее криков. В какой-то момент неверный спутник жизни с отсутствующей совестью решился на преступление или на подвиг – это уж как кому нравится.
…И вот ложка с лошадиной дозой снотворного у ее потрескавшихся, черных губ. Она открыла глаза и вдруг окрепшим голосом спросила: «Зачем ты мне это даешь?..»
Я успокаиваю ее: «Так надо, так надо…»
Через минуту жена забылась сном. Или впала в состояние предсмертного ожидания. Забылся сном и я. И приснился мне сон, похожий на бред сумасшедшего.
…Из тьмы выплыли страдающие глаза моего давно умершего отца. Рядом стояла мать, которая кивала головой, кивала и что-то шептала бескровными губами.
Потом появилась физиономия неизвестной твари, гнусная, хихикающая, как у мартышки в зоопарке.
Потом – плохо пробритый кадык с крупными каплями густеющей крови, а рядом – лезвие, аккуратно и чисто вытертое вафельным полотенцем.
Я увидел захватанное пальцами зеркало в ванной, спутанные волосы на полу, паутину на потолке и быстро кружащего по ней паучка, неумолимостью напоминающего убийцу. А в зеркале – мое изжелта-зеленое лицо. На лбу и небритых щеках засохшие ручейки пота и мутные бусинки слёз, которые выжали из себя бессмысленные глаза. На влажной ладони часы, показывающие полночь, которая давно наступила.
Потом какая-то тусклая комната, окно, давно не мытое, на подоконнике пепельница с горой окурков, по стеклу дождь барабанит. За окном – голая ветка, трепещущая на пронизывающем, холодном ветру. Свет за окном серый. Это значит, что всё, что находится там, за окном, от черной ветки, сотрясаемой от дрожи, до Атлантического океана, Скалистых гор, Сахары, непролазных болот Амазонии, лондонского Тауэра, Большого Каменного моста, капельки кровавой мочи на стенке писсуара в туалете парижского кафе, титановой плевательницы перед входом в Хрустальную пещеру, гниющего распятия на Лысой горе, грязной воды, с плачем и грохотом низвергающейся в канализационную преисподнюю, истрепанной книги, раскрытой на слове «проклятие», – всё серо, серо, серо…
И всё сотрясается ледяной дрожью, от которой стынет кровь в жилах и замирает сознание. Время остановилось. И я вместе с ним, с этим проклятым временем, отравленным ложью и мертвечиной.
За стеной надрывный кашель какого-то страдающего негодяя. Кровать, смятые простыни с грубо заштопанными дырами. Колючее одеяло вывалилось из пододеяльника, одним концом свесилось и валяется в пыли на вздыбленном от сырости паркете.
Рядом кто-то дышит. Дыхание смрадное, а каким оно ещё может быть?.. Дыхание временами переходит в храп, а потом и в хрип, который с нетерпеливым ожиданием принимаешь за предсмертный. А над головой – свисающая с крюка веревка с петлей: вместо люстры. И холод, холод, холод… В вентиляционных трубах воет ветер. Страшно, страшно! Господи, как страшно!
…Я бью какого-то беззубого старика кулаком по голове, наотмашь, так сильно, что хрустят и чуть не ломаются пальцы, ночь взрывается криком, старик рушится наземь, ударяется головой о водосточную трубу, а потом о камни мостовой. Звук глухой, мертвый. Словно раскололся орех размером с арбуз. Всхлип, оплывающий, как свеча, и тут же – жалкий предсмертный стон. И беззубый окровавленный рот, изрыгающий последний плевок.
Я бегу во тьме, без оглядки, наугад. Бегу, слыша погоню. Мои невидимые преследователи топочут коваными башмаками. Догоняют! О, Господи!
Я вламываюсь в какие-то спасительные ворота, закрываю их за собой и, пробежав несколько метров, падаю без сил у чугунной решетки. И через мгновение пьяно засыпаю.
Просыпаюсь, не зная, как долго спал, вижу сквозь морозный утренний туман, как на меня наваливаются деревянные и каменные кресты, ржавые ограды и гранит надгробий… Я начинаю с ужасом осознавать, что очутился на кладбище и спал возле могил, привалившись скулой к железному пруту. Одна нога с задранной штаниной покоится в подмерзшей грязной луже, другую я поджал под себя, как ребенок, который ни от кого не ждёт помощи.
…Я бреду ночью по улице. Слякоть, под слякотью – черный лед. Падаю. Всем телом, плашмя. Ударяюсь коленями и лицом. Мокро от крови. Но не больно. Почему не больно, и почему я не плачу? Действительно, зачем плакать, если не больно?
Когда всё вокруг мертво и время исторгает запахи тлена, неудержимо тянет в царство мертвых.
И опять крюк с веревкой. Конец оборван. Обои отклеились и свисают лохмотьями, как кожа у больного паршой. А в ночи вибрирует и бьет в уши мертвящий звук церковного колокола, страшный колокол гремит, как набат, возвещающий конец света или начало нового времени, во сто крат страшней, безумней и грязней прежнего. Время встает на горизонте вместе с тусклым солнцем, пораженное болезнями еще во чреве умирающей Вселенной.
Время колокольным перезвоном возвещает беду, оно специально для меня играет траурный гимн, укоряя меня за то, что я единственный, кому посчастливилось уцелеть в схватке за право думать.
Подушка, пропитанная слезами и водкой, вытекшей из сгнившей ротовой полости. Рядом пустота. Пусто даже тогда, когда рядом кто-то храпит и стонет во сне.
Сотни, тысячи, миллионы похожих дней и ночей. Мутные воспоминания, стыд и бесстыдство… Познать самого себя? Заглянуть в бездну? Зачем? Чтобы ужаснуться?..
…В состоянии полусна я сидел у койки умирающей жены, в тысячный раз окидывая взором убогую (а какой ей еще быть?..) палату и понимая, что только что едва не сошел с ума. Под потолком на перекрученном проводе висит плафон, заляпанный серыми потеками. Делали ремонт, побелку. Забыли протереть. Провод недвусмысленно намекает на веревку, только что виденную мною в страшном сне. Хромой столик, покрытый косо положенной клеенкой, на ней книга, открытая все на тех же «Плачах Иеремии», что преследуют меня всю жизнь. Желтенькие крашеные стены, окно, за ним – обнаженные деревья. На черных сучьях, нахохлившись, закаменели большие черные птицы – гнусные отродья с круглыми головами. Ждут…
И далеко-далеко, под тяжелым низким небом, шоссейная дорога с угадываемой лужей, из которой пробегающие машины выбивают фонтанчики грязной воды. Там были будни, которыми мы пренебрегаем, пока здоровы мы и здоровы наши близкие, и которые кажутся нам бесценными тогда, когда рядом умирает тот, кто нам дорог. Там, за давно не мытым окном, была жизнь, которую моя жена уже никогда не увидит.
В какой-то момент моим уставшим, слезящимся глазам явилось чудо. Вдруг над умирающей заклубилось бледно-голубое, едва заметное облачко. Оно зависло над телом и через несколько минут растаяло. Я наклонился к лицу жены, к ее черным губам, думая, что это конец, но почувствовал на щеке теплое, живое дыхание. На ее губах играла улыбка. Она дышала, дышала глубоко и спокойно. И тогда я понял, что это была неудавшаяся попытка души вырваться из тела.
Что-то зашевелилось у меня в груди. Может, и моя душа рвется наружу, навстречу душе умирающей? Но через минуту сердце мое угомонилось, удовольствовавшись таблеткой. А душа… Кстати, какого цвета моя душа, если она у меня вообще есть? Вряд ли она благородного бледно-голубого цвета. Скорее – черного.
У меня не хватило мужества остаться в палате на ночь. Перед уходом я еще раз склонился над умиравшей женой.
– Я люблю тебя, – прошептал я в надежде, что она меня услышит. Мне почудилось, что она прощально шевельнула губами.
Не помню, как я добрался домой. Помню только, что всю ночь не сомкнул глаз. Хватался за голову, за сердце и ужасался, зачем я все это сделал! Утро с замершим рассветом было еще страшнее ночи. И тогда я понял, что нормальный человек не должен вмешиваться в божий промысел. Нельзя, нельзя этого делать, даже если ты изнемог от страданий! Человече, не суй свой нос в неземные сферы! Не твое это собачье дело. Суждено ей было умереть или суждено выжить, не тебе решать.
Утром мне позвонили из больницы.
– Ваша жена… – услышал я. В голосе я не уловил ни единой нотки сочувствия. Я повесил трубку.
Все уйдет, все уплывет в прошлое, читал я, останутся лишь туманные обрывки воспоминаний о детстве, о прочитанных книгах, о юности, о любимых девушках, друзьях, врагах и преступлениях. Я буду неколебим и покоен, как Волга в срединном ее течении. Меня очистит равнодушное и благодатное время. Постепенно оно вымоет из моей памяти абсолютно все. Я очищусь и превращусь в Ничто. Я истаю в пространстве и во времени, как истаивает свет давно умершей звезды, от которой если что и осталось, так только мерцающий в ночи брильянтовый луч, который не меркнет лишь потому, что его улавливает человеческий глаз.
Глава 44
Опять прибавилось покойников. Умерли Ефимы, многим казавшиеся бессмертными. Умерли в один день, как счастливые супруги из сказки. Старики угорели в котельной в Большом Трехсвятительском переулке, в одном шаге от моего дома и в двух от школы, которую я окончил в начале далеких девяностых. Скромно замечу – с золотой медалью.
На кладбище я не поехал – укладывать в могилу разом двоих своих друзей мне не под силу: могу позорно разрыдаться.
И еще новость: Бутыльскую попытались определить в сумасшедшие – чтобы отобрать у нее квартиру. Которая, напоминаю, занимала весь то ли двадцать первый, то ли двадцать второй этаж высотки в Котельниках. И хотя против нее были задействованы некие могущественные силы (поговаривали, правительственные), несгибаемой старушке удалось отбиться, и она вышла из передряги с честью.
Ее имя упоминалось в теленовостях, в разделе «Криминальная хроника».
– Наверно, именно это вас и спасло? – спросил я.
– Под мощным давлением широких народных масс эти милые люди, – она многозначительно ткнула пальцем в потолок, – посчитали благоразумным отступить и отойти на заранее подготовленные позиции: они записали в сумасшедшие владельцев квартир, что живут этажом ниже.
Таким образом, Эра Викторовна одержала победу и отпраздновала ее у себя дома, в узком кругу друзей. Я оказался среди приглашенных.
Гостей повергала в ужас фарфоровая голова Иоанна Крестителя, установленная на столике рядом с роялем. Орошенная каплями крови, выглядела она как живая. Под столиком стояла ваза, похожая на летающую тарелку.
– Это погребальная урна. Или ночной горшок. А может, и плевательница, черт ее знает… – охотно говорила Бутыльская каждому, в ком замечала заинтересованность. Если видела испуг в глазах гостя, поясняла: – Обнаружена при археологических раскопках в Микенах. В идеальном состоянии, может служить не только как украшение… но и по прямому назначению. Могу уступить, если желаете. Сейчас на Западе принято хоронить миллионеров в плевательницах и ночных горшках, вы что, не слышали?
– Ты бывал в Венеции? – неожиданно спросила она меня.
Я отрицательно помотал головой.
– Тебе надо на пару-тройку месяцев исчезнуть. Чую своим одесским носом, что подошло время. Хочешь, расскажу тебе историю?
– Горю желанием.
– Слушай и наматывай на ус. Раньше, бывало… В тридцать седьмом, например. Мне отец рассказывал. Он чудом уцелел во время великих чисток. Он, в то время молодой бравый мужчина, проживал в коммунальной квартире в Кривоколенном переулке. Когда за ним пришли, его, к счастью, не оказалось дома. Он заночевал у бабы, которая жила этажом выше. У нее как раз муж был в командировке… вот кому отец всю жизнь был обязан в церкви свечки ставить. А он, подлец, ставил его жене… В общем, вместо отца чекисты, чтобы выполнить план по арестам врагов народа, замели первого попавшегося жильца этой квартиры. Им оказался бывший владелец дома, совершенно глухой девяностовосьмилетний старик, которому в дальнейшем было инкриминировано преступное участие в создании подпольной правооппортунистической сети террористов. Старик признался, что в планы этой широко разветвленной организации, якобы имевшей свои филиалы почти во всех крупных городах страны, входил захват Кремля с последующим арестом Советского правительства и расстрелом его членов на Красной площади, у Лобного места. Причем во время штурма большевистской цитадели древний старец, который, к слову, не мог передвигаться без посторонней помощи, – у него были парализованы ноги, – должен был осуществлять оперативное руководство одной из боевых моторизованных групп и во главе ее первым ворваться на территорию Кремля. Надо ли говорить, что несчастный старик подписал все, что ему подсунули верные стражи революции, сами и придумавшие вышеупомянутую подпольную организацию. Вот времена были! Что – по сравнению с ними – времена нынешние?.. А мы еще жалуемся, ворчим, ругаем власть…
– Врете вы все!
– Как это?
– А так! Какой там Кривоколенный переулок! Вы же сами говорили, что ваша семья в те годы жила в Одессе.
– Это не меняет дела. Короче, тебе надо исчезнуть.
– Чтобы замели кого-нибудь другого? А самому задать стрекача и обосноваться где-нибудь во глубине сибирских руд…
– Никого заметать не будут. Просто о тебе позабудут. Так, ты бывал в Венеции? – повторила она вопрос. – Как ты смотришь на то, чтобы отправиться не во глубины сибирских руд, а в Венецию на недельку-другую в обществе обворожительной пожилой особы, которая, после того как ты рассчитаешься с ней, будет располагать известными суммами для удовлетворения твоих самых нескромных запросов? Обворожительная особа по причине преклонных лет не представляет для тебя, к несчастью, никакой сексуальной опасности, но чинить препятствий, если тебе вдруг приспичит пошалить на стороне, она не станет. Кстати, там, в богатом, красивом доме, проживает моя племянница Симона. Она, правда, замужем, но все такая же шалунья, какой была в пятнадцать.
– Сколько же у вас племянников?
– Двое: сын брата и дочь сестры. Теперь, слава богу, осталась одна. Мне удалось побывать в Венеции по обмену, еще до развала нашей великой страны. Очень красивая была девочка, эта Симона, и лихая, вроде своей матери в юности. Моя сестра Радка подцепила своего будущего мужа Антонио даль Пра на московском молодежном фестивале в 1957 году и укатила с ним в Италию. Тогда, из-за железного занавеса, сделать это было сложно, но благодаря родственным связям Антонио чуть ли не с главным в то время итальянским коммунистом Джорджо Наполитано ей это удалось. Кстати, потом Наполитано стал президентом Италии. Это просто поразительно, коммунист и – президент Италии! Радка умерла несколько лет назад. Антонио даль Пра потосковал полгода да женился еще раз. На Симоне.
От удивления я разинул рот:
– На родной дочери?!
– В том-то вся и прелесть, что Симона ему не родная. И он ее не удочерял. Так что все по закону.
– Ничего не понимаю…
– Что ж тут непонятного! Радка и Антонио три раза разводились и три раза снова узаконивали свои отношения. В Италии это проделать было затруднительно, и они ездили в сопредельные государства. Радка в интервалах между этими процессами два раза выходила замуж: один раз за русского миллиардера, другой раз еще за какого-то прохиндея. Радкина дочка Симона родилась от одного из промежуточных мужей.
– Богатая биография.
– И не говори. Живет Симона то в Ницце, то в Лондоне, то в Калифорнии. Сейчас она в Венеции, подстригает розовые кусты на своей огромной открытой веранде с видом на канал Каннареджо и ждет принца на белом коне.
– Но она же замужем!
– Кому это мешало!
– Сколько ей лет, этой вашей Симоне?
– Какой ты, однако… Спрашивать женщину о ее возрасте…
– Я же не вашим возрастом интересуюсь.
– Попробовал бы!
– И все же сколько?
Бутыльская погрозила мне пальцем.
– Достаточно, чтобы эффективно и с завидной регулярностью наставлять рога своему мужу. Понимай это так, что она еще в очень и очень приличной форме. И все у нее превосходно функционирует, по ее же собственным словам. Видишь, сколько соблазнов?
– А теперь я скажу тебе то, чего никогда никому не говорила, – она понизила голос до шепота. – Мой племянник, гаденыш, гаденыш, гаденыш… это он, уверена, повинен в смерти моего брата. Я, дура, обивала милицейские пороги, хлопотала, чтобы ему изменили статью, а он, неблагодарный, подлый гаденыш, тем временем крал у меня столовое серебро. Мелкий воришка, ставший потом миллиардером. Мне стало известно о ключике к банковской ячейке, он сам спьяну сболтнул. Это я подослала к нему парочку деревенских олухов. Они должны были его только припугнуть. Я не велела им так разделывать его голову. Все-таки это голова человека, а не свиньи. И не стоило отрезать ему пальцы… Откуда в людях столько зверства?!
– Но они же хотели как лучше, – попытался я защитить олухов.
– Ты глупеешь на глазах. Я не хотела, чтобы его… прикончили.
– Возможно, но в результате вы унаследовали его миллионы!
Глава 45
И вот я в Венеции. Без Бутыльской – она слегка прихворнула, – а с Фокиным. Как он увязался за мной, для меня загадка.
Бутыльская при нем обмолвилась, что Симона является обладательницей бесценного смарагда, и, похоже, его это заинтересовало.
До дома Симоны мы добрались уже за полночь. Несмотря на то что мы сильно припозднились, нас ждали. У лестницы со львами стояли три официанта. Прикрывая рты от зевоты, они посмотрели на нас как на пришельцев с того света.
Симона сидела на каменных ступеньках и с рассеянным видом курила сигару. Она была неотразима. Уточню, она не была красива. Кто-то даже назвал бы ее дурнушкой. Но в ней было очарование, какое бывает у женщин, знающих себе цену и уверенных, что об этом должны знать все.
Фокин шаркнул ножкой и поклонился.
– Лев, царь зверей, – представил я его. После чего Лева преподнес ей букет цветов.
Полутьма. Эхо от наших шагов. Тяжелые своды. Лепные гербы. Оленьи рога. Кабаньи и медвежьи головы. Каменный пол. Ковры. Секиры. Копья. Шпаги. Латы. Шлемы. Чугунная пушка на площадке широкой лестницы. А это еще что такое?! Старинный медный самовар, огромный, ведер на десять.
У Симоны красивая спина. Задница обширная, как стационарный лафет. И все время в движении, в движении! А ноги!.. Она идет, слегка покачиваясь на дециметровых каблуках. Не оторваться! Не баба, а пороховая башня. Похоже, правду говорила Бутыльская: у этой бабищи все органы наверняка работают, как хорошо отлаженный паровой молот. А вот все, что окружает ее в этом дворце, мне не понравилось – очень мрачно. И, как в подземелье, сыро.
– Сыро, сыро, а как же иначе? – как бы отгадывая мои мысли, сказала Симона. – Венеция – это окультуренное болото с островками суши. Да и те покоятся на сваях, вбитых еще в средние века. Воды здесь столько, что город просто обречен не вылезать из сырости.
Большие комнаты, почти залы, как сообщающиеся сосуды, услужливо транслируют друг другу вековую промозглость и полумрак.
Я, стараясь не выказывать никаких чувств, оглядываюсь. Прежде всего меня поражает непомерное количество внутренних колонн. Словно я в каменном лесу. Кто сотворил это уродливое безумство – свихнувшийся архитектор или сам средневековый хозяин этого мраморного бунгало? Устроитель сего сумасбродства, установив колонны, вероятно, столбил пространство, подлаживая его под свои убогие представления о макрокосме. Понатыкал колонн, дуралей. Наверно, полагал, что таким образом сумеет разобраться с устройством мира. Вот и разобрался, пройти невозможно, не расквасив нос о мраморный столб.
Я продолжаю осмотр. Старинные гобелены. Полотна в потускневших бронзовых рамах, сами полотна тоже потускнели. Надо присматриваться, чтобы понять, кто там изображен: венецианский дож, его длинноносая жена или вообще что-то уму непостижимое, вроде чертей, глядящих на тебя из мрачных глубин прошлого. На мой взгляд, ублюдочный замок Бублика выглядел ничуть не хуже, даже, пожалуй, предпочтительней. Во всяком случае, там было теплей и, если оставить за скобками воспоминания об окровавленной голове без уха, в общем-то уютней.




