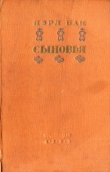Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Вилли Бредель
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
Вальтера окружили друзья; все наперебой уверяли его, что он прекрасно говорил, что многое даже для них было открытием, а уж для родителей и подавно.
Грета украдкой крепко пожала Вальтеру руку. Только лучший друг Вальтера Ауди Мейн, торговый ученик, поморщился и скроил неодобрительную гримасу.
– Да-да, – сказал он, – мне очень жаль, но я вынужден влить ложку дегтя в этот мед успеха. Слишком много страстности. Неуместный подъем. Такая тема требует сухо-научного, делового, я бы сказал, академического подхода. Ты же говорил о гердеровском сборнике народных песен, словно хотел воодушевить слушателей на революцию.
Все горячо возражали Ауди. Пусть критикует по существу! Прижатому к стене оппоненту пришлось сказать: по своему содержанию доклад вполне приемлем.
В коридоре, в одной из оконных ниш, заместитель председателя комиссии по рабочему просвещению отчитывал руководительницу группы, Гертруд Бомгарден, в таком же возбужденном, далеко не академическом тоне:
– Поверьте мне, товарищ Бомгарден, все это кончится скандалом. Чистейшее пораженчество. Совершенно в духе этого помешанного – Либкнехта. Доиграетесь до того, что молодежный союз запретят, и все тут. Чем такая история угрожает нашей социал-демократической партии – мне вам объяснять не приходится. Я обязан доложить об этом комиссии по просвещению. И от вас потребуют ответа.
– Не пойму, товарищ Францик, с чего вы так горячитесь. Видите ли, я сначала тоже опасалась. Но потом подумала, что у нас, социал-демократов, есть свой долг…
– Который вы грубо нарушили. И я…
– Товарищ Францик, ведь не публичное же это выступление.
– Кто вам сказал, что не публичное, товарищ Бомгарден?
– Это родительский вечер!
– На который каждый мог прийти. Если военные власти послали сюда своего наблюдателя, то вашей группе конец. И думаю, не только вашей группе.
– Ну-у, товарищ Францик, все обойдется.
И Гертруд Бомгарден продолжала терпеливо уговаривать этого разволновавшегося человека, увлекая его подальше от собравшихся, которые уже начали поглядывать на них с любопытством.
Сквозь тесное кольцо молодежи протиснулась девушка. Она потянула Вальтера за рукав:
– Я хотела бы поговорить с вами с глазу на глаз.
Вальтер удивленно взглянул на нее:
– Пожалуйста!
Он прошел к окну, и незнакомка последовала за ним.
– Очень прошу извинить меня, – начала она, глядя на него с искренним восхищением. – Я только хотела попросить у вас текст одной песни, о которой вы упомянули в своем докладе. Той, что начинается словами: «Ужели в расцвете я жизни умру?..». Вы не откажете?
– Что вы! С удовольствием!
Вальтер вытащил из своих записей текст песни.
– Вот, возьмите. Для себя я еще раз перепишу.
– Спасибо! Да, вот еще что… Ведь мы с вами родственники, но до сих пор даже не были знакомы. Моя фамилия тоже Брентен. Агнес Брентен. Вы мой двоюродный брат.
Вот потешная неожиданность! Двоюродная сестра, о существовании которой он и не подозревал. Изумленный Вальтер, широко открыв глаза, разглядывал эту поразительно бледную девушку. Одна из Брентенов. Он смущенно молчал.
– Вы… Ты и не знал, не правда ли? Я тоже ничего не знала, и только случай… Отцу, конечно, неизвестно, что я здесь, ведь он против социал-демократов. Я же… одна песня мне особенно понравилась.
Вальтер чувствовал, что надо наконец заговорить и ему, – но о чем? В смущении он бормотал какие-то общие фразы. Он очень рад… Он ошеломлен… Он просит ее еще когда-нибудь заглянуть к ним, народ они веселый, наперекор войне и всему прочему.
– Да, я вижу, – отвечала она. – Мне все здесь понравилось: и доклад, и люди – все. Но часто я приходить не могу, не то отец узнает.
– Вот еще! С желаниями отцов считаться нечего, – живо воскликнул Вальтер. – Дожидайся от них чего-нибудь путного!
– Верно. Ах, я бы с удовольствием поговорила с тобой подольше. Если ты не возражаешь.
– Ну конечно нет. Я буду очень рад.
II
Одной капли достаточно, чтобы переполнить чашу. Капля эта ничем как будто не отличается от остальных, и все же она особенная. Родительский вечер, устроенный нейштадской молодежной группой, был такой особенной каплей среди капель-донесений, полученных штабом IX военного округа Гамбург-Альтона.
На следующее же утро на столе председателя объединения профессиональных союзов Луи Шенгузена лежал большой пакет с хорошо знакомой ему желтой полоской и надписью: «Секретно! Только для служебного пользования».
Вряд ли это что-нибудь утешительное. Приглашения, например, или одобрительные отзывы, благодарности сообщались по телефону; пакеты же обычно сулили какую-нибудь неприятность. Черт его знает, что там опять стряслось!
Он выслал секретаря из кабинета и в полном одиночестве вскрыл запечатанный пятью сургучными печатями пакет. Ох уж этот красный лак сургуча – как пролитая кровь.
И Шенгузен прочел; «По вопросу об антивоенных выступлениях в социал-демократическом Союзе рабочей молодежи».
Он сжал кулаки. Ах, черт! Этого он давно ждал. Хорошо, пусть наконец генерал примет решительные меры. Сентиментальность побоку! Надо же когда-нибудь проучить этих болванов, этих безответственных молокососов.
Он продолжал читать. Он читал о фактах, уже известных ему. Экскурсия бармбекской молодежной группы в Ганнерберг – по существу, скрытая антивоенная демонстрация… Так называемый увеселительный вечер эйльбекской молодежной группы – нелегальное выступление против кайзера и за Карла Либкнехта. Постановка сцены с яблоком из «Вильгельма Телля» – Гесслер с кайзеровскими усами… В эймсбюттельской молодежной группе на так называемых культурно-просветительных вечерах – публичное чтение спартаковских брошюр. На состоявшемся в минувшее воскресенье родительском вечере в нейштадской молодежной группе под видом доклада на тему «Немецкая песня» – замаскированное антигосударственное выступление против войны и правительства.
Луи Шенгузен поднял свое заплывшее жиром лицо. Он что-то припоминал… Нейштадская группа… Немецкая песня… Перед ним возникли две юные фигуры, точно Ганзель и Гретель. Дети обратились к нему с просьбой. И он сам предоставил в их распоряжение парадный зал! А они позволили себе оппозиционные выступления! Спартаковскую пропаганду! За его спиной!..
Стиснув большие кулаки, он держит их перед собой на огромном письменном столе так, точно каждую секунду готов обрушить на головы провинившихся.
Он сидит, думает. Наконец начинает листать приложенные к письму документы и материалы. Он ищет доказательств противоправительственной деятельности нейштадской группы. Родительский вечер. Немецкая песня. А вот цитаты из исполненных на вечере немецких песен. Луи Шенгузен прочел:
Коль тысячи отцов, невест и братьев,
Счастливых пред войной,
Вдруг дали б волю стонам и проклятьям
И счет свели со мной?..
Коль мор и голод, веселясь в могиле,
Где сгнили друг и враг,
Там в честь меня плясали б и вопили
На высохших костях?..
* * * Но только ночь лежит кругом,
Мы молча мчимся вдаль верхом,
Мы скачем на погибель…
* * * Народ, поверив суверену,
В чьей власти и седок и конь,
Благочестиво и смиренно
Идет под пушечный огонь.
Возобновляют кнут и шпага
Союз Священный, чтобы вновь
Европа пала ниц пред стягом
Победоносных юнкеров.
Вы обманули нас, злодеи!
Но минет срок – поймет народ,
Что злейший враг стоит на Шпрее,
И «Вахт ам Рейн» вас не спасет!
Тут уж Луи Шенгузен не выдержал. С сокрушающей силой стукнул он кулаками об письменный стол.
– Неслыханно! Невероятно! Это же форменная государственная измена!.. «Злейший враг стоит на Шпрее»!.. Корни, конечно, тянутся от этого… этого Либкнехта: «Главный враг внутри страны» – и тому подобное… Да, немедленно принять решительные меры! За решетку весь этот сброд! Без всякой жалости! Почему, почему, черт возьми, генерал медлит!
Шенгузен решил написать генералу тщательно продуманный ответ и детально разработать свои предложения – пункт за пунктом.
Погруженный в такие размышления, он сидит ссутулившись и обводит взглядом комнату, словно ищет, на чем бы сорвать злобу. Глаза его задерживаются на одном из портретов, висящих на стене, – на добром и умном, но уже усталом, стариковском лице Августа Бебеля.
«И этот немало виноват, – думает Шенгузен. – Немалую создал и оставил после себя сумятицу, а наш брат расхлебывай кашу».
И на противоположной стене висит большой портрет: красивая, как у Аполлона, курчавая голова Людвига Франка, обведенная черной рамкой, – Франк первый из депутатов рейхстага добровольно ушел в армию и был убит на Западном фронте. Шенгузен благосклонно кивнул ему. Вот истинный, достойный представитель молодого поколения; он мог бы стать вторым Лассалем. Вот кто понимал дух времени! Это тебе не книжник, не начетчик, который сыплет цитатами и живет устаревшими идеями времен «исключительного закона» против социалистов.
Темными, грустно-романтическими глазами глядел Людвиг Франк на своего визави, Августа Бебеля. А тот… Гм!.. Только теперь Шенгузен заметил, что взгляд у старика явно иронический, даже, пожалуй, недовольный, и смотрит он на Людвига Франка как-то косо.
Этого Шенгузен больше не потерпит. Он положит конец подобному безобразию, и немедленно! Надо же, черт возьми! Еще и после смерти с дерзкой иронией смотреть на происходящее. И Шенгузен тут же придвинул стул к стене. Хорошо бы вовсе избавиться от портрета Бебеля. Однако убрать его он не решился, опасаясь вызвать недовольство. Но он не допустит, чтобы этот старый радикал оскорблял Людвига! Прочь его со стены!
В кабинет вошел секретарь.
– Хорошо, что ты пришел. Помоги-ка мне. Портрет висит абсолютно не на месте. Он плохо освещен. Подержи. Так, теперь мы его перевесим. Пожалуй… пожалуй… вон туда, над письменным столом.
«Вот и прекрасно, – думал Шенгузен. – Пусть уж лучше его обозревают мои посетители, лишь бы не я».
– Но эта стена останется голой, – сказал секретарь.
– Достанем еще какой-нибудь портретик. Мало, что ли, их у нас в подвале. Повесим… повесим туда, скажем, Лассаля. Кстати, он к Людвигу Франку гораздо больше подходит. Да, вот что: кто руководитель нейштадской молодежной группы?
– Сейчас справлюсь, товарищ Шенгузен.
– И выясни, кто в прошлое воскресенье сделал там доклад «Немецкая песня». На родительском вечере.
Портрет Бебеля висел теперь между окнами, за спиной Шенгузена. Шенгузен повернулся в кресле и взглянул вверх. Старик Бебель грустно смотрел на него со стены. Шенгузен самодовольно ухмыльнулся.
Взгляд его упал на три больших аквариума, стоящих у окон его кабинета. Он сегодня еще не поглядел даже как следует на своих рыбок. Приходится заниматься всякой чепухой, черт знает на что тратишь силы.
Он отодвинул стул и отдался созерцанию своих любимых золотых рыбок. Великолепные светло-розовые вуалехвосты и огненно-красные, без единого пятнышка, золотые рыбки, одни легкие, быстрые, другие – пузатые, медлительные. Его особой гордостью были три солнечные рыбки, редкие и дорогие экземпляры. Переливаясь всеми цветами радуги, они, точно маленькие сверкающие звездочки, спокойно скользили в воде.
Часами мог простаивать Шенгузен перед аквариумами, восторгаясь чудесными созданиями. Созерцая, как тихо и безропотно они коротают свой век, он отдыхал душой от неприятностей, которые ему непрерывно причиняли неугомонные люди.
Вошел секретарь.
– Ну? – спросил Шенгузен, не оборачиваясь. – Выяснил?
– Руководительница нейштадской молодежной группы – товарищ Гертруд Бомгарден.
– Вызвать ее. Пусть явится завтра же утром. Рыбки покормлены, Килинг?
– Покормлены, товарищ Шенгузен… А парень, который делал доклад о немецкой песне, – Вальтер Брентен.
– Что? – Шенгузен подскочил. – Брентен? Интересно! Отпрыск Карла Брентена? Ну да, естественно. Как говорится, Килинг, яблоко от яблони недалеко падает. Из семейства Брентенов, значит! Ну, дружок, мы тебе загодя обрежем крылья. Вышвырнем тебя, как и папашу! Форменное гнездо анархистов эти Брентены!
Часть вторая
ПОД ТЕМИ ЖЕ ЗВЕЗДАМИ


ГЛАВА ПЯТАЯ
I
Звонок.
Еще звонок.
Звонок за звонком.
– Карл, ты? – Вмиг цепочка сброшена, и Фрида широко распахивает дверь.
Гренадер Брентен без слов вваливается в дом, в походной форме, нагруженный до отказа, взмокший от пота. В столовой он сбрасывает на пол зажатые под мышками свертки и ранец.
– У-у-уф! – отдувается он, тяжело опускаясь на стул. – Слава богу, наконец-то я дома.
Фрида безмолвно и слегка испуганно всматривается в мужа. Ей кажется, что он как-то странно изменился. Это уже не благодушный коммерсант с лицом чревоугодника и солидным пивным брюшком; перед Фридой затравленный, исхудалый, измученный человек, и лицо у него такого же землистого цвета, как его заношенная форма. Пышные, закрученные вверх усы уже не идут к костлявой, угрюмой физиономии. Когда он усталым жестом сдвинул на затылок солдатскую фуражку, Фрида увидела, что последние остатку волос у него выпали; череп гол, гладок и в каких-то странных буграх. Да, было от чего испугаться: год военной службы здорово его истрепал. Сердце у Фриды сжалось от острой боли за мужа. Она раскаивалась, что часто смеялась над его жалобными письмами и считала его нытье преувеличенным.
Он поднял глаза.
– Здравствуй, Фрида.
Она только кивнула в ответ.
– Ну и поездка! Сущий ад. За всю дорогу не присел. И вдобавок ко всему с Гольштейнского вокзала тащился пешком.
– Отдышись немного, – сказала она.
В военной форме она видела его только на фотографиях, и на них он казался бравым солдатом. А тут – воротник слишком высок для его короткой шеи, голенища походных сапог чересчур длинны для его коротконогой фигуры. Обмундирование выцвело. Только пуговицы блестят и сияют, как краны на ее газовой плите.
Ему стало не по себе от упорного взгляда жены, и он отвел глаза, потом от смущения начал старательно вытирать пот с лица и схватился за сердце: он все еще Тяжело дышал.
– Десять дней! Больше за эти две золотые монеты не мог вырвать. Кто их дал? Мими?
– Как же! Держи карман шире! – ответила Фрида запальчиво. – Уж пора было бы тебе раскусить Вильмерсов. Эти людишки думают только о себе. Мальчик наш раздобыл их.
– Да-а? А где он?
– В своем Союзе молодежи. Он там чуть не все вечера проводит.
– Малютки тоже нет?
– Она-то дома, спит уже. Хочешь на нее посмотреть?
– Потом! Достань-ка мой летний костюм!
– Ты что, уже собираешься куда-нибудь?
– Нет, нет, только бы переодеться. Сбросить с себя эту грязную мерзость. И как можно скорее.
– Так помойся сначала. Вшей на тебе нет?
– Да что ты? У нас нет вшей.
Фрида не может скрыть усмешки. Он это видит и понимает, что она ему не верит.
– Ты посиди, отдохни, а я согрею воду и все приготовлю. – И она ушла на кухню.
Он сидел, оглядывал комнату, свою комнату. Все на прежнем месте: стулья, раздвижной стол, шкаф с резьбой, стенные часы, выигранные на лотерее, устроенной как-то в «Майском цветке», картина со львом и ребенком. Вот фотография: он и Фрида женихом и невестой. Никаких перемен за минувший год, ровно никаких. Разве только ковер немножко истрепался. И удобного кресла по-прежнему не хватает. После войны он купит кресло. Непременно. Это будет его первое приобретение. Неужели уже больше года, как его вырвали отсюда? Здесь ничего, решительно ничего не изменилось, а в его существовании все, все перевернулось вверх дном. Его жизнь в казарме – наполовину цыганская, наполовину каторжная. Там его учили ходить, учили стоять, вымуштровали так, что он по команде смотрел направо, налево или прямо; он и дышать-то стал, как предписано, ибо дышать разрешалось только так, как положено по уставу. Если ему хотелось в этом сумасшедшем доме хоть на мгновение почувствовать себя человеком, он должен был оплачивать такое удовольствие сигарами, как оплатил золотом и этот свой первый отпуск. Одели его в форму с медными пуговицами и с золотым кантом на петлицах. Если бы ему продели через нос кольцо, пришлось бы и это стерпеть. Как часто за прошедший год он готов был растерзать себя, и тем более – всех остальных! Каких только картин мщения не рисовала ему разгоряченная фантазия, когда он изнывал от бессильного отчаяния! С первого же дня его смертельным врагом в казарме стал унтер-офицер Кнузен, Адам Кнузен, трактирщик из Брамфельда. Сколько раз Карлу Брентену снилось, что он вместе с добрыми друзьями и помощниками буквально стирает с лица земли этого Кнузена, а заодно и его трактир. В последний раз, когда ему снилось такое сладостное побоище, он победоносно огляделся и, убедившись, что все основательно измолочено, вдруг с величайшим изумлением обнаружил, что вместе с ним дрались Пауль Папке и Густав Штюрк. Они? Это показалось ему таким невероятным, что он сразу проснулся…
Фрида просунула голову в приоткрытую дверь:
– Вода готова, Карл, можешь помыться. Костюм я уже достала.
Брентен задумчиво посмотрел на жену. Она тоже не изменилась. А впрочем… Да, как будто помолодела, стала живее. Лицо спокойное, даже веселое. Быть может – нет, даже наверняка, – она совсем неплохо себя чувствовала на положении соломенной вдовы.
II
Гренадерская форма, словно куча тряпья, валяется в углу за платяным шкафом; Карл Брентен, в летнем светлом костюме, помахивая тростью, важно прохаживается по дому взад и вперед, из столовой по коридору в кухню, где Фрида готовит ужин, из кухни опять в столовую, потом в комнатку Вальтера и по тому же маршруту – назад в кухню. В коридоре висит зеркало, и каждый раз, проходя мимо, гренадер Карл Брентен с восхищением смотрит на Карла Брентена штатского и приветствует его самодовольной, счастливой улыбкой. Он расправляет плечи, потягивается, вертит ничем не стесненной шеей, свободно и легко дышит. Какое наслаждение! Нет никого, перед кем нужно стоять навытяжку. Никого, кто может свирепым окриком остановить его. Никто не сунется с обыском в его тумбочку и назавтра не пошлет на штрафное учение. В полном блаженстве от сознания вновь обретенного человеческого достоинства, он закуривает гаванскую сигару и каждый раз, проходя по кухне, бросает – о чудеса! – ласковое словцо Фриде. На сковородке шипит говядина. Звенит посуда. Ноздри щекочет аппетитный запах лука.
– Все получил в обмен на сигары, – говорит он, вдыхая кухонные ароматы. – Мясо, яйца, консервы – решительно все. Две буханки солдатского хлеба я украл, форменным образом – стащил. Каптенармус этого не заметит, потому что сам ворует направо и налево.
И вот он уже снова в коридоре и, размашисто вскидывая трость, радостно улыбаясь душке штатскому в зеркале, степенно прогуливается по дому.
– А хлеба, кстати, у вас достаточно? – кричит он из коридора.
– О достатках мы давно забыли, – слышится в ответ из кухни.
Он быстро возвращается.
– Даже в Нейстрелице, – говорит он, – всего в обрез. В свой «день половой гигиены» наш каптенармус кладет в рюкзак скамеечку для снимания сапог и буханку солдатского хлеба. Он…
– Что значит «день половой гигиены»? – прерывает его Фрида.
– Тот день на неделе, когда он… ну, гм!.. Когда он отправляется к известным женщинам. Цена – буханка хлеба.
– Вот как. А какой день в неделе был у тебя «днем половой гигиены»?
– Не болтай чепухи. Разве я из таких?
Он снова подходит к зеркалу и из коридора кричит:
– Разве я мог бы тогда притащить домой четыре буханки?
Она в ответ из кухни:
– Так ведь ты стащил их!
На мгновенье в нем вскипает досада. Как она могла заподозрить его? На языке уже вертятся злые слова. Но нет, он раздумал; зачем портить себе настроение? Он даже украдкой ухмыляется, польщенный и самодовольный. Почему бы, в сущности, и ему не иметь свой «день половой гигиены»? Было бы вполне естественно, не так ли? Прогуливаясь мимо зеркала и кокетничая с самим собой, он вдруг чувствует, что ему чего-то не хватает. Он идет в спальню и достает из платяного шкафа завернутую в газету черную шляпу – свой котелок, свою штатскую каску. Лихо сдвинув котелок на левое ухо, опираясь на трость, он стоит на пороге кухни, жадно вбирает в себя запахи жаркого и лука и, сладострастно зажмурившись, говорит:
– Я сейчас самый счастливый человек на свете!
Фрида иронически улыбается. А обернувшись и увидев мужа, она начинает громко хохотать: в котелке и с тростью в руках он стоит, привалившись к дверному косяку, с блаженной улыбкой на лице, с полузакрытыми глазами. Но так как он ни одним движением не отзывается на ее смех, а, наоборот, продолжает стоять в каком-то экстазе, с этой полубезумной улыбкой, застывшей под воинственно закрученными усами, ее охватывает страх; она подходит к нему и озабоченно спрашивает, не болен ли он.
– Я-то? – восклицает Карл, удивленно и даже как будто с легкой досадой взглядывая на нее широко открытыми глазами. – Я? Да ведь я говорю тебе, что счастлив беспредельно.
Она неуверенно кивает и отходит к плите. На душе у нее не очень спокойно.
III
Они сидели за обедом, когда вошел Вальтер.
– Ого! Пахнет неплохо! – воскликнул он, едва переступив порог. И тут увидел родителей, сидящих за накрытым столом в столовой. – Вот оно что! Приехал наконец! Ну, здравствуй, папа!
Карл медленно взял протянутую ему через стол руку сына и окинул его внимательным взглядом с ног до головы.
– Чудной ты какой-то.
– А что? Старше стал? Вырос?
– Гм! Я думал, ты совсем взрослый. А ты все еще в коротких штанах.
Вальтер рассмеялся:
– Разве взрослых узнают только по длинным штанам, папа? Мы все носим короткие штаны. – Он повернулся к Фриде: – У тебя найдется, мама, что-нибудь поесть и для меня? Я зверски голоден.
– Ты так и на завод ходишь?
– В коротких штанах, хочешь сказать? Нет, туда я надеваю длинные. Хотя бы потому уж, что там очень грязно.
Мамаша Брентен пододвинула сыну тарелку и прибор.
– Ты как будто вполне доволен своей жизнью? Очень рад за тебя… Гм!.. А как проводишь вечера? Ну, сегодня, например?
– Сегодня у нас был танцевальный вечер.
– Танцевальный вечер? – Папаша Брентен удивленно и недоверчиво поглядел на сына. – Ты был на вечере в коротких штанах?
– Конечно! – улыбнувшись, ответил Вальтер. – Было бы довольно смешно, если бы мы танцевали в длинных.
– Ага! Было бы, значит, смешно.
Вальтер склонился над говядиной с жареным картофелем и вмиг, как молодой пес, очистил тарелку. Мать всегда напоминает ему, что надо есть медленней, ведь этак он и вкуса еды не почувствует. Обращаясь к мужу, она говорит:
– Сколько может съесть парень в его годы – уму непостижимо. Трудно даже поверить.
Карл Брентен молчит. Как изменился мальчик! Когда он с ним расстался, Вальтер еще ходил в школу, играл в Городском театре. Был молчаливым и замкнутым мальчиком, любил книги, с товарищами не водился; особой склонности к чему-либо не проявлял. А сейчас он хоть и в коротких штанах, но держит себя, как взрослый, уверенно и, можно сказать, целеустремленно. Ходит на танцевальные вечера? Стало быть, у него есть товарищи, может быть, и подруги. Растут дети! Только от случая к случаю замечаешь, как они выросли. И вряд ли можно влиять на их развитие.
– Вот это еда подходящая, – одобрительно говорит Вальтер, поужинав. – Это все ты привез, отец? Вас в казарме каждый день так кормят?
Вместо ответа папаша Брентен спрашивает:
– Цел еще твой конфирмационный костюм?
– Конечно. Припрятан для особо торжественных случаев, – говорит Вальтер и, помолчав, добавляет: – Тебе не нравится, как я одет? Разве ты никогда не видел наших ребят в коротких штанах?
– Ну да, «Перелетные птицы» например, так те…
– Видишь ли, папа, я тоже член этого общества.
– Я думал, ты состоишь в Союзе молодежи?
– Состою. Но в то же время мы и друзья природы.
– Так, так!
Ужин кончился в молчании, даже несколько подавленном. Брентену еще не все ясно в сыне. «Перелетные птицы» в его представлении были какими-то городскими цыганами, которые по собственной прихоти бродят по белу свету. Крайне несимпатичная публика. Мальчик обучается ремеслу, впереди еще три года ученичества, и очень важно, чтобы он не сорвался.
Фрида убрала со стола и отправилась на кухню вскипятить кофе.
Брентен устроился поудобнее на диване и снова закурил сигару. Сыну он благодушно разрешил выкурить сигарету.
– Я не курю!
– Ну, ну, потихоньку, наверное, покуриваешь. Сегодня можешь курить открыто.
– Если бы я хотел курить, папа, я курил бы не тайком, а именно открыто. Но мы не курим.
– Кто – мы?
– Мы – в Союзе молодежи.
Опять Союз молодежи! Видно, этот Союз заполняет всю его жизнь, думает Брентен. То, что они не курят, похвально. Но о своей работе парень и словом не обмолвился. Отец спросил:
– А работа нравится тебе? Полюбилось тебе ремесло токаря?
– Откровенно говоря, папа, не особенно. Когда я выбирал профессию, я не имел ни малейшего представления, что такое токарь по металлу. Помимо всего прочего – нас эксплуатируют и подло обманывают. Я ведь уже работаю сдельно.
– Эксплуатируют? – Карл Брентен улыбнулся. Это сказано как-то не по возрасту рассудительно, чересчур умно. Даже на него, старого социал-демократа, слово это, услышанное из уст сына, произвело впечатление ходкого словечка, которое не стоит принимать всерьез.
– Ты всего лишь ученик, только-только начал работать.
– Ну, и что же? Как раз учеников-то и жмут вовсю, еще больше, чем прежде. – Вальтер разгорячился: – Мы работаем девять с половиной часов, наравне со взрослыми рабочими. Нам приходится давать полную норму, иначе мы сядем в лужу, не вытянем сдельщины. Вот уже три месяца я работаю на токарном станке. И все на одной и той же операции.
– И это еще счастье, – вставляет слово мамаша Брентен, накрывая стол для кофе. – Он уже приносит домой порядочно денег. На прошлой неделе дал мне двенадцать марок и шестьдесят пять пфеннигов. Он теперь наш кормилец.
Брентен молчит и с наслаждением попыхивает сигарой, пуская кольца дыма. В этом у него большой опыт; цепь колечек подымается к потолку, все удлиняясь и удлиняясь, и, наконец, начинает медленно распадаться. Не отрывая глаз от завитков дыма, он говорит:
– Но ведь ему на заводе не нравится?
– У него хватит выдержки довести дело до конца. Он знает свой долг.
– Будем надеяться!
Брентен опять напускает на себя вид строгого родителя. Новые и новые кольца выплывают из его сложенных трубочкой губ.
Вальтер молча наблюдает отца, занимающегося этой игрой, и думает: «Почему взрослые всегда так важничают? В письмах отец был совсем другим. Пришлите сигар. Раздобудьте золото. До гробовой доски буду признателен вам… И дальше: я в полном отчаянии… Надеюсь, ваши старания увенчаются успехом… Да, это совсем непохоже на снисходительное: «Будем надеяться»…»
IV
В спальне Карл Брентен опять заговаривает о сыне. Под разговор легче справиться со смущением, которое им овладевает, когда он начинает раздеваться в присутствии жены. Его несколько беспокоит, как пройдет эта ночь. В прошлом его отношения с женой особой нежностью не отличались. А за год с лишним жизни в казарме он довольствовался только тем, что слушал хвастливые россказни молодых парней об их любовных похождениях и победах.
– У мальчика, по-моему, критический возраст, все зависит от того, под чье влияние он попадет, – говорит он в подчеркнуто легком тоне.
– Ты о Вальтере? – спрашивает Фрида, поворачиваясь к нему спиной.
– Конечно! Он очень переменился. Мне еще неясно, к лучшему ли. У него появился какой-то колючий взгляд. Видно, и впрямь чувствует себя кормильцем и главой семьи.
– Не говори плохо о нашем сыне. Он ведет себя очень порядочно. Пусть бы он таким остался, и я была бы довольна.
– Ты, значит, тоже чего-то опасаешься?
– Нет, нет. Мне не на что жаловаться. Правда, иногда он приходит поздно, но я знаю, где он проводит вечера. И когда бы ни лег, утром встает всегда вовремя и на работе очень добросовестен.
– Надо мне присмотреться к этому Союзу молодежи.
– Ну, что ж! Если бы ты слышал его доклад, ты бы удивился. Говорит, как по-писаному. И ни следа волнения. Все говорили, что это будет настоящий оратор. Но он слишком увлекается политикой, и это мне не совсем нравится. С годами, может быть, и угомонится. Ты ведь тоже вечно бросался из одной крайности в другую.
– Что ты хочешь этим сказать? – вспыхивает Карл. Он стоит перед ней выпрямившись, в одной короткой нижней рубашке и носках. – По-твоему выходит, что я неустойчивый человек?
– Я этого не сказала, но ведь что правда, то правда – то ты с головой уходил в политику, а то месяцами знать о ней не хотел.
– На все были свои основания, – произнес он важно и таинственно.
– Знаю я их, эти основания, – иронически бросила Фрида, – иной раз они назывались Папке, иной раз карты, иной раз пиво…
Брентен только что надел ночную рубашку. Ей-богу, у него сегодня были самые лучшие намерения, он вовсе не собирался ссориться в эту первую ночь после разлуки. Но что слишком, то слишком. Покраснев от досады, он прошипел:
– Хочешь мне отравить отпуск? Если это твоя цель, поздравляю тебя с успехом.
– Ты, значит, по-прежнему не переносишь правды?
Разумеется, с ее стороны неумно было раздражать его; но молчать, сознавая свою правоту?
– Я всего ждала, но только не этого.
Он вдруг закричал:
– Это возмутительно! Замолчи, говорю я тебе!
Она уже молчала. Но он крикнул еще раз:
– Замолчи! – рванул одеяло и с шумом бросился на постель.
Фрида поняла, что зашла слишком далеко, так далеко, что вряд ли сейчас можно что-нибудь исправить.
Она молча, с кошачьим проворством, юркнула под одеяло и погасила свет.
V
Окно в маленькой комнатке Вальтера открыто настежь. Над городом простерлось ясное, ласковое небо летней ночи. В темной бархатной глубине висит, как драгоценная безделушка, серебряный, светлый месяц, окруженный бесчисленными, мерцающими кристаллическим блеском звездами. Тихо. Уличный шум замер. Должно быть, скоро полночь. Вальтер не спит, он лежит с открытыми глазами и мечтает, любуясь летней ночью и луной, заглядывающей прямо к нему в окно. Не читалось ему сегодня; он несколько раз ловил себя на том, что глаза его скользят по строчкам, но смысл не доходит до сознания…
Он думает о прожитом годе. Теперь кажется, что он прошел быстро. Между тем он был для Вальтера особенно богат событиями, опытом. Ему даже казалось, что этот год – решающий в его жизни. То, что прежде наполняло его дни, стерлось, исчезло – началась совсем другая жизнь, с совершенно иным содержанием. Всего какой-нибудь год назад он еще сидел на школьной скамье, вертелся за кулисами Городского театра и думал о своей будущей судьбе. И вот она пришла, его судьба, словно некое удивительное приключение, хотя к его жадному любопытству и примешивается чувство какой-то неудовлетворенности. В самом деле: с каким отвращением, в особенности вначале, он ходил на завод, в эти грохочущие, грязные, пропахшие нефтью и смазочным маслом цеха, к этим ворчливым, обычно хмурым рабочим, к этим озорным ребятам – таким же ученикам, как он сам. Как они потешались над ним! Пользуясь его неведением и доверчивостью, они сделали его всеобщим посмешищем – посылали за стеклянным молотком с резиновой ручкой и за передвижным глазомером! Они словно задались специальной целью изводить его, ибо его наивное рвение то и дело завлекало его в ловушки, он снова и снова попадал впросак. Он приходил в отчаяние, видел жизнь в черном свете и нередко был близок к тому, чтобы наделать непоправимых глупостей…