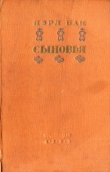Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Вилли Бредель
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
Вальтер знал, что случаи, на которые ему указывают, действительно взяты из жизни. Да он и сам мог бы назвать имена таких двуличных самодуров и горлодеров. Но он призывал друзей пошире раскрыть глаза: тогда они увидят не только тех, кто в революционные времена становится попутчиком и только «шумит»; ведь все это – разложившиеся элементы, а никак не подлинные революционеры.
– Вас засасывают будни, – говорил Вальтер. – Смотрите вперед, расширьте свой кругозор, научитесь мыслить политически: поймите, куда ведет первый путь и куда – второй.
– Сначала переделаем человека, – возражали ему. – Воспитаем его, сделаем нравственно зрелым, достойным носителем высокого идеала, который ему предстоит осуществить. Какой толк от социального переустройства, пусть самого замечательного и прогрессивного, если люди, которым предстоит жить в новом обществе, не понимают его благ.
– Но прежде всего надо создать новый социальный строй, – говорил Вальтер. – Новый человек в старых условиях сложиться не может. Я согласен, что при социалистическом строе новые люди тоже не вырастут сами собой; необходимо взаимно воспитывать друг друга. Но только на основе социалистического строя может появиться новый, лучший человек. Об этой истине все время забывают или, в крайнем случае, не придают ей должного значения.
Так они спорили, выдвигая бесчисленные доводы «за» и «против». Спорили долго и охотно; многие только разговорами и занимались, спокойно выжидая, как развернутся события.
Было так бесконечно много всего, что делает жизнь прекрасной и желанной. И разве жизнь их коллектива это не зародыш тех отношений между людьми, о которых они мечтают и которых добиваются для всего человечества? Остров Утопия среди пока еще холодного и неразумного мира? Разве их спаянность это не осуществление, по крайней мере частично, их идеала? Рут навсегда запомнила то, что Вальтер рассказал ей однажды о «трех Томасах»: Томасе Кампанелле, Томасе Море и Томасе Мюнцере. Это были отважные, мужественные люди, предтечи и глашатаи строя всемирной свободы и счастья людей, того строя, о котором мечтал Вальтер, да и она, Рут, мечтала.
Рут обычно мало говорила, но часто обо многом задумывалась. Всей душой была она предана своим друзьям и их устремлениям. Она спрашивала себя, мучаясь страхами, раздираемая душевным конфликтом: разве эвтерповцы не чудесные люди? Каждый в своем роде, каждый со своими особыми склонностями? И разве не создает их общение, при всем различии индивидуальностей, некое гармоническое созвучие?
В последнее время Рут очень изменилась, и, как ни странно, меньше всех замечал это Вальтер.
На вечерах группы она была молчаливее прежнего – скорее наблюдала, чем участвовала в ее жизни. Когда она безмолвно сидела в уголке, неотрывно глядя на друзей своими большими глазами, казалось, что она здесь посторонний человек, случайная гостья.
Да, мысленно Рут прощалась со всеми, и прощание это было нелегким. Она еще упиралась, но знала, что все кончено. Она чувствовала, что не в силах порвать с прошлым, порвать с матерью и зажить жизнью, к которой ее так тянуло.
Революционеркой Рут не стала: она переоценила свои силы. Дочь добропорядочных буржуа, она боялась жизни и не посмела ринуться в неведомый ей мир; ей нужен был родительский кров как прибежище, нужна была материнская забота и защита.
Но как покинуть людей, ставших ей дорогими и близкими, которым она бесконечно многим обязана, с которыми пережито столько незабываемых, чудесных часов! Это было долгое, мучительное прощание, и она все откладывала со дня на день минуту бесповоротной разлуки. Она боялась ее.
А пока она глядела на всех еще любовнее, чем прежде, и старалась не пропустить ни одной возможности побыть с друзьями.
Эвтерповцы собирались почти каждый вечер. Они обсуждали вопросы философии и биологии, читали стихи и пьесы, спорили о различных течениях в изобразительном искусстве, говорили иногда о злободневном; в темах недостатка не было.
Рут казалось, что из всех членов кружка Вальтер самый живой и мальчуганистый – самозабвенно веселый в играх, воинственный в спорах. На нее он на вечерах группы как-то мало обращал внимания. Слушая его, можно было думать, что всегда и во всем он зачинщик, что он задает тон. На самом деле было не так. Почти каждый член группы вносил в общую жизнь что-то свое, свою особую нотку.
Был здесь Калли Бергин, остроумный, ловкий, с лицом библейского отрока Ариеля, но неисправимый насмешник и шутник, за что получил прозвище «Шмель». Он обладал незаурядным актерским талантом и не раз пробовал свои силы в кругу друзей. Бергин страстно мечтал о балетном искусстве, надеялся попасть в школу пластического танца Лабана в Геллерау, куда он уже несколько раз ездил. Когда выступала знаменитая Палукка или Мари Вигман, он увлекал всю группу в театр. Порой, когда друзья устраивали вечера народного танца, он показывал эксцентрические танцы собственной композиции.
Его партнершей бывала обычно Эльфрида Шредер – Эльфи, как ее называли, – всегда веселая, мальчишески задорная и бойкая на язык девушка. Как вихрь, носилась она в танце со Шмелем, а с языка ее то и дело срывалось, как бы дополняя ее движения, быстрое и острое словцо.
Шмель был лишь ее партнером по танцам, но не другом. А другом был Ганс Шлихт, «книжный червь». Всегда у него под мышкой торчала книга; часто он даже на танцевальных вечерах садился в сторонку и принимался за чтение. Плотный, коренастый, с массивной головой на короткой шее, он напоминал профессионального атлета, а между тем он поражал членов кружка широтой интересов и разносторонними знаниями. На молодежных вечерах Ганс читал доклады о Марлоу, Киде, Джонсоне, о Бальзаке и Ибсене, об Уолте Уитмене. Когда группа отправлялась в Камерный или Драматический театр, он служил для товарищей живым справочником и рассказывал много интересного и важного об авторе пьесы и о самой пьесе.
Жаль, что Эрвин Круль не обладал красноречием Ганса – он много мог бы дать друзьям в совершенно иной области. Они называли его «пролетарием в манишке», но совершенно беззлобно, больше с оттенком сочувствия. Он служил продавцом в магазине готового платья и обязан был являться на службу в длинных, тщательно выутюженных брюках, воротничке и галстуке. В его облике и в самом деле было что-то застывшее, педантически аккуратное. Задор и оживление, которыми искрились Вальтер или Шмель, были ему чужды – он отличался сдержанностью, замкнутостью, склонен был даже к меланхолии. Некоторые искали причину его мрачности в несчастной любви к Трудель Греве, маленькой белокурой ведьме, которая немало бед натворила своими невинными небесно-голубыми глазами, но делала вид, что ей об этом ничего не известно. У Эрвина – Рут часто с удивлением убеждалась в этом – были весьма основательные познания в естественных науках. Он с друзьями читал Дарвина, изучал труды Сенеки о кометах, теорию теплоты Гельмгольца, а в последнее время – исследования супругов Кюри о радии. Но стоило ему очутиться в обществе пяти-шести человек – и он, несмотря на все свои познания, молчал, слова от него нельзя было добиться. Зато где-нибудь на экскурсии, в непринужденном разговоре с приятелями, он умел увлекательно говорить о сложнейших проблемах.
Но особенное оживление царило среди молодежи, когда приходил их «философ», духовный отец группы Отто Бурман. Ему было уже двадцать три года, и если они допускали его в свою среду, то только потому, что этот высокий, статный юноша, с темными вьющимися волосами и на редкость угловатыми манерами, был всеобщим любимцем. Три года пробыл он на фронте и лишь в конце декабря прошлого года вернулся домой. Он знал теорию научного социализма несравненно лучше, чем кто бы то ни было в группе, и знакомил эвтерповцев с идеалистической и многими другими философскими системами, обусловленными временем, в котором они появились. Превосходный оратор и педагог, Отто, особенно охотно прибегая к сократовскому софистическому методу, умел раскрыть самые запутанные, спорные проблемы. Он обладал не только сильным интеллектом, он владел и искусством остроумных формулировок. Для эвтерповцев это был подлинный кладезь знаний. Отто умел на лету зажечь в своей аудитории интерес к самым различным наукам. Подчас суровый критик, подчас арбитр в возникающих противоречиях, он горячо, как отец детей, любил своих юных приятелей и приятельниц.
Среди таких людей много месяцев прожила Рут. Они открыли ей новый мир, но она не отважилась расстаться со старым и смело вступить в новую жизнь. Она взвешивала все «за» и «против», боролась со всеми искушениями. Нередко она уже готова была следовать велению сердца: будь что будет! Но снова и снова верх брали страхи и сомнения, и снова и снова она впадала в состояние растерянности, беспомощности.
II
– Ты представь себе, какие новости, Рут! Надо было тебе быть при этом! Нет, видно, только сейчас начинается борьба не на жизнь, а на смерть!
– Ради бога, Вальтер, что случилось? – пролепетала Рут; ей представилось, что он обо всем узнал. Что будет, что будет?!
– Приехал мой дядя. Оборванный, изголодавшийся, поверх матросской куртки на нем было штатское пальто. Видела бы ты…
– Твой дядя? Он матрос?
– Да, да. Моряк! Еще до войны плавал в Африку. Разве я тебе не рассказывал? Он совсем еще молодой. Когда началась война, он пошел добровольцем во флот. Мой дедушка, а его, значит, отец, ужасно, говорят, рассердился на него – дедушка был против войны. Ну и вот, дядя примкнул к революции. В Берлине его схватили офицеры Носке, присудили к расстрелу, но ему удалось бежать. Он бежал в Брауншвейг. Там еще была матросская часть, которая осталась верна революции. А теперь и в Брауншвейг вступили войска Носке. Стоит матросу попасть к ним в лапы, и они сразу ставят его к стенке. Если бы ты послушала дядю, Рут! Он дрожал от ярости. «О, мы дураки! – кричал он. – Погоны мы срывали с этой сволочи! Погоны-то можно было оставить, но головы – сорвать!»
Огненный румянец вдруг залил щеки Рут.
– Генералы и офицеры снова у власти! А ведь всего несколько месяцев прошло после переворота. Ты понимаешь? И все это – берлинские и брауншвейгские шенгузены! Они, и только они, виноваты во всем.
– Ты лишь теперь узнал о судьбе дяди? – спросила Рут.
– С тех пор как началась революция, о нем не было ни слуху ни духу. Он говорит, эти негодяи хозяйничают в Берлине и Брауншвейге, как в оккупированных неприятельских городах. Вводят осадное положение. Расстреливают на улицах. Преследуют тех, кто…
– Значит, с революцией покончено?
– Вздор какой! – с возмущением воскликнул Вальтер. – Покончено? Наоборот, теперь-то и начнется! Увидишь! Неужели ты думаешь, мы, рабочие, допустим такое?
Она ничего не ответила.
– Революцию нельзя так вот, ни с того ни с сего сбросить со счетов. Уж будь покойна. До сих пор это было больше разрушение старого, чем революция. И только теперь начнется настоящая революция.
Она молчала и думала: «Лучше бы он оказался не прав. Разве мало воевали? Зачем же еще у себя на родине воевать? А вдруг и он будет втянут в драку – тогда… Да, тогда может случиться, что они столкнутся лицом к лицу и будут стрелять друг в друга».
– Революция страшная вещь, Вальтер!
– Но она необходима.
– Люди говорят иное.
– Люди! Люди! – воскликнул Вальтер. – Как будто ты не знаешь, что люди болтают невесть что!
III
В цеху место старика Нерлиха, соседа Вальтера, занял новый рабочий. Нерлих исчез, у его длинного станка стоял молодой человек по фамилии Тимм.
Старик Нерлих все-таки сдался. Как он негодовал, когда дирекция решила его уволить!
– Я не уйду, – уверял он Вальтера. – Хотя бы они на головах ходили – не уйду! Новые законы на моей стороне! Заводской комитет за меня! Не уйду! – И он дрожащими руками выдвигал суппорт и включал резец.
Да, бедняга Нерлих, славный, честный Нерлих, состарился. Руки у него тряслись, а слабые глаза за толстыми стеклами очков беспомощно бегали, как у затравленного зверя. Ему было трудно стоять, и он часто присаживался, чтобы отдышаться. Он давал много браку. И выработка уже была не та: не мог он угнаться за другими. Отслужил старик свой срок; надо было очистить место для более молодых и сильных. Лессеры предложили ему уйти как бы «по собственному желанию». Они «великодушно» обещали выплатить ему после ухода средний месячный заработок. Ну, а вообще ведь к его услугам «образцовая» система социального обеспечения – вот пусть и обратится куда следует.
Но Нерлих из себя выходил. Он кричал:
– Не уйду я! Еще рано мне на слом! Не уйду!
Каждый раз, завидя мастера Матиссена, старик, как бы готовясь к обороне, опускал голову и боязливо оглядывался. Убедившись, что его опасения напрасны, он с довольным видом потирал дрожащие костлявые руки и поглаживал холодное железо токарного станка.
Браковщики тайком уговорились не очень-то придираться к продукции Нерлиха. Рабочие, ведавшие выдачей материала, отбирали для него литье получше. Даже калькуляторы ладили все так, чтобы он получал самую легкую работу, и порой повышали ему сдельную оплату.
И все-таки настал день, когда старик сдался. Нерлих, который утром всегда первым приходил на работу, а вечером последним покидал свой станок, в этот день затих и покорно сдался. Двадцать восемь лет он проработал на заводе Лессера. Двадцать восемь лет он обрабатывал все те же чугунные капсюли.
Отныне его больше никто не видел…
IV
Андреас Лессер, один из «братьев Лессер», инженер, дурак, каких мало, во время войны присвоил себе обыкновение обходить цех, ступая, точно на ходулях, и свысока, гнусавым голосом отдавать распоряжения своим заводским рекрутам. В первый же день у него произошла стычка с новичком.
Андреас Лессер был флотским офицером. Когда вспыхнула революция, этот флотский офицер в мгновение ока перекрасился, – превратился в отменного штатского щеголя и ослеплял рабочих бесконечной сменой костюмов. Любители статистики насчитали их уже шестнадцать; но у Андреаса Лессера были в запасе каждый раз новые сюрпризы. В это утро он явился в белом фланелевом костюме и белой яхтсменской фуражке с черным козырьком.
Ему было под сорок. По виду это был спортсмен, выхоленный и вылощенный, с гладким, ничего не выражающим лицом, коротко подстриженными волосами, тщательно разделенными пробором, и белоснежными, ровными, как нитка жемчуга, зубами, которыми он, по-видимому, особенно гордился – рот у него всегда был полуоткрыт. Точно большой ребенок, избалованный природой и людьми, вышагивал Андреас Лессер по цеху, обходя ряды станков. Он ревниво следил за тем, чтобы каждый рабочий приветствовал его, на что отвечал милостивым кивком, а проходя мимо стариков, работавших на заводе по нескольку десятков лет, наигранным жестом поднимал руку к козырьку и благосклонно произносил: «Доброе утро, любезный!» Если кто-нибудь делал вид, что не замечает его, Лессер останавливался и так долго и пристально смотрел на недогадливого, пока тот волей-неволей снимал шапку.
На этом-то он и столкнулся с новым токарем. Тимм словно не замечал патрона – этого блестящего яхтсмена в белоснежном костюме. Андреас Лессер, взяв на прицел разиню, так и впился в него строгим взглядом. Это не произвело ни малейшего впечатления. Правда, новичок на мгновение недоуменно вскинул глаза, но, казалось, все же не увидел стоящего перед ним Лессера. Рискуя испачкать масляными брызгами свой весьма маркий костюм, хозяин еще ближе придвинулся к станку Тимма и, заложив руки за спину, всем корпусом подавшись вперед, в упор уставился на токаря глазами избалованного ребенка. Тимм еще раз взглянул на него, явно удивленный странным поведением незнакомца в белом костюме, но и бровью не повел. Свою промасленную кепку он, по-видимому, снимать не собирался.
Так стояли они несколько секунд, молча меряя друг друга взглядами. Лессер все шире раскрывал глаза. Он покраснел. Он делал глотательные движения, как будто в горле у него стоял неразжеванный кусок. Наконец он вплотную подошел к Тимму, тронул его за плечо указательным пальцем и произнес:
– Ска-а-жите, вам трудно поздороваться?
Новичок любезно улыбнулся и ответил так громко, что Вальтеру было слышно каждое слово:
– Мои родители хорошо меня воспитали. Я с детства знаю, что первым здоровается вновь пришедший.
Андреас Лессер с трудом перевел дух. Гнусавя, он прошипел что-то насчет «вызывающего поведения некоторых наглецов и невеж».
Новичок с улыбкой прервал его и сказал, что, как видно, они и в самом деле люди разного воспитания.
Андреас Лессер круто повернулся на каблуках и поспешно направился к выходу.
Вальтер громко рассмеялся. Новичок – молодец. Этот не ползает на брюхе перед хозяином, не дрожит перед ним в благоговейном страхе, как Нерлих.
– Не заживешься ты у нас, – крикнул он Тимму.
Тимм усмехнулся и сказал, что и не собирается.
Об этом маленьком происшествии вскоре заговорил весь завод. Все были довольны, что новый токарь посбавил спеси хозяину.
Председатель заводского комитета, пожилой бесцветный человек, шестнадцать лет проработавший на заводе слесарем, подошел к Тимму и спросил, как он считает: должен ли заводской комитет заявить протест, если дирекция потребует увольнения Тимма.
Тимм опять усмехнулся и сочувственно поглядел на товарища.
– Не стоит ради меня наживать неприятности, – сказал он. – Особенно я горевать не стану, если уволят.
– Ну, что ж! Хорошо! Нам ведь надо знать, какую занять позицию!
Вальтер был в восторге от новичка. Какая спокойная, независимая манера держать себя! Какой ясный, пытливый взгляд! Этот-то знает, чего хочет. «Сколько лет ему, интересно? – думал Вальтер. – Двадцать восемь? Тридцать? Не больше: пожалуй, меньше».
Не отходя от станка, Вальтер рассказал новому токарю о Нерлихе.
Тимм внимательно слушал и молчал.
Вальтер рассказывал об угодливости, прочно укоренившейся на заводе, о том, что тон все еще задают старики, проработавшие здесь много лет. Они утверждают, что вправе предъявлять большие требования, потому что дольше других пробыли на предприятии.
Тимм молча кивал.
– И представь себе, – продолжал Вальтер, – Боллерт недавно мне заявил, что наш долг работать, не жалея сил, что надо думать о восстановлении, то есть от сверхурочных не отказываться, заработком не интересоваться. Вот осел, правда? И это – социалист и член заводского комитета. Хочет уверить нас, будто мы под руководством его партии прикатим прямо в царство социализма. Понятно, что заводчики Лессеры им не нахвалятся.
И снова Тимм кивал, чуть-чуть улыбался и молчал.
Вальтер разозлился. Ему нужны были не кивки, не загадочные улыбки, не таинственное молчание; он хотел, ответа, хотел знать, прав он или неправ, знать, что обо всем этом думает новый токарь. Не сдержав досады, Вальтер крикнул:
– Кто ты? К какой партии себя причисляешь? Социалист-оборонец или левый?
Лицо Тимма оставалось серьезным и замкнутым. На этот раз он даже не кивнул, посмотрел на Вальтера долгим взглядом – и вдруг опять улыбнулся.
Ну, значит, и разговаривать нечего о Тимме, несмотря на хорошее начало. Поведение токаря показалось Вальтеру обидным, и он мысленно называл Тимма улыбающимся китайским божком, флегмой; в один прекрасный день он, того и гляди, еще обернется самым настоящим оппортунистом.
Но авторитет Тимма в цехе сразу поднялся, когда, против ожидания, оказалось, что он не уволен. А Андреас Лессер, проходя на следующее утро мимо станка Тимма, на этот раз в сером костюме, вызывающе громко крикнул:
– Здравствуйте, господин Тимм!
«Господин Тимм», по-видимому, должно было прозвучать иронически, но получилось совсем наоборот. Токарь Тимм снял кепку и ответил, словно приветствуя старого знакомого:
– С добрым утром, господин Лессер!
Все, кто наблюдал эту сцену, удивленно ухмылялись.
V
А дома было настроенье горького похмелья. Жилищную комиссию при городском Совете рабочих депутатов ликвидировали.
Дела были переданы особому отделу при городском управлении, и во главе отдела поставили одного из приближенных Шенгузена.
Брентен искал поддержки у своей партии, требовал, чтобы она протестовала против подобного произвола… Произвол! Бог ты мой! В других областях царит куда более опасный произвол. Стоит ли говорить о какой-то маленькой жилищной комиссии, есть вещи поважнее…
Конец. Точка. Вопрос исчерпан. Жилищная комиссия сдана в архив. И для чего только Карл Брентен потел над протестом, настрочил докладную записку на двадцати двух страницах! Не-ет! Уж на этот раз он по горло пресытился политикой. Только нажил себе врагов, не встретил сочувствия даже в собственной партии, имел одни лишь неприятности; несмотря на все старания и усилия, ни от кого ни разу не услышал слова признательности и пожинает одну лишь черную неблагодарность.
– Не-ет, с меня хватит! – восклицал он. – Вы еще вспомните обо мне, прибежите, будете упрашивать, чтобы я вернулся!..
Везде и всюду в гору идут одни лишь беспринципные крикуны; и у левых не лучше. Какие только субъекты в последнее время не распинаются за народ!.. И никому невдомек заглянуть в прошлое этих новых светил. Кто послушно идет на поводу и во всем угождает партийному руководству – тот и хорош и умен.
Карл Брентен вернулся к торговле сигарами собственного производства и больше решительно ничем не занимался. Пришлось начинать все сызнова; в последнее время он очень запустил свои дела. Сбережений не было. Ведь он не воспользовался «посланным судьбою шансом», как выразился его шурин Хинрих. Поэтому Карл Брентен очутился в тяжелом положении. Приходилось содержать большую семью – жену, детей, тещу. Приходилось оплачивать дорогую квартиру. И вместе с тем нельзя было виду показывать перед родными и знакомыми, что, потеряв пост председателя жилищной комиссии, он сколько-нибудь ущемлен. Напротив, надо было разыгрывать беспечность: мол, все это его ничуть не трогает, он, мол, выше подобных пустяков.
Такая поза, однако, сопряжена была с расходами и требовала соответствующих доходов. А где их добыть? Да, где, каким путем?..
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
I
Страстное возмущение, незримо клокотавшее в народе, в том году еще раз вырвалось на волю.
Незадолго до обеденного перерыва Эрнст Тимм обернулся к Вальтеру и сказал:
– В городе, говорят, началась заварушка. Стихийные демонстрации. Матросы возглавляют.
– Матросы? – воскликнул Вальтер. – В чем же дело?
– Да вот, Хольмерс рассказывал, но я толком ничего не понял; разгорелось будто бы из-за того, что какая-то колбасная фабрика готовила колбасу из крысиного мяса.
Господи! Вальтер был потрясен. Колбаса из крысиного мяса – повод к восстанию! Слово «матрос» мгновенно связывалось у него с политическими выступлениями, даже с революцией…
После обеда у Вальтера были занятия в ремесленной школе, но он сразу решил, что сегодня пропустит их.
В центре города бурлило, как в котле. По улицам маршировали части «фольксвера» – народной армии. Проходили матросские патрули с винтовками через плечо, дулом вниз. Народ бежал по направлению к Юнгфернштигу.
– Они там! – и Вальтер тоже побежал, еще не зная, кто это «они».
Он расспрашивал встречных, пробивался сквозь толпу, прислушивался к спорам и старался понять, что же происходит. Кое-что он уяснил себе, но полной картины все-таки не мог составить. Лишь в последующие дни, когда в газетах появились подробные описания событий, он понял их взаимосвязь.
В этот знойный июньский день одна из бочек с мясом, которые доставляли на фабрику мясных и колбасных изделий, находившуюся в центре города, упала на мостовую и раскололась. Прохожие в ужасе шарахались во все стороны – такое невыносимое зловоние шло от бочки. Оказалось, что она была набита тухлым мясом, прогнившими кишками и костями и, в довершение всего, – дохлыми кошками и крысами.
Перед фабрикой вскоре собралась большая толпа, так как весть об этом происшествии быстро облетела город. Что ж это? Значит, все годы войны население потчевали кошками да крысами?.. Из такого зловонного дерьма изготовляли колбасу? И сейчас кормят тем же? Знает ли правительство об этих безобразиях?.. Почему сенат давно уже не принял мер?.. Где хозяин фабрики?..
Толпа требовала немедленного осмотра фабрики. Прямо на улице произносились речи, гневные, негодующие. А солдаты народной армии, члены бюргершафта, представители партий подходили, расспрашивали, что происходит, и тут же уходили, ничего не предприняв.
Тогда за дело взялся сам народ.
Владельцем фабрики был некий тайный советник Гейль. Он жил в собственной вилле в Уленхорсте, где питался, конечно, отнюдь не изделиями своей фабрики.
– Давай сюда Гейля! – кричала толпа. – Пусть жрет, собака, то, чем нас кормит.
Машина с солдатами народной армии отправилась в Уленхорст за тайным советником.
– И все его служащие виновны, – кричали в толпе. – Знали, да помалкивали. Где эти подлые твари? Подать их сюда!
Несколько человек, в том числе два матроса, спустились в зловонный подвал. Они вернулись с мастером и четырьмя женщинами, из которых одна была старшей работницей. Матрос катил за ними бочку, до половины наполненную гнилыми кишками и дохлыми крысами. Толпа остановила на улице грузовик, взвалила на него бочку, а затем втащила туда же мастера и женщин. Чьи-то руки живо соорудили щит с надписью: «Фабрика мясных и колбасных изделий Гейля. Изготовляем колбасу из гнилых отбросов и падали».
И грузовик медленно двинулся через весь город в сопровождении многотысячной, грозно шумящей толпы.
Проехали через Ратхаусмаркт к Юнгфернштигу, где в этот час гуляло обычно все гамбургское высшее общество. У Альстерского павильона демонстрация остановилась; солдат народной армии, стоя на грузовике, произнес речь, а потом толпа заставила мастера и всех четырех женщин достать из бочки по куску гнилого мяса и тут же съесть его.
Между тем с виллы в Уленхорсте приволокли тайного советника. Низенький, упитанный, солидный господин с лихо закрученными вверх усами и седыми висками стоял, окруженный солдатами, и смотрел на толпу удивленными, круглыми, как пуговицы, глазами. Он уверял, что понятия не имел о том, что творится у него на фабрике; он в жизни туда не заглядывал. Но когда кто-то спросил, имеет ли он понятие о доходах, которые приносит его колбасная фабрика, он промолчал.
Несколько человек кинулись вперед, требуя немедленной расправы. Благородного барина стащили с машины, порядком избили, поволокли к парапету и столкнули в озеро. У берега было неглубоко; тайный советник стоял всего по грудь в воде, высоко подобрав полы сюртука, словно боялся замочить их. У него был такой смертельно испуганный вид, что все, кто его видел, покатывались со смеху.
И когда тайный советник, захныкав, точно грудной младенец, и молитвенно сложив руки, запросил пощады, толпа уже почти амнистировала его. Его выудили и увели под конвоем двух солдат.
II
Сенатор Шенгузен, всего лишь три недели назад обретший это звание, наблюдал за действиями толпы из окна своего служебного кабинета в ратуше. Выслушав подробный доклад обо всем происшедшем, Шенгузен стал обдумывать, как усмирить бунт и к каким последствиям он может привести, если бы не удалось с ним справиться.
На фольксвер – народную армию – положиться нельзя: он заодно с бунтующей чернью. По поводу такого смехотворного происшествия просить правительственного вмешательства невозможно, тем более, что войска рейхсвера теперь нарасхват, их требуют во все концы страны. И все же небольшая, действительно надежная воинская часть в два счета покончила бы со всей этой чертовщиной.
Шенгузен смотрел на Ратхаусмаркт, где на высоком цоколе памятника, верхом на коне, красовался император Вильгельм Первый с таким видом, точно он вот-вот сорвется и галопом поскачет прямо в ворота ратуши. Народные низы могут превратиться в сильнейшую угрозу для прогресса, размышлял Шенгузен. Толпа глупа и наивна, как дитя. Она бунтует ради удовольствия позабавиться, поиграть с врагами в кошку и мышку, погонять их туда и сюда, заставить трястись от страха, но, в конце концов, она же их и помилует… Нельзя удовлетворять требования народа во имя его же блага… Удивительно, до чего люди слепы! Не видят, что настали новые времена! Они ведут себя совершенно безответственно, как будто в нашем городе и во всей стране ничего не изменилось, как будто здесь, на моем месте, все еще сидит какой-нибудь толстосум-бакалейщик… Воспитать в народе чувство политической ответственности – чертовски трудная задача, действовать надо без народа, против народа, во имя народа. Придет, конечно, пора, когда мы действительно сможем положиться на народ, но, – Шенгузен покачал тяжелой головой, – но до того времени еще немало воды утечет… Так как же все-таки усмирить мятеж? Как совладать с толпой?..
Тут он вспомнил, что за городом, в Баренфельде, проводятся ученья так называемых «временных добровольцев»; политически – это совершенно незрелые элементы, которых больше всего привлекает самая игра в солдатики. Еще недавно социал-демократы Баренфельдского района выражали по этому поводу преувеличенные опасения и протесты. Эти идиоты плели что-то о возрождении милитаризма… Какой там милитаризм, если несколько сот восторженных юношей занимаются военным спортом?
Гм… А что, если дать им задание? Если приказать им навести порядок? Это подчинит их нашему политическому влиянию и помешает, быть может, пристать к какой-нибудь безответственной авантюре!
Шенгузен прикидывал: если доложить обо всем партийному руководству, может произойти проволочка; в правлении партии тоже есть заводские рабочие, а это народ несговорчивый. Согласятся ли они на такой шаг? Нет, нет, уж лучше поставить их перед совершившимся фактом. Добиться согласия на свое предложение у социал-демократов – членов сената – много легче. Разумеется, действовать только на собственный страх и риск нельзя, надо же как-никак и демократические принципы блюсти…
Через час в кабинете Шенгузена собрались сенаторы социал-демократы. Они решили собственными силами покончить с уличными волнениями и не переносить вопроса на пленарное заседание сената. «Полицей-сенатор» Гензель взял все на себя и обещал сейчас же принять необходимые меры.
Отряд баренфельдских добровольцев получил приказ двинуться в город, к ратуше, и восстановить порядок. В полном походном вооружении, в стальных касках, с пулеметными лентами, полными боевых патронов, сто двадцать добровольцев отбыли на грузовиках из баренфельдского лагеря.
III
Но Шенгузен и его присные сильно просчитались; одного лишь появления солдат оказалось недостаточно, чтобы рассеять толпу. Среди тысяч людей, собравшихся на улице, было много таких, которые не один год носили оружие и дрались на всех фронтах под ураганным огнем, нередко и врукопашную. Они не испугались ста двадцати вооруженных буржуйских сынков, эти молодчики даже при полной боевой выкладке не произвели на них ровно никакого впечатления.