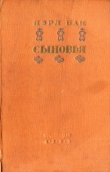Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Вилли Бредель
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
Пришло время обеда. По коридору с грохотом тащили бидоны с супом. Вальтер слышал, как двери камер – едва их открывают, снова защелкиваются на замок. Щелкнул ключ и в замке его камеры. Хартвиг просунул голову:
– Как обстоит дело?
– Объявляю голодовку!
Хартвиг кивнул, точно ничего другого не ждал, и дверь захлопнулась.
Первый и второй день голодания были самыми тяжелыми: время года усугубляло страдания. Начало ноября было дьявольски холодным, и два жалких калорифера почти не давали тепла. Но на третий день Вальтеру уже казалось, что теперь он может неделями голодать.
Кальфактор чистил замок на дверях камеры. Вальтер шепнул в щелку:
– Как там? Бастуют все?
Кальфактор шепотом ответил:
– Почти! Восемьсот с лишним человек! Многие болеют! Смотри не сдавай!
– Будь покоен!
Вальтер слышал, как и в соседней камере кальфактор шептался с заключенными. Рядом сидело четыре товарища.
На третий день голодовки за. Вальтером пришел судебный надзиратель и повел его на допрос: «Слава богу, – подумал Вальтер, – наконец-то мое дело сдвинулось с мертвой точки. Конечно, было бы лучше, если бы я был сейчас физически крепче». Он шел за надзирателем к Центральной и, когда спускался с лестницы, почувствовал легкое головокружение. Но он взял себя в руки и не подал виду.
Следователь, похожий на прусского офицера, только что снявшего мундир, прежде всего спросил, участвует ли Вальтер в голодовке. Вальтер ответил утвердительно.
– А знаете ли вы, во имя чего голодаете?
– О да, – ответил Вальтер, – очень хорошо знаю. В знак протеста против смертного приговора, вынесенного особым составом суда.
Следователь спросил, по какому делу Вальтер находится под следствием? Вальтер сказал, что надеется узнать это от него.
Выяснилось, что следователь вызвал Вальтера не по его делу, а в качестве свидетеля. Пусть расскажет, что произошло в камере между подследственными Грюнертом и Холмсеном.
– Они поспорили!
– И подрались, не так ли?
– Да!
– Кто затеял драку?
– Не знаю. Я читал в это время.
– Так. А может быть, вы скажете, о чем был спор?
– Нет. Я не прислушивался.
– Грюнерт на первом допросе заявил, что Холмсен хотел донести на него. Вам известно, что он хотел донести на Грюнерта?
– Нет!
– О чем Холмсен мог донести на Грюнерта?
– Не знаю я!
– Они ведь познакомились только в камере, верно?
– По-моему, да!
– Ну вот видите! Значит, между ними что-то произошло?
– Не могу вам сказать!
– Гм! А самое странное тут, что и Грюнерт не говорит больше ни о каком доносе, а утверждает, что у них был политический спор!
Молчание.
– О чем же шел этот политический спор?
– Я уже сказал, что не прислушивался. Я в это время читал.
На том допрос и кончился. Вальтера отправили в общую камеру, так как у следователя начался обеденный перерыв.
Он не поверил глазам своим. По камере, взявшись об руку, ходили взад и вперед Холмсен и Грюнерт. Они встретили Вальтера радостными приветствиями. На одном глазу у Холмсена была еще опухоль, на лбу и щеке еще красовались пластыри, но он сиял и улыбался, рассказывая Вальтеру, что они с Эмилем теперь друзья.
– До гроба! – подтвердил Грюнерт. – Я как выйду отсюда, тут же вступлю в его… нет, в вашу… в на-шу партию.
Холмсен спросил у Вальтера:
– Что ему от тебя надо было?
– Все, – ответил Вальтер. – На его беду, я так углубился в свою книгу, что вообще ничего не слышал.
Холмсен улыбнулся. Грюнерт сказал:
– Ты, наверно, даже не заметил, что мы дрались?
– Что? – воскликнул Вальтер, делая большие, удивленные глаза. – Неужели вы дрались?
На их отчаянный хохот в камеру влетел надзиратель и пригрозил тотчас же пожаловаться начальству, если они не будут вести себя прилично.
Наутро пятого дня голодовки начальник тюрьмы известил заключенных, что особый суд, пересмотрев дело Антона Брекера, приговоренного к смертной казни, вынес решение о помиловании с заменой первого приговора пятнадцатью годами заключения в крепость. Начальник тюрьмы призвал всех подследственных прекратить голодовку.
Стали известны подробности голодовки. Восемьсот одиннадцать человек голодали два дня, семьсот шестьдесят четыре человека – три дня, семьсот тридцать шесть человек – четыре дня. Двадцать восемь человек положили в тюремную больницу – им угрожала смерть от голода. Шестерых пришлось искусственно питать.
Общественное мнение было необычайно возбуждено сведениями о голодовке в тюрьме. На многочисленных заводах и фабриках прошли митинги солидарности, перед зданием министерства юстиции, где заседал особый состав суда, безработные устроили демонстрацию. Запрещенная коммунистическая партия выпустила и распространила огромное количество листовок. Часть листовок была подписана и рабочими социал-демократами, протестовавшими против позорной политики вожаков своей партии.
Антон Брекер был спасен. Особый суд не посмел привести в исполнение смертный приговор над одним из вождей революционных рабочих. Рабочие Гамбурга показали, что́ может сделать солидарность даже после поражения. Самые беззащитные люди, заключенные, послужили тому примером, они принесли величайшую жертву на алтарь солидарности.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
I
ЛЕНИН УМЕР…
Вальтер Брентен, сидя в углу своей камеры у калорифера, уткнулся лицом в железо. Плоские трубы, чуть теплые, только тогда немного грели, если плотно к ним прижаться. Очень холодным был этот январь и неспокойным. Злые вихревые ветры день и ночь штурмовали тюремные стены, и холод проникал сквозь камень.
Камера Вальтера находилась на верхнем этаже, непосредственно под крышей. Из своего зарешеченного окна Вальтер видел аллеи парка; но зимой заключенные боялись камер на пятом этаже. Пока отопительный пар доходил до верхних этажей, он утрачивал свою греющую силу.
Открывая дверь камеры, кальфактор сказал безучастно, деловито, пожалуй даже равнодушно:
– Новость знаешь? Ленин умер!
– Что-о? – В руке у Вальтера задрожала кружка, в которую кальфактор наливал кофейную бурду.
– Да-да, в газетах сегодня есть.
Вальтер слышал, как кальфактор то же самое сказал заключенному, сидящему в соседней камере. Пеммеринг, дежурный надзиратель, велел сообщить эту весть всем, заключенным, хотя вообще строжайше следил за тем, чтобы при раздаче пищи между кальфакторами и заключенными не было никаких разговоров.
Соскользнув на пол, Вальтер прижался лицом к остывшему калориферу. На столе, из кружки с горячим цикорным питьем, поднимались тоненькие облачка пара. Ленин… умер… Вальтер невидящими глазами-обвел камеру, мысли его беспорядочно метались, бессвязные обрывки мыслей… На ум ему пришли Эрнст Тимм и, непонятно почему, – Кат. Вспомнилось празднование Октябрьской революции; какой-то молодой ученый выступал перед студентами с докладом о Ленине. Большой транспарант с портретом Ленина… Теперь, когда Ленина не стало, Вальтер подумал, что, в сущности, не знает его лица. Много есть портретов Ленина, но на одних он с бородкой клинышком, на других – безбородый, на одних – у него небольшие миндалевидные глаза, почти монгольские, всевидящие, умные, на других – темные, блестящие, в них раздумье и мудрая ирония… Это был великий человек. Вальтер вспомнил слова Эрнста Тимма, сказанные им однажды: в Октябре семнадцатого года русский рабочий класс вдохнул жизнь в Коммунистический Манифест, научное произведение стало живой действительностью… Это было делом Ленина. Его делом – прежде всего. Он войдет в историю как человек, который осуществил и развил идеи Маркса. Он первый привел рабочий класс к победе, он первый открыл ему путь в новый мир, мир социализма. Ученый и революционер, подобно Марксу, Ленин продолжил его учение, он стал основателем и строителем социалистического государства. Имя его будет жить в веках, тысячелетиях…
Вальтер сидел в углу камеры, погруженный в свои мысли. Он старался вспомнить, когда впервые услышал о Ленине…
Вероятно, вскоре после победы рабочего класса в России. После октябрьских дней семнадцатого года. Грозный клич русского Октября никакими силами нельзя было заглушить, властно проник он и в потрясенную войной Германию. Как же это было? – напрягал свою память Вальтер. – Я повредил себе руку и был счастлив, что могу читать и заниматься… Когда рука зажила и я пришел на завод, мне все показалось каким-то иным. Революция в России, о которой столько спорили, которую многие отвергали, наперекор всему вселяла в людей новые надежды, новым мужеством наполняла усталые разбитые сердца уже безучастных ко всему, равнодушных, тех, кто отошел в сторону. Старый токарь Нерлих все свои вновь затеплившиеся надежды возлагал на русских. Он давал это понять, не отваживаясь сказать прямо. А Гюбнер, справедливый честный токарь Гюбнер, с русской революцией так воспрял духом, что преодолел страх и стал в ряды революционных борцов; Гюбнер первый рассказал нам, заводским ученикам, о Ленине, рассказал так честно и доходчиво, что мы все поняли. Не то что этот ханжа Францен… Но даже Петер Кагельман был сначала против Ленина и русской революции. Говорил, что революция это внутренняя война, а он, дескать, противник всякой войны… Он примкнул к революционному движению лишь под влиянием личных мотивов. Да, Петер Кагельман – чистейший индивидуалист и поэтому только попутчик, хотя он без конца твердил о солидарности и товариществе, воспевал их в стихах и заявлял, что он социалист…
Да, от Гюбнера я впервые услышал о Ленине, позднее о нем шире и глубже рассказывал доктор Эйперт. Гюбнер… Вальтеру казалось, что он видит перед собой лицо этого токаря. Оно совершенно преображалось, когда он говорил о Ленина… А Гюбнер боялся говорить о Ленине, отчаянно боялся. Но когда в январе он призывал рабочих завода объявить забастовку в знак солидарности с бастующими берлинскими металлургами, он уж начисто изжил свой страх. Когда его, арестованного прямо в цеху, уводили, он улыбнулся нам, ученикам, на прощанье и помахал рукой; в те минуты Гюбнер не сомневался, Что в скором времени и в Германии рабочий класс победит…
Надзиратель Хартвиг, сменивший Пеммеринга, вошел в камеру Вальтера.
Вальтер, сидевший скорчившись у калорифера, из протеста не тронулся с места и яростно крикнул:
– Собачий холод! Промерз до костей!
– Думаешь, у меня теплее? – сердито ответил Хартвиг. – Ну, ладно, постараюсь принести тебе на ночь второе одеяло. Гм!.. Вот, возьми прочитай! – Он протянул Вальтеру газету «Гамбургер нахрихтен». На первой полосе, во всю ее ширину, жирным шрифтом было напечатано:
«Преступник Ленин умер наконец!»
Вальтер поднял глаза на Хартвига:
– Радуетесь небось, а?
– Считаю позором, что эта бисмарковская газетенка посмела напечатать такое. – Надзиратель, казалось, был искренне возмущен.
– Ваша хваленая демократия! – сказал Вальтер. – Вы ведь помогаете этим гадам! Не в последнюю очередь тем, что держите за решеткой нас, коммунистов.
– Не сомневался, что ты мне так скажешь. Что бы ни случилось, виноваты, конечно, мы, социал-демократы… Оставить тебе газету?
– Нет, нет! Заберите этот гнусный листок! Вот, если бы вы принесли нелегальную – «Фольксцайтунг»! Но, пожалуй, от государственного чиновника такого демократического режима нельзя столь многого требовать? Не правда ли?
Хартвиг ушел.
Вальтер все сидел на полу, привалившись к калориферу… Как ненавидит Ленина крупная буржуазия! У капиталистов на это все основания. Ленин безжалостно разрушил мир, в котором они жили за счет чужого труда. Власть взял в руки трудящийся люд. Ленин доказал, что мечта об обществе, где нет эксплуатации человека человеком, может быть осуществлена. Это сделал он – ЛЕНИН.
Несколько дней спустя – Вальтер лежал в гриппе на своих нарах – Хартвиг принес небольшую, напечатанную мелким шрифтом, «Фольксцайтунг». Он сунул ее Вальтеру под подушку.
– Думаю, что тебе будет интересно. Но смотри, чтобы никто не нашел ее у тебя. Она, как тебе известно, запрещена.
– Спасибо!
– Кстати… Гм!.. Вот что я хотел тебе сказать… – Хартвиг подошел к двери, высунул голову и посмотрел по сторонам. Хотя в коридоре никого не было, он заговорил шепотом: – Прошлой ночью в «Гамбургер нахрихтен» выбили все стекла.
– Замечательно! – обрадованно воскликнул Вальтер. – А людей этих поймали?
– Ни единого. – Надзиратель Хартвиг подмигнул и с довольным видом покинул камеру.
«Все-таки порядочный малый», – подумал Вальтер. Когда главный врач тюремной больницы заявил, что больница переполнена и что только в случае тяжелого заболевания можно поместить еще кого-нибудь, Хартвиг сказал Вальтеру в утешение:
– Радуйся, что можешь здесь остаться. Тут тебе будет лучше. Если тебе что понадобится, ты здесь скорее этого добьешься, чем в больнице.
II
Уже близилась весна, когда Вальтер получил обвинительный акт. «Дело Вальтера Брентена и его товарищей».
Обвинительный акт означал, что вскоре состоится суд и будет положен конец мучительной неопределенности.
Одновременно с Вальтером обвинялись – Эвальд Холлер и Артур Витт. Артур Витт?.. Вероятно, тот самый, что состоял когда-то в организации «Социалистическая рабочая молодежь», подумал Вальтер.
Как хотелось властям узнать, кто же руководил нелегальной агитацией среди полицейских! Пять раз следователь допрашивал Вальтера. И все время возвращался к одному и тому же вопросу:
– По чьему заданию вы работали? Кто вами руководил?
Его товарищей, без сомнения, допрашивали о не меньшей настойчивостью. Но те ничего не могли бы сказать, даже если бы и хотели. Они получали задания от Вальтера, знали только его, и никого больше.
И вот наконец обвинительный акт перед ним. Довольно объемистое произведение… И Вальтер стал читать. Что же вменяется ему в вину?..
Листовки и агитационные брошюры, которые распространялись по полицейским участкам, найдены были в большом количестве на квартире полицейского надзирателя Эвальда Холлера. На вопрос, откуда у него эта литература, он упорно отказывался отвечать. – Очень хорошо! – Установлено, однако, что обвиняемый Эвальд Холлер, точно так же как и обвиняемый полицейский надзиратель Артур Витт, принадлежал к подпольному кружку, существовавшему внутри организации профессионального союза полицейских служащих. Оба обвиняемых и по этому поводу отказались давать какие-либо показания. – Превосходно! – Установлено, что непосредственно руководил ими обвиняемый Вальтер Брентен. – Гм! Теперь все ясно! – В его адрес кем-то регулярно посылалась литература, которую затем распространяли среди служащих полиции. – Тьфу, дьявол, значит, и это им известно! – Обвиняемый Вальтер Брентен не служит в полиции. – Я думаю! Только этого не хватало! – Ввиду нарушения обвиняемыми параграфа закона… – Ну, это уже скучно!
Свидетели обвинения – Внимание! Внимание! – полицейский надзиратель Альфонс Тиде, старший надзиратель Вилли Кравинский, начальник полицейского участка Отто Биндинг, комиссар уголовной полиции…
Вальтер побелел, как стена его камеры. Бледный, похолодевший, сидел он на табурете и смотрел на это имя…
Комиссар уголовной полиции Гейнц Отто Венер…
Значит, и он… А может быть, он-то все и выследил, и раскрыл, и обстряпал дело, а затем передал его в суд?
А Рут… Она знает?
III
Рут знала. В тот вечер, когда Вальтеру вручили обвинительный акт и он лежал на своих нарах, неподвижно глядя в грязный, выбеленный известкой потолок, уголовный комиссар Гейнц Отто Венер, в слегка подвыпившем состоянии, подошел к кровати своей жены и с насмешливой улыбкой взглянул ей в лицо. Она мельком посмотрела на него и повернулась спиной. Но, услышав его хихиканье, сразу приподнялась.
Он стоял и ухмылялся.
Его лицо, уже не худощавое, а полное, хотя и совсем еще молодое, без единой морщинки, сияло торжеством.
– Что случалось? Чему ты смеешься?
Он не ответил, не двинулся с места и все ухмылялся.
– Ляг наконец! – сказала она с раздражением и опустилась на подушки.
– Он за решеткой. И он знает все.
– Кто он? – спросила Рут.
– Твой давнишний дружок, преобразователь мира и друг человечества.
Она молча села, в упор глядя на мужа.
– Так, значит, он в тюрьме? Тебе счастье привалило? Это твоя заслуга?
– Угадала! – воскликнул Гейнц Отто. – Малец собирался вести подрывную работу среди нас. Среди нас! Надо же! Какая наглость!
– Среди нас? Это среди кого же?
– В полиции! Ты только представь себе – вести коммунистическую пропаганду среди полицейских! Когда социал-демократов и тех мы еле-еле терпим!
– Это карается?
– Ты шутишь! – воскликнул он, смеясь. – Прямая государственная измена! Это пахнет каторжной тюрьмой. В каторжную тюрьму отправится он, мечтатель, бросающий бомбы.
– Он бросал бомбы?
– Листовки – те же бомбы! Так все и начинается.
– Ляг же наконец!
Глядя, как он снимает сорочку, она вдруг все поняла. Только теперь до нее дошло то, что она услышала. Вальтер арестован. Его отправят в каторжную тюрьму! На всю жизнь на нем останется клеймо каторжника! И этому содействовал Гейнц, ее муж… Рехнулся Вальтер, что ли? Вести среди полицейских коммунистическую пропаганду!
Венер погасил свет и обнял жену.
– Не надо!
– Что с тобой? – Он притянул ее к себе.
– Не надо, Гейнц! Мне нездоровится!
– Ну что ж! Пожалуйста!
IV
Утром, когда Венер проснулся, он не увидел жены рядом. Она давно встала, сделала все, что требовалось в ее маленьком хозяйстве, – покормила кур и выпустила их из курятника, бросила кроликам зеленого корма и широко раскрыла окна.
Мягкое апрельское утро несло в себе дыхание весны. На безоблачном небе сияло по-майски теплое солнце. Все зеленело, на деревьях и кустах раскрывались первые почки, и птицы шумным щебетом приветствовали наступление нового дня.
Утренние часы Рут любила больше всего. Небольшой загородный домик в Зазеле, поселке хотя и расположенном под самым Гамбургом, но не знавшем суеты и шума большого города, был ее маленьким царством. Она любила свою белую, выложенную кафелем кухоньку, свои маленькие комнаты, своих птиц и животных, свой сад с цветочными клумбами и фруктовыми деревьями.
Но сегодня она была рассеянна и задумчива. Давно ли ходили они, взявшись за руки, по берегу Эльбы, по пустоши?.. Давно ли он в пламенных словах рассказывал ей о «трех Томасах», об этих мучениках, принявших мученичество во имя лучшего, более справедливого миропорядка?
А теперь он сидит в тюремной камере, ему грозит каторжная тюрьма, ему, который, как никто, любит природу, волю! И ее муж приложил руку к тому, чтобы бросить его за решетку… Возможно, Вальтер это знает. Знает и то, что ей тоже все известно…
Венер вошел в кухню, умытый и причесанный, и, по обыкновению, поцеловав ее, пожелал доброго утра. Он взял жену обеими руками за плечи и долго всматривался в ее лицо.
– Хорошо ты выглядишь, право, прекрасно! – Потом, еще с минуту молча поглядев на нее, прибавил: – Только бледна! Правда, бледность тебе, идет!
Она отошла к плите. Вскипятила кофе.
– Ты, кажется, состоишь в Националистическом союзе полицейских служащих, Гейнц, не правда ли?
Он поднял глаза:
– Да! А что?
– Вы ведь против республики?
– Само собой!
– А это не карается законом?
– Не понимаю тебя!
– Это разве не государственная измена?
– Ах во-от оно что! Вот куда ты гнешь! Мы националисты, слава богу! А националистические убеждения ни при каких условиях не означают государственной измены, голубка моя!
– Но вы-то против республики?
– По своим националистическим убеждениям – против!
– Все равно! Он тоже против республики!
– По преступным мотивам.
– Неправда! Вздор это! – Она испугалась своих слов и своей горячности.
Он удивленно, больше того – с досадой взглянул на нее.
– Ты все еще защищаешь его? Очень интересно!
– Ты совсем не знаешь его, Гейнц! – сказала она мягче. – Я отнюдь не защищаю его. И что тут защищать? Он не преступник – в этом я уверена. Кто утверждает противное, тот лжет!
– Выслушай меня! – спокойно, наставительным тоном сказал Венер. – Кто он – дурак или преступник, безразлично; мировоззрение, которое он отстаивает, преступно!
– Не верю!
– Но это так! Я советовал бы тебе этих вещей не касаться…
Разговор, казалось, был окончен. Гейнц Отто Венер молча пил свой кофе. Когда он собрался уходить, Рут спросила:
– Ты будешь против него выступать на суде?
– Возможно!
– В таком случае я вызовусь свидетельницей в суд.
– Ты с ума сошла, – крикнул он. – О чем ты собираешься свидетельствовать?
– Что он не преступник, а порядочный человек!
– Сумасшедшая бабенка! – Он с силой захлопнул за собой дверь.
V
Утром, во время раздачи кофе, надзиратель Хартвиг многозначительно сказал:
– Ну вот, скоро повеет другим ветром.
– Да? – спокойно протянул Вальтер. Но он видел, что у Хартвига что-то на уме. – Надо надеяться, что этот ветер хоть немного освежит атмосферу!
– Еще как освежит, – живо продолжал Хартвиг. – Социал-демократы вспомнили, что власть в их руках, и подтянули вожжи!
Вальтер громко расхохотался. Надзиратель удивленно уставился на него. Он, очевидно, не мог представить себе, чем вызван этот взрыв веселости.
– Ты что, не веришь мне? – прошипел он с досадой и замкнул дверь.
Вальтер слышал, как, удаляясь, он раздраженно ворчал, пока длинный коридор не поглотил все звуки.
«Хорошо ли, что я так расхохотался? – думал Вальтер. – Хартвиг, несомненно, так и не понял, почему я смеюсь. «Социал-демократы вспомнили, что власть в их руках!» Ну кто, после всего, что случилось, может не расхохотаться, услышав такую фразу? И все же Эрнст Тельман не раз призывал, – Вальтер очень хорошо это помнил, – в политических разговорах с социал-демократами проявлять терпение, терпение и еще раз терпение. Но все имеет свои границы. Этот самый Хартвиг, когда на улицах шли бои и еще никто не знал, чем все кончится, вел себя как тайный сторонник коммунистов. Говорил о классовой борьбе, классовой солидарности. Все время подчеркивал, что и он социалист, человек не вчерашнего дня, человек, у которого есть прошлое. Но как только отзвучал последний выстрел, как только оказалось, что рабочие не победили, Хартвиг мгновенно вспомнил о том, что он тюремщик и что в старости это даст ему пенсию. Проявлять терпение? По отношению к кому? К этакому политическому флюгеру?..»
Но какой-то внутренний голос нашептывал Вальтеру: что пользы от того, что обидишь человека? Досадишь ему и оттолкнешь? Умный коммунист, который хочет привлечь человека на свою сторону, ведет себя иначе; сознавая, что он носитель не только самого светлого, но и самого передового мировоззрения, он чувствует себя просвещенней своего собеседника и настойчиво, терпеливо, стараясь не задевать больных мест, показывает ему, где правильный путь…
«А ну тебя к лешему! – отмахнулся Вальтер от нашептывающего голоса. – Что мы – больничные сиделки или сестры милосердия? Или прикажешь подставить правую щеку, когда тебя ударяют в левую? А чего стоит его тыканье? С какой стати этот тюремный холуй тыкает мне? Надо положить этому конец, и немедленно. Разыгрывает из себя отца родного, а держится, как темная деревенщина…
Не хватил ли ты опять через край? Ведь известно, что не все способны видеть политические взаимосвязи. Можно ли сказать, что Хартвиг в самом деле образец глупости и беспринципности? Не рядовой ли это экземпляр примитивного немецкого филистера? И не остаются ли они по-прежнему в большинстве? Хартвиг колебался, пока шла борьба. Это лучше, чем если бы он сразу взял сторону врагов. Колеблющихся надо привлекать на свою сторону, как бы ни тянуло их в обывательское болото. Коммунист должен бороться за каждого человека, завоевывать его…
Но ведь Хартвиг колеблется только потому, что дрожит за свое место и за свою пенсию. Он ничем не хочет рисковать, он хочет только пожинать лавры; не бороться, но в случае победы урвать и себе долю благ…»
Меряя шагами камеру от стены к стене, Вальтер услышал щелканье ключа. С раздвоенным чувством взглянул он на Хартвига. Размахивая правой рукой, тот выкрикнул:
– Ничего мне так не хочется, как отхлестать тебя по щекам! Молокосос!
– Очень хорошо. Еще совсем недавно ты называл себя братом по классу.
– Скажи еще – по тюремной похлебке! – насмешливо бросил Хартвиг и скрипуче засмеялся.
– И это было бы верно: я-то отсюда выйду когда-нибудь, а ты обречен век свой вековать здесь.
– Я хотел тебе новости сообщить, а ты дерзишь, грубиян!
– Новости? Какие новости?
– Ага! Ты все-таки любопытен. Как новости, так я уже хорош?
Хартвиг подошел к двери, выглянул в коридор. Потом повернулся к Вальтеру, который шел за ним.
– Ну так слушай! В мае выборы в рейхстаг. Чрезвычайное положение снято, коммунистическая партия вновь разрешена.
– Замечательно! Значит, скоро повеет другим ветром.
– Дурень! Совсем это не так, как ты думаешь. Социал-демократы и профессиональные союзы создали боевую организацию, «Рейхсбаннер» – «Черно-красно-золотое знамя». Это ударная армия республики. Республика вооружает рабочих. Где-то готовят нам удар в спину.
В первое мгновение Вальтер был всерьез ошеломлен. Социал-демократы и профсоюзы вооружают рабочих? На защиту республики?.. Но тотчас же у него возникли сомнения. Возможно ли, чтобы социал-демократы вооружали рабочих, пусть даже своих сторонников? Ведь даже в том случае, если бы лидеры и хотели этого, буржуазия никогда не допустит такого шага. Да и так называемый аполитичный рейхсвер не примирится с ним. Это же вопрос власти… Чем больше Вальтер размышлял, тем невероятнее представлялось ему все, что сообщил Хартвиг. Он пристально посмотрел в лицо надзирателю. Нет, Хартвиг не лжет и не разыгрывает его; он говорит вполне серьезно и искренне обрадован.
– Ты преувеличиваешь! Бесспорно, преувеличиваешь!
– И как только тебе приходит в голову такое? – возмутился Хартвиг.
– Да, уверен, что ты преувеличиваешь. Чего-то ты здесь не понял. Этого не может быть.
– И как только тебе приходит в голову тыкать мне?
– Ты что, только сейчас заметил? Ты же начал!
– Я запрещаю тебе тыкать, слышишь?
– А я не возражаю против того, чтобы мы были на «ты».
– Но зато я возражаю! – крикнул Хартвиг, багровея.
– Зачем же так волноваться?
– Вы… Вы… Только осмельтесь мне еще раз!..
– Как вам угодно, господин надзиратель!
Надзиратель Хартвиг молча выскочил из камеры и громко щелкнул ключом. Но за дверью он остановился, тут же отодвинул засов, чуть приоткрыл дверь и просунул в камеру свою квадратную голову.
– Только смотри в присутствии третьих лиц не вздумай говорить мне «ты»! Понял?
– Такой неприятности я никогда бы тебе не причинил, – улыбаясь, сказал Вальтер.
– Ну, в таком случае, ладно!
На апрель, то есть через семь месяцев после ареста и спустя почти два месяца после вручения обвинительного акта, назначено было судебное разбирательство.
Вальтера все же охватило сильное волнение. Ночью он не сомкнул глаз. Обдумывал свою защитительную речь и мысленно произносил ее. Разумеется, острием своим она обернется против обвинителей. Он направит огонь против реакции, и милитаризма, этих могильщиков немецкого народа в прошлом и настоящем.
По мере приближения суда Вальтер успокаивался. Он хорошо продумал все, что хотел сказать. Единственное, что его беспокоило, это мысль, что суд может состояться без представителей общественности. А ему хотелось, чтобы общественность была широко представлена. Его будущая речь адресована, главным образом, к ней. Но он обвиняется в подрывной деятельности среди полицейских, а такого рода дела слушаются обычно при закрытых дверях. И Вальтер спрашивал себя, стоит ли перед судьями и прокурором, этими наемниками классового суда, произнести политическую речь и бросить им в лицо обвинение? Хартвиг считает, что нет никакого смысла. Он советует играть в наивность, прикинуться дурачком. Но такое поведение на суде противоречило убеждениям Вальтера. Коммунисты, сказал он Хартвигу, защищают свое мировоззрение во всех случаях жизни, а перед барьером классового суда в особенности.
– В таком случае, клади голову на плаху! – раздраженно воскликнул надзиратель. – Вы, коммунисты, все сумасшедшие. Вас ни лаской, ни таской не убедишь.
За день до суда Вальтера вызвали в Центральную, а оттуда отправили к почтовому экспедитору. Ему вручили маленькую посылку.
– Тут ни еды, ни курева, только книжка какая-то, – сказал кальфактор, ведавший раздачей почтовых отправлений.
– Превосходно! – сказал Вальтер. – Это лучше, чем еда или табак.
В камере он открыл посылку… «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке». Он погладил золотисто-желтый томик, взял страничку чудесной тонкой бумаги большим и указательным пальцами, перевернул ее, потом слегка полистал книгу, всматриваясь в строчки, вернулся к титульному листу и обнаружил незаметно вписанное приветствие: «В час добрый! Эрнст».
От Эрнста Тимма. Накануне суда. Какая теплая поддержка!
Вальтер положил книгу на нестроганый стол. Словно красивая, драгоценная безделушка, лежала она там. Он ходил по камере из угла в угол, не отрывая глаз от нее. Отныне он не один, с ним его лучший друг, множество хороших и мужественных друзей, целый народ, храбро и бесстрашно борющийся за свою свободу и независимость.
Торжественно было на душе у Вальтера, когда он опустился на табурет, открыл книгу и начал громко читать:
«Во Фландрии, в городке Дамме, когда майская луна раскрыла на белом боярышнике его цветы, родился Уленшпигель, сын Клааса…»
VI
Обстановка суда оказалась совсем не такой, какой ее представлял себе Вальтер.
По предложению прокурора «в целях государственной безопасности» дело слушалось при закрытых дверях. Огромный зал суда был почти пуст. За судейским столом – председатель суда и двое заседателей, затем – писарь и прокурор. На скамье подсудимых – трое обвиняемых, за спинами у них двое полицейских. Места для публики и для прессы пустовали.
Обвиняемые отказались давать показания. Они ничего не отрицали, но и не оправдывались. Артур Витт заявил, что он – социалист и будет всегда, при любых обстоятельствах – если нельзя легально, то нелегально – следовать своим политическим убеждениям.
Председатель суда, уже немолодой человек, очень холеный, очень спокойный, чуть ли не отеческим тоном задававший вопросы, изо всех сил старался вызвать обвиняемых на признания. Он отказался от своего намерения, лишь когда Вальтер заявил, что он – коммунист и не считает себя ответственным перед этим судом.
Никто из свидетелей обвинения не был вызван. В том числе и Гейнц Отто Венер.
Председатель шепотом посовещался с заседателем справа, с-заседателем слева и предоставил слово прокурору.
Прокурор сказал, что упорное молчание всех подсудимых следует рассматривать как доказательство их вины, и заявил, что долг суда – покарать их за убеждения, отягченные преступными действиями. Он требовал двухгодичного тюремного заключения для каждого из обвиняемых.
Суд удалился на совещание, но уже через несколько минут снова занял свои места за судейским столом.