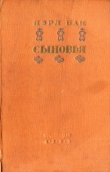Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Вилли Бредель
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)
В десять утра, в так называемый «час свободы», заключенных выводили на пятнадцатиминутную прогулку. Молча, на большом расстоянии друг от друга, шагали они по кругу, и молодые, и люди постарше, и дряхлые старики. Одни шли, подавшись корпусом вперед, волоча ноги; другие ступали твердо, с чувством собственного достоинства, быстрым взглядом словно ощупывая тюремные окна.
Двор, сплошь замощенный булыжником, со всех сторон окруженный высокой потемневшей от времени кирпичной оградой, едва ли многим отличался от тюремной камеры. Ни намека на какую-нибудь зелень, ни травинки, ни цветочка. Залетит воробушек или зяблик в этот обнесенный каменной стеной двор, и тогда случалось, что заключенные вдруг остановятся в своем кружении по кругу и смотрят на вольное и беспечное создание. Но не часто залетали птахи в это голое каменное ущелье.
После прогулки заключенные считали минуты в ожидании обеда. В двенадцать – секунда в секунду – раздавался долгожданный стук, лязг и звон бидонов и котелков. Надзиратели орали. Кальфакторы, тяжело дыша, тащили бидоны с супом от камеры к камере. Опять слышал Вальтер высокий певучий голос Францля, венского карманного вора. Слова его приветствий были неизменны, как неизменен распорядок тюремной жизни.
– Жел-лаю при-ят-ного ап-петита!
Однажды кто-то из заключенных не выдержал и крикнул:
– Заткни глотку, чучело!
Францль снисходительно улыбнулся и невозмутимо продолжал свое – желал приятного аппетита каждому в отдельности.
Послеобеденные часы тянулись мучительно долго. Кальфактор Францль мыл лестницу и натирал полы в коридорах, начищал замки на дверях. Иногда кто-нибудь шепотом спрашивал или просил его о чем-либо, но он никогда никому не отвечал: этот бледный ве́нец был необычайно боязлив и очень дорожил благосклонностью начальства.
В девять вечера, хотя стояло лето, раздавалась команда – спать. На улице еще светло, как днем, солнце только что село. С Хольстенплац доносится не только тарахтение трамваев и автомобильные гудки, но и смех гуляющих девушек. На кладбище, расположенном напротив, старики и старухи совершают в этот час свою вечернюю прогулку. На улице мальчишки еще играют в футбол. И никто из них не оглянется на обнесенное высокой каменной оградой красное кирпичное здание со множеством зарешеченных окон.
V
Заключение человека под замок казалось Вальтеру одним из самых дьявольских измышлений человеческого ума. В первые дни им владела жестокая скованность, временами сменяемая приступами бешенства, а сейчас, после многомесячного тюремного заключения, он, от постоянного чувства бессилия и отчаянья, впал в состояние какой-то оглушенности. Бывали дни, когда он за чтением хорошей книги забывал все на свете. Но это случалось редко; в субботу вечером, когда выдавались книги, получить что-либо стоящее было так же трудно, как вытянуть в лотерею счастливый билет. Если бы Францль не страдал такой боязливостью, он мог бы приносить книги, которые Вальтер просил. А так все зависело от случая. В тюрьме Вальтер научился презирать таких писателей, как Вольцоген, Цобельтитц и их еще более жалких подражателей. Но какой бывал праздник, когда Францль приносил ему Брет-Гарта или Вальтера Скотта; даже Шпильгаген – и тот уже был счастьем.
Без устали, лихорадочно работала фантазия Вальтера. В долгой нескончаемой тюремной тишине он вновь и вновь переживал пережитое. Незабываемо прекрасное вставало в воспоминании еще более прекрасным: мучительное – еще более мучительным. Он стоял, привалившись к стене камеры, и грезил с открытыми глазами. Вот он и Грета, взявшись за руки, несутся по Юнгфернштигу, вот он прощается с Ауди, спорит и мирится с Петером. А вот он в кругу бурманцев, сидит в саду на крыше какого-то консульства, и ему бесконечно хорошо. И – Рут. Стоило ему подумать о Рут, и, какие бы жестокие слова он ни бросал ей, его охватывала глубокая печаль, а порою – ярость и отчаянье. А когда на ум приходила Кат, его бросало в жар. Надо же было случиться такому! Рядом с Кат он чувствовал себя маленьким и слабым. Сознание вины угнетало его и, казалось, что ни день, становилось все острее. Кат, с ее чувством собственного достоинства, с ее самостоятельностью, обнаружила больше душевной широты и мужества, чем он. Вальтер говорил себе, что он узник, обреченный на бессилие. Но тайный голос нашептывал, что он узник затхлой морали своих тетушек и дядюшек; болото, в котором погрязли его милейшие родные и знакомые, отравило и его душу. И он давал себе слово: как только его выпустят из тюрьмы, он искупит свою вину перед Кат, никогда он Кат не оставит, он возьмет на себя все ее заботы и тяготы. Но тут же сомнения вновь начинали терзать его, и он, словно в горячке, метался по камере беспомощный, колеблющийся, отчаявшийся. В такие минуты Вальтер чувствовал себя всеми забытым и самым одиноким, самым несчастным человеком на земле. Ах, если бы он мог поговорить с Отто Бурманом или Гансом Шлихтом! А что сказал бы Эрнст Тимм? Вот кого не хватает Вальтеру! Совет Тимма все поставил бы на свое место. Где вы – благие намерения стать другим? Где ты – воля к совершенствованию?
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
I
Пришла осень. Из окна своей камеры Вальтер смотрел на верхушки деревьев старого кладбища. Когда осеннее солнце освещало их, листва поблескивала золотом и изумрудом. Со многих деревьев ветер, однако, уже настолько успел сорвать листья, что сквозь оголенные ветви можно было увидеть поросшие мхом могильные камни.
Однажды под вечер в камеру Вальтера вошел надзиратель Хартвиг. В неурочное время он редко приходил, а уж без определенного дела – никогда не появлялся. Вальтер подумал, что наконец-то есть обвинительный акт. Наконец – что-то определенное.
Но, кроме связки ключей, в руках у Хартвига ничего не было. Вальтер выжидательно смотрел на него. Хартвиг тоже называл себя социалистом… Тюремщик, наемник господствующей буржуазии – социалист?! Вальтер не раз говорил с ним об этом, точнее – спорил. Без всяких околичностей сказал ему, что трудно себе представить более жалкого социалиста, и спросил, не стыдно ли ему, социалисту, быть тюремщиком других социалистов по поручению их общего классового врага? Хартвиг без всякой иронии, а даже с раздражением ответил, что в капиталистической стране его работа заслуживает не меньшего уважения, чем любая другая, например работа чиновника по сбору налогов или пожарного. Почему каменщики, строившие эту тюрьму, не тюремщики или рабы капитала, а он, который несет свою службу здесь, раб капитала?
Сегодня Хартвиг припас что-то особое, Вальтер видел это по его поведению. Раньше, чем войти в камеру, Хартвиг еще раз выглянул в коридор, посмотрел вправо, влево… Потом легонько закрыл дверь, подошел к Вальтеру и тихо сказал:
– Что-то творится, парень. Инфляция свирепствует все больше и больше. Кризис на носу. Начнется, видно, в Саксонии. Там социалисты объединились с коммунистами и образовали правительство… Тш…
Он на цыпочках, неслышно подошел к двери, высунул голову и, опять прикрыв дверь, так же неслышно вернулся.
– В Саксонии вооружаются. И у нас здесь чувствуется брожение. Похоже на то, что разразится новая революция. Тебе, конечно, это интересно? Если они придут сюда, как в восемнадцатом, я тебя выпущу первым.
Вальтер был убежден, что Хартвиг опять по-дурацки его разыгрывает. Но потом он все же понял, что сегодня Хартвигу не до шуток. Брожение? Обе рабочие партии в Саксонии объединились? Рабочие вооружаются? Неужели социалистическая революция все-таки грянет? Кровь прилила к лицу Вальтера. От радости он готов был броситься надзирателю на шею. Но от какой-то доли недоверчивости он все-таки не мог освободиться.
– Это правда?.. В самом деле?
Хартвиг вытащил из брючного кармана газету.
– Читай! Через час я зайду. Но смотри никому ни звука! В окно не кричать, и вообще!
– Да что вы! Спасибо!
Хартвиг ушел. Вальтер прислушивался к его удаляющимся шагам. Потом развернул «Гамбургер фремденблат». Через всю первую полосу крупным жирным шрифтом было напечатано: «Политические стачки по всей стране!»
Так и есть! Так и есть!
Несколько месяцев Вальтер не держал в руках газеты. То, что удавалось услышать во время утреннего хождения по кругу, было настолько путанно, что составить себе сколько-нибудь цельную картину было невозможно. Политические стачки по всей стране! А ведь были глупцы, которые считали, что немецкие рабочие уже не способны на большие дела!
Вальтер буквально глотал газетные строчки. Нет, Хартвиг ничего не преувеличил… Сформированы правительства из рабочих в Саксонии, в Тюрингии. Забастовки в Штутгарте, Касселе, Галле, в Рурской области. Стачечные настроения в Берлине. Вооруженные пролетарские отряды. Конференции оппозиционных заводских комитетов… Доктор Кар – генеральный прокурор Баварии. Войска рейхсвера, расположенные в Баварии, присягают на верность только Баварии. Доктор Кар отменяет в Баварии закон о защите республики. Некий Гитлер призывает к «походу на Берлин». Курс доллара – двенадцать миллиардов. Один доллар равен двенадцати миллиардам марок! «Боже мой, да ведь это форменное безумие!» – думает Вальтер. Судостроительные рабочие верфи «Блом и Фосс» вновь вынесли решение бастовать. Столкновение рабочих с полицией в гамбургском порту. Один убитый, семь человек ранено. Сенат объявил осадное положение. За один сегодняшний день в Гамбурге произошло девять самоубийств…
Вальтеру хотелось без конца читать сообщения из Саксонии и Тюрингии. Вооруженные отряды рабочих. Правительство составлено из социал-демократов и коммунистов. Народные кухни в Саксонии. Особые налоги на предпринимателей. Заводские комитеты взяли на себя экономический контроль. Красный террор в промышленных областях Саксонии…
Красный террор!
Разумеется, когда рабочие поднимают голос, это уже называется «красный террор».
На волю! Бороться вместе со всеми! Хартвиг сдержит слово и выпустит его первым. Вальтер в этом уверен.
Но он еще не все прочел. Объявления ведь тоже очень показательны. Можно кое-что уловить и между строк. А потом – он еще раз прочтет сообщения из Саксонии и Тюрингии. Какие вести!..
II
Одно событие обгоняло другое. Но Вальтеру, горевшему от нетерпения, казалось, что с места ничего не трогается.
Интересно, давал ли Хартвиг газету и другим заключенным? Когда шли по кругу, из уст в уста передавались слухи, говорили, что страна накануне новой революции. Повсюду вспыхивают стачки. В Баварии вооружается реакция, в Саксонии вооружается революция…
Все заключенные ждали, что революция их освободит, даже тот худой человек с шаркающей походкой, который сидел за ограбление банка. Ведь он покусился на банковский капитал, а не на добро рабочих, говорил он. И кальфактор Францль надеялся, что революционные рабочие его освободят. Францль уверял всех, кто в том сомневался, что революционеры великодушны, он точно знает. Они посадят за решетку подлинных преступников, а такую мелкую сошку, как бедные карманники, выпустят на волю.
Теперь на прогулках не только разговаривали, не прячась, но даже спорили, и надзиратели никого не останавливали. Как-то один из заключенных, когда истекло время прогулки, крикнул надзирателю, чтобы тот прибавил еще десять минут, и тут произошло невероятное – им разрешили на десять минут продлить прогулку, а с нею и возможность еще немного поговорить друг с другом.
Однажды, – это было в октябре, – рано утром, до побудки, дверь камеры Вальтера открылась. Быстро и неслышно вошел надзиратель Хартвиг. Он шагнул к Вальтеру и взволнованно зашептал:
– Дождались! Начинается!
Одним прыжком Вальтер соскочил с нар. Когда раздалось обычное: «Подъем!», он, уже одетый, стоял в камере, дрожа от нетерпения, ожидая, что вот сейчас откроются все двери, и он вырвется на волю.
III
В этот день «час свободы» не был хождением по кругу; это была приятная встреча заключенных. Давно было известно, что в предместьях Гамбурга рабочие напали на полицейские участки, полицейских посадили под замок, сами вооружились и удерживают власть в своих руках. Через самые фантастические каналы в тюрьму просачивались все новые слухи. Баррикады в Бармбеке и Винтерхуде, Аймсбюттеле и Брамфельде, Шифбеке и Роттенбургсорте. Говорили, что низшие полицейские чины взбунтовались. Кому-то было достоверно известно, что гамбургский сенат бежал. Когда из близлежащего Нейштадта донеслись выстрелы, волнение достигло предела.
– Идут, идут!
– Собирать вещи!
– Быть наготове!
Стараясь увести заключенных со двора, надзиратели обещали им оставить камеры открытыми. Но зато заключенные должны в полном спокойствии ждать дальнейших событий и не устраивать никаких беспорядков.
В коридорах началась невообразимая суета; люди бегали друг к другу, говорили без умолку. Все арестованные оказались вдруг политическими, все чуть не отродясь были революционерами, большинство даже – коммунистами. Надзиратели ни во что не вмешивались, ждали, как развернутся события.
И события развернулись: явился особый отряд полиции, вооруженный винтовками и ручными гранатами. Охрану у тюремных ворот усилили. Отряд вошел в Центральную и занял боевую позицию. Полицейский офицер отдал команду надзирателям загнать заключенных в камеры.
В ответ заключенные, которые стояли у перил тюремных коридоров и все видели, громко запротестовали. Поднялся крик. В полицейских полетели табуреты. Тогда офицер скомандовал:
– Ружья на изготовку!
Щелкнули затворы. Дула винтовок угрожающе смотрели на взбунтовавшихся узников. Надзиратели, всполошенные и бледные, бегали по коридорам и заклинали заключенных не доводить дело до кровопролития. Выкрикивая проклятия и угрозы, заключенные скрывались в камерах, и надзиратели мгновенно запирали их.
Хартвиг подталкивал Вальтера.
– Так все и кончилось, господин надзиратель?
Хартвиг не ответил и запер за Вальтером на замок дверь камеры. Но тут же отпер и прошептал:
– Дурень, только сейчас и начинается по-настоящему!
– Борьба продолжается?
– Да еще какая!
Через окна неслись крики:
– Объявить голодовку! Объявить голодовку! Долой полицию!
Из корпуса в корпус неслось:
– Голодовка! Голодовка!
Как эхо, один корпус отвечал другому:
– Голодовка! Голодовка!
Кальфактор Францль с ведром супа появился у камеры Вальтера. Но он не произнес своего: «Желаю при-и-ятного ап-пети-и-та!», а только испытующе посмотрел на Вальтера своими большими глазами.
– Объявляю голодовку!
Дверь камеры хлопнула, и замок щелкнул.
IV
До самой ночи перекликались голоса, от окна к окну велись разговоры, и, несомненно, не один только Вальтер не мог в эту ночь заснуть. Из центра города то и дело доносились выстрелы. До боли обидно сидеть за решеткой, когда товарищи борются. Эрнст Тимм, наверно, среди сражающихся, С какой радостью Вальтер дрался бы сейчас опять под его командой. Теперь у него есть опыт, не так, как в тот раз; теперь он знал бы, как взяться за дело. До чего же глупо сидеть под замком!
Наутро, вместе с сигналом побудки, раздались крики:
– Голодовка!.. Голодовка!..
Францль и маленький, с колючими глазками надзиратель Хельмс, дежуривший ночью, стояли с кофе и хлебом перед отпертой камерой Вальтера. Вальтер безмолвно повернулся к ним спиной. Дверь закрылась. Щелкнул замок.
В обед пришел Хартвиг. Вальтер спросил:
– Борьба продолжается?
– Да. Но надо есть!
– Я есть не буду!
Вальтеру казалось, что волнение в тюрьме несколько улеглось. Правда, еще слышны были выкрики:
– Крепите солидарность! Голодовка до конца, пока нас не выпустят на волю! – Но это были лишь одиночные выкрики; долгие часы, как раньше, стояла тишина, гробовая тишина. Проиграно и это сражение? Неужели рабочим не удалось добиться свободы? Неужели опять все усилия были напрасны?
Наступил вечер. От переутомления и голода Вальтер заснул свинцовым сном. Рев надзирателей разбудил его. Новый день сомнений и тревог. Кальфактор Францль канючил:
– Поешь, поешь. Все едят, – уверял он.
– Прочь с глаз! – крикнул Вальтер.
Чей-то хриплый голос призывал:
– Голодовка, камрады! Голодовка!
Кальфактор, выслуживающаяся собака, значит, нагло врал. Вальтера одолевала слабость, ему было очень плохо, но он был полон решимости выдержать, чего бы это ни стоило. Тепло, исходившее от труб центрального отопления, немного согревало. Начались рвотные позывы. Из глубины желудка поднимались спазмы. Но желудок был пуст, и, несмотря на позывы, рвоты не было.
В обед снова загремели по коридору бидоны с супом. Опять перед камерой Вальтера стояли кальфактор и надзиратель.
– Я ничего не хочу!
– Не дури, дай свою миску!
Напрягая все силы, Вальтер крикнул!
– Не хочу ничего!
Слава богу, ушли наконец.
Вальтер припал к тонким трубкам калорифера. Вошел Хартвиг.
– Скажите же, борьба еще продолжается?
– Поешь хоть что-нибудь!
– Ответьте мне! Там еще борются?
– Да… Но…
– И вы советуете мне стать штрейкбрехером?
Хартвиг помотал головой.
– Какое там штрейкбрехерство! Все едят.
– Неправда!
– Неправда? Хорошо. В таком случае, пойдем. Я покажу тебе, как они едят! Только ты, дурень, голодаешь! Пойдем, убедись собственными глазами!
Вальтер пошел за надзирателем. Подойдя к соседней камере, Хартвиг отодвинул заслонку глазка и сделал знак Вальтеру. Вальтер взглянул – обитатель камеры жадно хлебал суп из своей миски.
– Идем дальше!
Хартвиг приоткрыл глазок в двери следующей камеры. И этот заключенный ел.
– А камера семьдесят девятая? – пробормотал Вальтер. – Оттуда еще сегодня утром неслись призывы к голодовке.
– Пойдем к семьдесят девятой!
И тут человек жадно ел. Вальтер стиснул зубы. Ему было стыдно перед Хартвигом.
– Ну, теперь ты согласен? Францль сейчас тебе что-нибудь принесет.
Вальтер помотал головой.
– Как ты мог поверить этим людям? Ведь это все проходимцы. В семьдесят девятой сидит старый вор-рецидивист. Профессиональный взломщик. Этот сброд и – голодовка! О, бог мой!
Когда Хартвиг ушел, Вальтер опять привалился к теплым калориферам. Борьба еще продолжается, сказал Хартвиг. Продолжается – в этом вся надежда.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
I
Уголовники ликовали. Их в самом деле освободили. Чем больше полиция арестовывала политических, тем чаще надзиратели получали предписания: «До суда освободить». По утрам и в послеобеденные часы «до суда освобождаемые» десятками стояли в Центральной, с узелками под мышкой, и дожидались документа об освобождении. В это же время полиция бросала в тюрьму политических.
Восемьсот уголовников были выпущены на волю, в том числе и Францль, карманный вор; более двух тысяч политических были заключены в тюрьму. Большинство из них – избитые до полусмерти, с кровоточащими ранами. В камеру, где сидел Вальтер, до сих пор по указанию судебного следователя содержавшийся в строгой изоляции, поместили еще двух арестованных.
Первым втолкнули туда парня лет двадцати пяти, приземистого, крепко сколоченного, с большой, почти квадратной головой. На лбу у него была повязка, вся пропитанная кровью. Не обращая внимания на Вальтера, он, как загнанный в клетку зверь, безмолвно носился по камере. Вальтер стоял в углу возле откинутых к стене нар. С робким восхищением смотрел он на этого парня. Да, вот такими он и представлял себе революционеров, борющихся на баррикадах: богатыри, горящие страстью и гневом. Когда парень сбросил с себя измазанный кровью пиджак и засучил рукава жесткой клетчатой рубашки, Вальтер увидел у него на обеих руках темно-синюю татуировку.
Парень, подставив голову под струю холодной воды из крана, неожиданно повернулся к Вальтеру:
– Ты жулик или политический?
– Политический, – ответил Вальтер. – Жуликов почти всех выпустили.
– Псы! Сукины дети! Если бы я это знал, я всех их к черту перестрелял бы! Скоты треклятые!
Вальтер подумал о Петере, Отто Бурмане, Гансе Шлихте, о «Шмеле» – все они тоже называли себя социалистами. Дрались бы они так, как этот рабочий? Нет, их идеал – социализм как можно более приятный, без драк и усилий. Нужен новый жизненный идеал – любил провозглашать темпераментный, многожестикулирующий и красноречивый Петер. Для того, чтобы «новый жизненный идеал» не превратился в пустозвонную индивидуалистическую фразу, его надо отвоевывать в классовой борьбе, отвоевывать всем вместе и для всех.
– Значит, политический?
– Я же сказал тебе!
– Ладно. Когда они тебя зацапали?
– Меня? Семь месяцев уже сижу.
– А за что?
– За разложение полиции.
– Коммунист?
– Да.
– Ладно. С тобой, думаю, мы подружим.
– А ты? Ты тоже коммунист?
– Пожалуй. Но в партии не состою. Вообще нигде не состою… Ну-ка, спусти эту чертовщину, хочу вытянуться.
– Днем лежать запрещено.
– Запрещено? Да что ты говоришь! Плевать я хотел на них с их запретами!
II
Товарища Вальтера по камере звали Эмиль Грюнерт, Он работал токарем в маленькой ремонтной мастерской. Никакой политической школы он не прошел и вообще политикой не интересовался. Не входил ни в один профессиональный союз, о партии нечего уж и говорить. «Не желаю кормить бонз». Социал-демократы, по его мнению, это чепуха, да и коммунисты, мол, от них далеко не ушли. Одна братия, только с разными ленточками на шапках. Однако когда раздался призыв взять винтовку в руки и положить конец нестерпимым условиям жизни, он ни минуты не медлил и не колебался. В Шифбеке они три дня и три ночи сдерживали натиск противника, раз в двадцать сильнее, и если бы рабочие в других частях города не были такими олухами, в каталажке сидел бы не он, а тузы и толстосумы, спекулянты и мошенники.
Он лежал, вытянувшись во весь рост на нарах, а Вальтер присел около него на табурете и слушал, не прерывая. Ему хотелось узнать, как шла борьба и почему она кончилась поражением. Но то, что рассказал Грюнерт, показалось Вальтеру невероятным, фантастикой.
В Бергедорфе был сколочен рабочий отряд в сто человек, так называемая «рабочая сотня». При первом же нападении на полицейские участки отряд захватил около шестидесяти винтовок и несколько ящиков с ручными гранатами. Вооружившись таким образом, сотня двинулась в Шифбек, где тем временем с таким же успехом были атакованы полицейские участки. Утром 23 октября, к началу восстания, в руках вооруженных рабочих уже были Шифбек, Бильштедт и Бильброк, а по другую сторону от Вандсбека – Бармбек, Брамфельд – до самого Винтерхуде. На противоположном конце Гамбурга были заняты Аймсбюттель и часть Баренфельда. Таким образом, центр города был почти окружен. Замечательный был план, досконально продуманный, сказал Грюнерт. Однако в Гарбурге, Вильгельмсбурге и Альтоне рабочие дали маху.
– А в Саксонии? – спросил Вальтер. – Там ведь уже было сформировано рабочее правительство и несколько вооруженных рабочих сотен?
– Эти? Да они вообще не дрались.
– Не может этого быть! – взволнованно воскликнул Вальтер.
– В Саксонию вошли части рейхсвера, и ни единого выстрела против них не раздалось.
– Не верю!
– Так! А почему же мы прекратили борьбу? Только потому, что остались в одиночестве!
– Вы, надо полагать, потерпели поражение и были все взяты в плен? Не так разве?
– В плен? У тебя, видно, на чердачке ветер свистит? Когда мы прекратили борьбу, я, да и большинство остальных пошли как дураки домой, чтобы выспаться наконец. А наутро меня забрали.
– Из дому?
– Из кровати. А когда они нашли под подушкой револьвер, вот тогда и началось…
– Это что-то не похоже на хорошо организованные действия!
– План был прекрасный и руководство восстанием превосходное. Когда против нас выступили броневики, мы забрались на крыши. Если бы они нас окружили, мы бы ушли через канализационные трубы и появились у них в тылу. Полиция и морская пехота, которую послали ей в подкрепление, растерялись – они не знали, ни что впереди делается, ни что в тылу у них происходит. Поэтому и озверели так. Дать бы им волю, так они превратили бы нас в котлету. Но они все еще чего-то опасаются… Жаль, чертовски жаль, что рабочие не повсюду крепко держались… Сплоховали, брат…
III
В тюрьме в эти дни уже ни днем ни ночью не было тишины. Полицейские избивали вновь прибывших, надзиратели орали по коридорам, что-то приказывая, угрожая, запрещая, заключенные кричали, приходили в ярость, стучали кулаками и швыряли табуретками в двери камер. Через окна сообщали пароли. Или вдруг кто-нибудь запевал боевую песню. На улице под стенами тюрьмы и внутри на тюремном дворе были расставлены полицейские посты. Часовые стояли с винтовками на изготовку. И все же в тюрьме все бурлило. В тюремной церкви – из нее убрали церковную утварь и превратили в общую камеру – творилось невообразимое. Говорили, что там заключено около двухсот политических. В камерах, рассчитанных на одного заключенного, сидело по четыре и даже по пять человек. К Вальтеру и Грюнерту посадили третьего товарища по несчастью, Альберта Холмсена. Вальтер знал его по партийной работе.
Кальфакторы бросили в камеру набитые соломой мешки, а надзиратель Хартвиг сказал Холмсену:
– Прошу вас только об одном одолжении – не буяньте. О господи, ведь у нас здесь не сумасшедший дом!
Холмсен ухмыльнулся:
– Да что вы говорите! А ведь в точности похоже!
Холмсен страшно обрадовался встрече с Вальтером. И Вальтер очень обрадовался ему. Они долго пожимали друг другу руки. Вальтеру не терпелось услышать, что нового в городе, в стране, в мире? Но Холмсен мигнул ему и головой показал на Грюнерта. Узнав, что Грюнерт беспартийный, он стал отвечать односложно. Все же он рассказал, что в Саксонии действительно рабочие капитулировали, когда туда вошли войска рейхсвера. Тамошняя социал-демократическая верхушка заявила, что не будет драться с войсками, посланными президентом Фрицем Эбертом, их партийным товарищем. Тем самым восстанию в Гамбурге был сломлен хребет.
Альберт Холмсен, человек лет тридцати семи, тридцати восьми, был уверен в себе, полон чувства собственного достоинства. Говорил спокойно, веско. Ни гнева, ни разочарования не было в его речах. Улыбаясь, он сказал, что потерпеть поражение в бою лучше, чем сдаться без боя, не так удручает. На какое-то возражение Грюнерта он ответил прямо и недвусмысленно, заявив, что нынешнее руководство коммунистической партии совершило, по его мнению, ряд ошибок. Партия еще очень молода, ей нужно учиться, а за уроки платят.
– Но мы терпим поражение за поражением! – язвительно ввернул Грюнерт.
– И будем терпеть, пока не завоюем победы, – ответил Холмсен.
– В таком случае, желаю веселиться!
– О веселье и речи нет, товарищ, но такова логика классовой борьбы.
IV
Совместное пребывание в камере становилось все труднее. Отношения между Холмсеном и Грюнертом принимали явно напряженный и враждебный характер. Грюнерта задевало за живое, что в разговорах Холмсен всегда с видом превосходства срезает его, доказывая его неправоту. Вальтера тоже раздражало, что Холмсен впадает в менторский тон, как только речь заходит о политике.
Вдобавок ко всему, оба – и Холмсен и Вальтер – глубоко оскорбляли своего товарища по камере, правда сами того не сознавая. Когда Вальтер спрашивал у Холмсена об общих друзьях, о внутрипартийных делах, Холмсен отводил его в сторону, и они разговаривали шепотом. Так, Вальтер узнал, что восстанием в Гамбурге руководил Эрнст Тельман и что Тимм руководит подпольной организацией коммунистической партии в Шлезвиг-Гольштейне. Грюнерта обижало и раздражало это «секретничанье», как он говорил, и он насмешливо спрашивал, не готовят ли они новое восстание?
И вот однажды утром разразилась катастрофа. Грюнерт завладел разговором. Ему захотелось похвастать своими заслугами, и он рассказал, как рабочая сотня, в которой он состоял, захватила один из полицейских участков в Шифбеке. Он сам запер находившихся там полицейских в подвал. Среди них был и капитан полиции, пользовавшийся во всем Шифбеке славой отъявленного негодяя. По его приказу полиция резиновыми дубинками до полусмерти избивала безработных, несколько раз вьн ходивших на демонстрацию. И Грюнерт, по собственному почину, вопреки указаниям руководителей восстания, отдал приказ расстрелять капитана. Правильно ли он поступил, спросил Грюнерт.
Холмсен знал, что вся эта история чистейший вымысел, ибо в Шифбеке ни капитана полиции, ни вообще кого-либо из полицейских рабочие не расстреливали. Он пристально посмотрел на Грюнерта и сказал:
– Правда это или вымысел, правилен ли такой поступок или нет, во всяком случае, крайне неправильно, неправильно и легкомысленно, рассказывать что-либо подобное.
– Это почему? – взвился Грюнерт. – Почему неправильно и легкомысленно?
Холмсен улыбнулся. Уже одна эта улыбка привела Грюнерта в бешенство.
– Видишь ли, товарищ, если бы я хотел напакостить тебе, достаточно было бы только рассказать кому-нибудь то, что ты только что нам рассказал. Это стоило бы тебе головы.
Одним прыжком Грюнерт кинулся к Холмсену, и раньше, чем тот или Вальтер поняли, что происходит, он ударил Холмсена кулаком в лицо. Тот схватил его за руки, однако Грюнерт, оказавшийся намного сильнее, вырвался и замолотил кулаками по голове и лицу своего противника.
Вальтер бросился разнимать их, оттаскивать Грюнерта. Но потом подбежал к двери и стал яростно колотить об нее табуреткой.
Когда Хартвиг вошел, Холмсен уже лежал на полу, обливаясь кровью.
– Что здесь случилось?
– Он хотел донести на меня, – тяжело дыша, выговорил Грюнерт.
– Вздор это! – крикнул Вальтер. – Чистейший вздор!
Грюнерта перевели в другую камеру, а Холмсена отправили к фельдшеру. Из уголков рта у него текла кровь.
V
Тюрьма была переполнена, но Вальтер остался один в камере и был доволен этим. Холмсена он жалел. Но и Грюнерта было жалко. Его несдержанность могла и в самом деле стоить ему головы. Вскоре, однако, вся эта тяжкая история померкла перед гораздо более значительным событием.
Наутро при раздаче кофе новый кальфактор подмигнул Вальтеру и со словами: «Внимание! Хлеб!» – протянул ему ломоть черного хлеба. Внутри Вальтер обнаружил клочок бумаги, на котором было написано:
«Особый состав суда, назначенный гамбургским сенатом, приговорил товарища Антона Брекера к смертной казни. Мы, политические заключенные, сидящие в этой тюрьме, ответим на позорный приговор объявлением голодовки. Спасем нашего товарища Брекера! Подпольный комитет политических заключенных».
Вальтер поднял глаза. Опять голодовка? На этот счет у него уже есть опыт. Ну что ж, голодовка так голодовка!
Он ждал, что изо всех окон, как это было недавно, полетят выкрики: «Голодовка!» Но ничего похожего не произошло. Стало даже как-то тише, чем все последние дни. В тюремной церкви заключенные пели «Варшавянку» и «Песнь маленького барабанщика». Разумеется, петь было запрещено, но не могли же тюремщики всех засадить в карцер. Да и карцеры были переполнены.