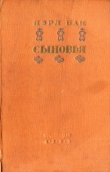Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Вилли Бредель
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
– К какой организации вы принадлежали?
– К «Социалистической рабочей молодежи»!
– Что-о? – вскрикнули все сразу, и лица просияли еще больше. – К СРМ? А к какой группе?
– Нейштадской. Одно время я даже был старостой. – И Вальтер в нескольких словах рассказал, как Шенгузен их распустил, как он, Вальтер, не прижился в группе «оппозиционной молодежи» и с тех пор остался одиночкой.
Все начали наперебой рассказывать, что они тоже раньше входили в организацию «Социалистическая рабочая молодежь», а теперь существуют как самостоятельная единица. Они называли себя «Свободной пролетарской молодежью». Это была одна из бармбекских групп.
Рут и Вальтера пригласили остаться. Прерванные танцы возобновились.
– Папаша Пель! У нас еще одна пара прибавилась!.. Сыграй-ка что-нибудь повеселее.
– Молодцы, что пришли, – откликнулся старик, словно Вальтер и Рут только запоздали. – Повеселее, значит? – Он растянул гармонику и заиграл быструю бойкую польку, которая танцуется вприпрыжку, и все хором стали подпевать:
Если Марта не танцует,
Значит, ножка не стройна.
Пусть сошьет до полу платье —
Марта будет спасена.
III
Группа стала их родным домом. Они опять приобрели друзей, зажили жизнью коллектива, который сознательно, без колебаний, шел собственным, им самим избранным путем и никому не позволял вмешиваться в свои дела. Дни заискрились разнообразным содержанием. Много спорили, в предметах для спора недостатка не было, редко все и во всем сходились во взглядах. Вальтер досконально знакомился с картинными галереями и музеями; учился отстаивать свое мнение в теоретических спорах. Не было ни одного значительного и интересного явления, которое они не попытались бы изучить и понять. В картинной галерее они безмолвно стояли перед Рембрандтом, восхищались сумасшедшим великолепием красок у Ван-Гога. В музее по истории Гамбурга пытливо проникали в глубь столетий и прослеживали рост родного города, как наблюдают за развитием живого существа. С Бергедорфской обсерватории рассматривали Венеру и Марс; толковали о свободном браке и товарищеских отношениях между мужчиной и женщиной; читали Фореля, Вейнингера и Блюхера и устраивали дискуссии о прочитанном. При этом говорилось, разумеется, немало глупостей. Им хотелось осуществлять на практике социалистические идеи, но пока они лишь путались в мире чудесных утопий. И все-таки их мечты, искания и заблуждения были прекрасны и волнующи.
А война все продолжалась. Безумие торжествовало победу. Лик мира был искажен ненавистью. Народы истекали кровью. Однако символ веры Вальтера и его друзей гласил: человек добр. Это было название книги, в которой известный немецкий писатель[3] изображал войну, проклинал ее бессмыслицу. Книга эта стала для группы манифестом.
IV
Не хватало одной лишь Рут…
Они собрались под большими часами Центрального вокзала, чтобы отправиться в двухдневный «великий поход» по горам и долам Герде. Погода была в этот октябрьский день словно по специальному заказу: свежо, холодновато, но зато сухо и ясно.
Не хватало одной лишь Рут… Этого никогда не случалось. Она ни разу еще не опаздывала. Вальтер то и дело выбегал к главному входу. Вот последний трамвай, которым она могла бы приехать, а ее нет. До отхода поезда оставалось три минуты.
– Что могло с ней приключиться? – спрашивал староста группы Ганс. – Я думал, что ты договорился с ней вчера.
– А как же! Конечно, договорился, – ответил Вальтер.
– Ничего не понимаю. Ждать больше нельзя ни минуты. Ты едешь с нами? Или…
– Я остаюсь. Поезжайте. Мы, может быть, еще догоним вас.
С радостными возгласами бросились юноши и девушки на перрон. Вальтер грустно смотрел им вслед. Об этой поездке он давно мечтал. В рюкзаке лежали великолепные лакомства, даже плитка шоколада с орехами, который она так любит…
Три часа тридцать пять минут. Сквозь окна пассажирского зала он видел, как тронулся поезд…
Вальтер не был знаком с матерью Рут; он еще ни разу не был у них, и какое-то неясное чувство охватило его, когда, войдя в столь знакомый ему снаружи дом, он прочел на дверях фамилию «Лауренс». Он позвонил.
Открыла стройная седая дама.
– Что вам угодно?
– Прошу прощения. Мое имя Вальтер. Рут дома? Мне очень хотелось узнать… я хотел спросить…
– Войдите, пожалуйста! Она нездорова.
– Нездорова? Когда же она захворала? Что-нибудь серьезное?
– Надо надеяться, что скоро все пройдет.
Спокойная манера фрау Лауренс действовала как-то благотворно. Смущение Вальтера рассеялось, он пошел за ней по коридору, но остался за дверью, когда она вошла в комнату дочери.
Как красиво убран коридор. Яркие обои. Большая вешалка с шкапчиками и зеркалом. Акварели на стенах.
Фрау Лауренс вышла к нему.
– Войдите, пожалуйста, господин Брентен.
Она лежала в большой кровати, похожая на маленького ребенка, бледная как смерть, и взгляд – испуганный, робкий.
– Рут, что с тобой?
Она не ответила, не шевельнулась, только по щекам медленно покатились слезы.
Не снимая рюкзака, он осторожно подошел ближе. Остановился у кровати и спросил:
– Почему ты плачешь?
Она не ответила, только слезы потекли сильнее.
Вальтер оглянулся. Фрау Лауренс в комнате не было. Он снял рюкзак и присел на край кровати. Положил руку на одеяло, там, где вырисовывалась ее рука.
– Но скажи же наконец хоть словечко. Что у тебя болит? Почему ты плачешь?
– Ты очень ждал меня?
– Все ждали. До последней минусы.
– Мне очень, очень жаль. Поверь мне.
– Ну, ладно уж. Не так страшно. Наверстаем. Я рад, что ничего серьезного.
– Ничего серьезного, – повторила она шепотом и спрятала лицо. – Нет, нет, ничего серьезного.
– Смотри, что я тебе принес. – Он вынул из рюкзака приготовленную для нее плитку шоколада. – С орехами. Ну, довольна?
– Спасибо, Вальтер!
– И еще вот масло. И…
– Ты такой добрый.
– Больных нужно выхаживать, чтобы они поскорее выздоравливали. А тебе надо как можно скорее выздороветь. Неужели ты думаешь, что мне хочется опять остаться одному, без тебя?
К его удивлению, она снова заплакала, еще сильнее прежнего. Плач был тихий, неслышный, но слезы текли непрерывно.
Он посмотрел на нее.
– Ничего не понимаю. Что с тобой такое? Почему ты плачешь?
– Ты ведь не одинок, Вальтер.
– Нет, у меня есть ты.
– И друзья.
– Ты для меня больше, чем все друзья вместе взятые.
– Правда?
– Ты сомневаешься?
– Дай руку, Вальтер.
После поездки в Герде группа собиралась пойти в концерт; Рут спросила, пойдут ли. Послезавтра она уже будет себя чувствовать лучше и обязательно присоединится к ним.
На прощанье она протянула ему обе руки. Он взял их, крепко стиснул и бережно опустил на одеяло. Потом он сделал то, на что до сих пор еще ни разу не решался, – погладил ее по волосам, наклонился и поцеловал ее трепещущий изумленный рот, поцеловал нежно и коротко…
На улице ему хотелось крикнуть всем, кто попадался навстречу: «Радуйтесь за меня! Я так счастлив!» Он шел и смеялся, сам не замечая этого.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
I
В последние дни октября стояла бурная погода. Черные тучи днем и ночью бешено неслись на северо-запад, подгоняемые порывами холодных шквальных ветров. На площадках и в парках ветер в неистовой пляске гнал впереди себя опавшую листву, уличный мусор и людей.
Затем наступили холодные дни, полные тягостного затишья.
Ноябрь принес туманы…
Они ползли, точно дым большого пожара; переваливали через дома и колокольни, наполняли улицы и ложились на Альстерское озеро. Они проникали в дома через все оконные и дверные щели и томили людей – усталых, слабых, давно уже изнемогших от страданий.
Жизнь в городе замерла. Трамваи не шли. На Эльбе не было паромов. Мелкие ремесленники отослали домой своих подмастерьев, купцы закрывали магазины. Лишь колокола на церкви св. Петра звонили – словно хотели сказать отчаявшимся: не бойтесь, бог вас не покинет! Но многие слышали в их трезвоне другое – им казалось, что лихорадочные удары колоколов предостерегают: «Готовьтесь! Близится конец мира!»
Каждый чувствовал на себе действие общего разложения, но рабочие верфей и заводов по-прежнему спозаранку тянулись по улицам, ведущим в порт, – мрачные, ожесточенные, зловещие толпы. Подняв воротники пиджаков, засунув руки глубоко в карманы, они шли, один за другим, как и Людвиг Хардекопф, еле волоча ноги. Шатались от голода и усталости, но шли. Ярость и возмущение кипели в них – но они шли. Утро за утром. Знали, что каждое новое утро несет им только страдание и безнадежность. Знали, что невзгоды с каждым днем будут расти. Фронты разваливались, им это было известно. Они понимали, что не сегодня-завтра все рухнет. Вечерами, смертельно усталые, сидя в нетопленых жилищах перед пустыми мисками, они вели мятежные, грозные речи. А на рассвете, едва затрещит будильник, поднимались и молча, точно подгоняемые таинственными силами, плелись на верфи, на фабрики.
II
Но вот пришел день, когда возмущение повело за собой даже самых усталых и отчаявшихся. Немногим отважным удалось повести за собой миллионы нерешительных. Словно живительный дождь, несущий заряд жизненных сил, пролился над городами и вселил в людей новый жар жизни. Миллионы кричали: «Довольно!» Многомиллионная людская воля повелевала: «Конец войне!»
На верфях и заводах никто не прикасался к инструментам. Перед булочными собирались толпы женщин; подгоняемые голодом, они разбивали стекла и жадно расхватывали все, что попадало под руку. Отпускники не возвращались в свои части – и никто больше не называл их дезертирами. И, наконец, наступил день, когда все единомыслящие, осознав великую силу своей солидарности, сплотились для совместной борьбы.
Из Киля прибыли матросы. Десять, быть может, двадцать человек. Не больше. Но и этого оказалось достаточно для того, чтобы смести последние барьеры.
Они шли с заводов и фабрик. Впереди молодые, совсем еще юнцы, несли красные знамена. Стала в строй социалистическая рабочая молодежь – легальные и нелегальные ее организации, загнанные в подполье и существующие под угрозой запрета. В эти первые часы восстания исчезли все противоречия между ними. Молодежь пела: «Вперед, социалисты, смыкайте ряды…» И они смыкали ряды. Вальтер увидел среди молодежи, маршировавшей по улицам, Грету и Гертруд Бомгарден, слышал, как они вместе со всеми кричали «Долой!» и «Да здравствует!» и радовались великому братанию всех социалистов.
Луи Шенгузен сидел у себя в кабинете и проклинал командующего войсками за то, что тот не отважился вооруженной силой разогнать демонстрантов. Шенгузен велел запереть все ходы и выходы в Доме профессиональных союзов, включая ресторан и главные ворота. Стоя за портьерами, он в бессильной злобе сжимал кулаки и грозил массам демонстрантов, стекавшимся к Дому. Зверь вырвался из рук; надо снова, чего бы это ни стоило, укротить его. Командующий войсками спасовал, но он, Шенгузен, твердо знает, в чем его задача. Не терять самообладания, – повторял он про себя. Семь раз отмерь, один раз отрежь! – это его жизненный принцип. У него есть время, сколько угодно, он умеет выжидать. Важно знать, что советует и что предпринимает Берлин – генералитет и руководство социал-демократической партии. Вероятно, там идут совещания. Если будет принято решение остановить поднявшуюся волну, они, очевидно, согласуют свои действия. Ему еще неясно, что именно следует предпринять. Но он знает – все зависит от первых тактических мер. И он выждет…
На улицах, перед Домом профессиональных союзов, стояли десятки тысяч людей. Народ и пел и роптал… Раздавались выкрики. Кое-кто, махнув рукой, поворачивался и уходил. Но большинство ждало, ждало перед своим собственным Домом, который был заперт перед ними на все запоры. И в то время, когда толпа внизу пела «Вставай, проклятьем заклейменный…» и «Вперед, заре навстречу», Луи Шенгузен, опустившись на корточки перед аквариумом, разговаривал со своими рыбками, ибо телефон на его столе все еще упорно молчал.
Он достал из ящика письменного стола пакетик и насыпал корму в аквариум. Широко улыбаясь, смотрел он, как со всех сторон подплывают рыбки и глотают муравьиные яйца.
За этим занятием его застали растерянные руководители профсоюзов, ворвавшиеся без доклада в кабинет. Они с удивлением переглядывались – всего, чего угодно, ждали они, но никак не думали, что их председатель сидит здесь на корточках, любуясь рыбками.
– Луи!.. Луи, они требуют, решительно требуют, чтобы кто-нибудь из нас выступил!.. Их там десятки тысяч… А с верфей еще идут и идут!
Шенгузен поднялся. Солидно, не торопясь.
– Вот что я скажу вам! – Он говорил осторожно, но твердо. – Никто выступать не будет! Во всяком случае, сейчас. Понятно? Когда нам выступать – это решают не те, кто орет там, внизу!.. Горлодеры получат по заслугам! Долго им ждать не придется! Не давайте себя запугать! Они только лают, но не кусаются. Впрочем, даже и не лают. – На лице Шенгузена мелькнула саркастическая усмешка. – Держу пари, что они собирают сейчас певцов – хотят нас подзадорить своими песнями… Большего нам опасаться нечего. Без указаний из Берлина мы ничего предпринимать не можем. И не предпримем. Связь, по-видимому, пока нарушена. Значит, остается сохранять хладнокровие! Ну вот, пожалуй, все, что я хотел вам в данный момент сказать.
III
Шенгузен оказался прав. Рабочие ждали. Они пели песню за песней, ожесточение их росло, в голосах слышалась угроза. Они пели о революции, о борьбе, о крови. Они все ждали – вот-вот что-то произойдет.
Но так ничего и не произошло…
Горячие головы из Союза рабочей молодежи хотели силой ворваться в Дом и уже собрались было взломать одну из боковых дверей. Но старшие товарищи остановили их. Тридцать лет мы состоим в профессиональных союзах, говорили они нетерпеливым, на открытии этого Дома присутствовал сам Август Бебель! Мы не можем допустить, чтобы в наш собственный Дом врывались силой.
Бесконечное стояние и ожидание никак не прибавляло бодрости рабочим, тем более что сырой, холодный ветер пробирал до костей и пустота в желудке все настойчивей напоминала о себе.
Многие, ни на что больше не надеясь, уныло расходились по домам. У людей лопалось терпение, толпа таяла с каждой минутой.
Когда спустились сумерки – а в этот ненастный ноябрьский день стемнело рано, – отважились показаться полицейские, все время прятавшиеся в подъездах и воротах домов.
Луи Шенгузен радостно потирал руки. Он еще раз оказался прав. Нет, его не проведешь. И уж, конечно, не запугаешь. Он достаточно долго был руководителем профсоюзов и знает, с кем имеет дело.
IV
Мятеж!
Восстание матросов!
Фленсбург, Шлезвиг, Неймюнстер – в руках восставших!
В Киле Советы рабочих и солдатских депутатов захватили политическую власть!
На кайзеровских военных кораблях реют красные флаги!
Вандсбекерские гусары отказались выступить против голодающих женщин!
Мог ли Вальтер не гореть воодушевлением? Разве он не боролся за наступление этого дня, не ждал его долго и упорно? Не будь он уверен в его приходе, что удержало бы его от отчаянья после стольких разочарований? Но вот этот день настал, а он… он ошеломлен событиями, подавлен и… пристыжен. В последние месяцы он ничего не делал для того, чтобы день этот приблизить. Он жил в мире грез, мечтал о будущем, которое касалось только Рут и его самого. Глух и слеп он был ко всему, что происходило вокруг…
Черт возьми, чего только не произошло за последние дни и недели! Австрия откололась! Балканский фронт рассыпался! Болгария предлагает сепаратный мир! Филипп Шейдеман – статс-секретарь кайзеровского правительства! Карл Либкнехт освобожден из тюрьмы!
Эрих Эндерлайт долго в недоумении глядел на Вальтера, отказываясь поверить, что он ничего, ровно ничего не знает.
Вальтер был подавлен чувством собственной вины. Как можно было так жить, забыв обо всем на свете? Как могло случиться, что он не заметил приближения революции? И потом… он не знает даже, как отнесется Рут к этим внезапно грянувшим событиям.
Они встретились у зоологического сада.
– Ты уже знаешь, Рут?
Она кивнула, и лицо у нее было такое, точно она услышала какую-нибудь печальную новость.
– Нет, тебе, видно, ничего не известно! – И он стал рассказывать о событиях последних дней.
– Знаю, знаю! – прервала она его. – В Киле революция. И здесь, в нашем городе, грабежи. Скоро стрелять начнут, быть может – и в нас с тобой.
– Рут, война кончена! Ведь это главное!
Она молча посмотрела на него.
– Жизнь-то какая настанет, Рут!
Она молчала.
Взявшись за руки, они шли по эспланаде. Он рисовал ей картины прекрасного будущего и не замечал, как она молчалива и подавленна.
Они присели на одну из массивных скамей, стоящих среди по-зимнему оголенных кустов на берегу Альстера, неподалеку от Ломбардского моста.
Перед ними простиралось затихшее, почти черное озеро, освещенное тусклым светом луны. Тишина окутала и город с его домами, шпилями, башнями, с его людьми. Порой откуда-то издалека доносился пронзительный свисток паровоза. Едва слышно плескались волны о гранит набережной. И никаких других звуков. Оголенные ветви деревьев и кустов застыли в мертвенной неподвижности.
Тревога охватила его. Что же это происходит? Днем восстание, а вечером такая тишина! Неужели все опять войдет в свое старое русло и революция, едва начавшись, заглохнет? Он ждал, что в этот вечер на улицы города выйдут с песнями необозримые массы народа, готовые к борьбе. Вальтеру уже виделись баррикады. Точно такие, какие были на старых гравюрах и рисунках, изображавших эпизоды французской революции 1848 года и Парижской коммуны.
Она думала: «Гейнца Отто освободят одним из первых. Его будут чествовать – ведь он самовольно отказался вернуться в армию и был разжалован из офицеров в солдаты. И он придет ко мне и станет спрашивать. Задавать вопросы, на которые нужно ответить. Есть у меня ответ? Что я могу ответить?»
– Мне холодно! – шепнула она и положила голову на плечо Вальтеру.
Он ласково обнял ее, притянул к себе и подумал: «А может, люди испугались холода? Нет, ерунда, разве так бывает? Отложить революцию по случаю холодной погоды!» Он вспомнил, как стояли перед Домом профессиональных союзов рабочие верфей, смертельно усталые, совершенно обессилевшие; многие едва держались на ногах. Неужели все опять рухнет?.. Где-то, вероятно, собрались все члены кружка, который возглавлял когда-то доктор Эйперт. Как глупо, что он упустил случай и не расспросил обо всем Эриха!
Она подняла на него глаза:
– Поцелуй меня!
Вальтер удивленно повернулся к ней. Какой молящий и грустный взгляд! Он крепче прижал ее к себе, успокаивая и согревая, но взор его вновь устремился на озеро. На противоположном берегу тускло светились в ночной мгле слабые мигающие огоньки.
– Ну, поцелуй же меня, – опять шепнула Рут.
Он наклонился и с закрытыми глазами поцеловал девушку. Ее влажные, горячие губы дрожали, Вальтер чувствовал жар ее дыхания. Она обеими руками обняла его и все прижималась губами к его губам.
Когда он оторвался от нее, она лежала в его объятиях, словно заснув. Как она бледна! Как красив ее полный рот, как прекрасны длинные ресницы! Он крепче прижал к себе ее голову. На руку ему упала слеза.
– Ты плачешь? Что с тобой, Рут?
– Целуй меня!
Он услышал шаги. Шаги множества людей.
По Ломбардскому мосту проходила беспорядочная толпа. Мужчины, несколько сот, пожалуй. Шли молча, быстро, видимо куда-то торопясь. Лишь железнодорожная насыпь отделяла их от Вальтера и Рут.
Кто бы это мог быть? Вальтер вскочил и единым духом взбежал на насыпь. Он разглядел в передних рядах вооруженных людей. Матросы!.. Вон тот обмотан в три ряда пулеметной лентой – через плечи и вокруг пояса. Нет, это не кайзеровские матросы! Это – сама революция! Да, это она, она! Он поспешил назад к Рут, крича:
– Рут, революция!.. Матросы!.. Бежим посмотрим, куда они идут, что задумали.
– А не опасно?
– Да нет же! Ведь у них винтовки!
Взявшись за руки, они побежали к переезду, где столкнулись с шагавшим отрядом. Человек триста – четыреста. В рядах – несколько женщин. Впереди – пятеро матросов. Ленты на своих бескозырках они вывернули наизнанку. Были тут и солдаты. Один – с винтовкой через плечо.
Значит – все-таки! Значит – все-таки! Но почему их так мало? Может, в городе не один такой отряд? А у этого отряда свое задание?
Вальтер не мог насмотреться на одного матроса, крепкого, коренастого, в кирзовых сапогах. На широком кожаном поясе болтался у него внушительных размеров револьвер. Бескозырка лихо сдвинута на затылок…
Может, город уже в их руках? Вот это настоящие ребята, они-то уж знают, чего хотят! Эти не будут с бараньей покорностью часами простаивать перед запертым Домом профессиональных союзов.
Когда отряд свернул на Рингштрассе, Вальтер догадался, куда он направляется. К тюрьме, конечно! Освободить заключенных!
Рут заговорила с рабочим, который нес винтовку через плечо, дулом вниз.
– А если придется драться? – спросила она.
Рабочий спокойно ответил:
– Там видно будет.
– А разве вы не знаете, – продолжала Рут, – что повсюду стоят наготове войска? В городских казармах, в пригородных лагерях, повсюду? Говорят, целый армейский корпус размещен здесь. А вас – вас ведь очень мало.
– Там видно будет, – повторил рабочий.
– Да вы сами-то верите, что все это может хорошо кончиться?
– Милая фройляйн! Не для вас это все. Послушайте меня, отправляйтесь-ка лучше домой!
Сторожевые будки на Тотеналлее были пусты. Может, тюремная стража спряталась в засаде?
– У кого винтовка, выходи вперед!
А! Вот и друзья из его группы и с ними Эрих… Эрих Эндерлайт.
– Привет, Эрих!.. Эрих!
Сконфуженно и в то же время лукаво улыбаясь, Вальтер спросил:
– Разве вы незнакомы? Рут, моя подруга! Эрих, мой товарищ!
Эрих протянул руку Рут.
– Не опасно ли здесь для вас? – И, обращаясь к Вальтеру, сказал тихо, чтобы она не слышала: – Ну, теперь мне все понятно. Вот почему ты так бесследно исчез!
– Скажите, что здесь происходит? – спросила Рут.
– Освобождают политических.
– Политических? – Рут испугалась. – А вы не знаете, в этой тюрьме и военные сидят?
– Возможно, – просто ответил Эрих.
Вальтер смотрел на высокую кирпичную стену и на темное, угрюмое здание, поднимавшееся за ней. Вон там – ворота. И там, на тротуаре, у самой обочины, стоял Науман, отказавшийся воевать. Оттуда он помахал Вальтеру рукой. Где-то за этой стеной, во дворе, они его и казнили… Его, который стал убийцей потому, что не хотел убивать людей…
Что произошло в тюрьме, никто не знал, но в отряде увеличилось число вооруженных рабочих. Очевидно, в тюрьме нашли оружие.
Друзья Вальтера по группе окружили одного из освобожденных. Все хотели пожать ему руку. То и дело раздавались возгласы и радостный смех. Это был Фитэ. Фитэ Петер. Его освободили. Он был очень бледен. Лицо стало маленьким, но тем ярче горели большие темные глаза. Он отвечал на все рукопожатия. У него была винтовка. Где он ее взял? В тюрьме? Отнял у кого-нибудь из караульных? Горячая головушка этот Фитэ. Он не только говорить умел, он и действовал. Едва выйдя на волю, он сразу же взялся за оружие.
Вальтер тоже с радостью пожал ему руку, но колонна двинулась дальше, и Фитэ вместе со всеми, у кого было оружие, пошел в первых рядах.
– Куда теперь? – раздавались голоса.
– К казармам на Бундесштрассе!
– Боже сохрани! – крикнула Рут. – Ведь там – тысячи солдат. Неужели эта горсточка матросов собирается штурмовать казармы?
– А почему бы и нет? – смеясь, ответил ей Эрих.
И Вальтер тоже задорно крикнул:
– И возьмут их, вот увидишь!
– Да ведь это чистейшее безумие!
Но они все-таки пошли вслед за отрядом.
На длинной Бундесштрассе было темно и безлюдно. Ни огонька в окнах многочисленных казарменных строений. Ни шороха, ни единого звука не доносилось оттуда.
Толпа, сопровождавшая матросов, остановилась на углу; матросы и с ними все, кто был вооружен, стали бесшумно гуськом пробираться вдоль железной ограды к центральным воротам казарм. Никакой команды, ни единого слова не прозвучало.
– Ой, как жутко! – шепнула Рут Вальтеру. – Чего ради мы сюда прибежали, а?
– Тс! – остановил ее Вальтер. – Тс!
Выстрел…
Один только… Звук его долго перекатывался среди высоких строений.
– Кто это стрелял?
– Тс!
– Может быть, в кого-нибудь попало?
– Да замолчи же, Рут!
За этим одиночным выстрелом наступила давящая тишина. Вальтер осторожно шагнул на середину улицы и увидел матросов; они, как тени, скользили вдоль высокой железной решетки. Еще минута – и они доберутся до ворот.
Вдруг звякнуло разбитое оконное стекло…
– Бе-е-ре-гись!
Люди пригнули головы. Раздался глухой удар, точно из окна что-то бросили на улицу.
– Тьфу! Чем это вдруг так странно запахло? Ух, какая вонь!
– Газ!.. Газ!..
– Вот негодяи! Мерзавцы! Бросают газовые бомбы!
Толпа шарахнулась на противоположную сторону Рентцельштрассе, увлекая за собой и Вальтера, и Рут, и Эриха. Люди помчались бы и дальше, если бы их не остановил низкий и сильный мужской голос.
– Не бегите, товарищи! Не так страшно. Всего лишь слезоточивый газ.
– Уйдем отсюда! – просила Рут. – Я боюсь!
– Не можем же мы сейчас уйти, – с досадой отозвался Вальтер. – Стыдно ведь!
– У-у-ух, не могу больше!
И в самом деле, зловоние стояло невыносимое. Спирало дыхание, жгло глаза. Слезы бежали по лицу, как вода; сколько ни вытирай – они лились безудержно. Рут дрожала от страха.
С Бундесштрассе донеслись крики «ура». Люди выскакивали из подъездов, где они прятались. Все бросились на Бундесштрассе. Вальтер и Эрих, схватив Рут за руки, тоже побежали туда.
Ворота казармы были широко распахнуты. В проходной стоял матрос и командовал:
– Офицеров задержать!.. Никого из казармы не выпускать!.. Перед складами оружия и боеприпасов поставить надежных часовых!
– Это, значит, их главный? – спросила Рут, присматриваясь к матросу.
– Вот это командир! – восхитился Вальтер.
– Самое удивительное, что ему подчиняются, – сказала она.
– Вот видишь, матросов горсточка, а все-таки они взяли верх!
– Никогда бы не поверила, что такое возможно. – И, улыбнувшись, Рут прибавила: – Ну понятно, ведь мы помогали! Не побоялись газа! Мой платок хоть выжми! И глаза у меня еще здорово болят!.
– Пустяки, пройдет. А все-таки мы победили!
Двое рабочих несли кого-то. Им крикнули из толпы:
– На углу Рентцельштрассе есть трактир.
Рабочие со своей ношей прошли мимо Рут и Вальтера.
– Что с ним? – спросила Рут.
– Он мертв. Офицеры, собачьи сыны, застрелили его.
– Первый убитый в Гамбурге!
– Помогите нести! – крикнули рабочие обступившей их толпе.
Вальтер подошел. Но тут он увидел лицо убитого и окаменел.
Рабочие потащили свою ношу дальше. Вальтер смотрел им вслед. Он схватил Рут за плечо и, потрясенный, проговорил:
– Это… это Фитэ, Рут… Фитэ Петер!
V
В эту ночь, с пятого на шестое ноября, большинство жителей Гамбурга спало, не ведая, что готовит им грядущий день. Не ведал того и Шенгузен. Накануне вечером ему удалось связаться с Берлином, и он с большим удовлетворением услышал, что руководство социал-демократической партии одобряет, больше того – хвалит его тактику. Там еще надеются, сказали ему, что смогут обуздать революционную стихию и стать господами положения. Во всяком случае, Берлин обещал все время держать его в курсе дел и сообщать точнейшие директивы.
Рано утром зазвонил телефон.
Шенгузен с досадой поднялся с постели. Будь оно неладно, где там опять горит? Или эта тряпка, этот дрянной генералишка проспался? Выполз, наконец, из своей мышиной норы?
У аппарата оказался не генерал, а Килинг. И от его сообщения сон мгновенно соскочил с Шенгузена. Гарнизоны Гамбурга и Альтоны примкнули к революции и образовали солдатские советы. Берлин прислал новые директивы: завоевать решающее влияние в Советах рабочих и солдатских депутатов… Бог ты мой, натощак – и такие новости!
– Спасибо, Килинг! Через пятнадцать минут я буду на месте! Вызывай остальных!
В полдень народ устремился к Дому профессиональных союзов. Сюда стекались потоки людей из всех районов города. Над головами плыли красные и зеленые знамена многочисленных ферейнов, обществ и клубов: певческие ферейны, общество огородников предместий, сберегательные и увеселительные ферейны. Сомкнутыми рядами подходили рабочие и служащие предприятий во главе с инженерами и техниками, а подчас даже с директорами и самими владельцами. Вся эта человеческая масса плечом к плечу стояла на улицах, ведущих к Дому. Это чудо совершили события минувшей ночи.
Ворота и подъезды Дома профессиональных союзов были настежь открыты. Ресторан набит битком. В коридорах сновали взад и вперед сотни людей.
Вальтер встретил свою группу у Центрального вокзала. Хотя и не отколовшийся, но все же блудный сын вернулся под родной кров.
С песнями, под сенью огненно-алого знамени, подошли они к Дому профессиональных союзов.
На балконе показался Луи Шенгузен.
– Он? – в ужасе восклицали молодые рабочие, удивленно переглядываясь. – Он?.. – Они ничего не понимали.
– Почему именно он? Никого другого не нашли?
Многие тотчас же принялись яростно и возбужденно протестовать:
– Долой бонз!.. Долой Шенгузена!.. К черту всех социал-милитаристов!.. Мракобесы!.. Оппортунисты!
Пронзительные свистки. Девушки визжали:
– У-у-у-у-у…
Из толпы, не знавшей, чем вызван этот протест, возмущенно шикали на молодежь:
– Тише!.. Тише!.. Безобразие!..
Шенгузен поднял правую руку.
– Что это, приветствие? Он собирается говорить?.. Этот… этот толстопузый?.. Прочь!! Оборонец!.. Предатель рабочего класса!.. Враг молодежи!..
Из толпы на них кричали:
– Вон отсюда, молокососы! Нахальство! Что вам нужно?
– Ра-бо-чие и сол-да-ты! Трудящиеся города Гамбурга! – Луи Шенгузен стоял, широко расставив ноги, обеими руками ухватившись за перила балкона, огромная, давящая глыба. Он говорил, отчеканивая каждый слог, и слова его звучали уверенно и веско: – Ре-во-лю-ция по-бе-ди-ла! Со-циа-лизм тор-жествует!
Часть третья
НА ВЕСАХ ИСТОРИИ


ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
I
Ну и кутерьма!
Возня и беготня, уговоры и перекоры, переноска и перевозка! Семейство Брентенов переезжает на новую квартиру.
Не одну неделю подготовлялось это событие, а все же дело подвигалось черепашьим шагом. Фрида подгоняла мастеров и добрым словом и добрыми сигарами, но в последние, решительные дни, между рождеством и Новым годом, усердие их окончательно выдохлось. Фрида в отчаянии заламывала руки и причитала:
– Боже мой, боже мой, что ж это будет! Мы не управимся!
На полу разостланы газеты, повсюду ведра с краской. Все начато и ничего не доведено до конца. Приходят монтеры. Нет, говорят они, раз не кончили штукатуры, нам браться за работу не расчет. Маляры заявляют, что нет смысла начинать, пока не управятся монтеры. Штукатуры приходят, когда им вздумается, зато уж уходят точно в положенный час. Когда на старую квартиру явились перевозчики мебели, оказалось, что переезжать еще некуда. Только долгими уговорами да пивом – целой батареей бутылок – Фриде удалось уластить взбешенных возчиков, которые, казалось, так и рвались взяться за дело.