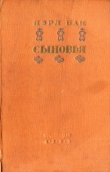Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Вилли Бредель
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 30 страниц)
– Социализм или капитализм, – говорил он, – означают для трудящихся Германии жизнь или смерть. Командиры картелей, заводовладельцы и крупные землевладельцы в любую минуту готовы пожертвовать благополучием народа ради своего благоденствия. Единственная сила, которая в состоянии разрешить жизненно важные для народа вопросы, – это рабочий класс. Его политике чужда болезненно разбухшая национальная гордость, она далека от шовинизма, как говорят на политическом языке. Классовая политика трудящихся не угрожает другим народам, не ставит себе задачи подняться над ними или завоевать их. Рабочий класс видит в трудящихся других стран плоть от плоти и кровь от крови собственного народа. Тех же, кто и у себя в стране, и в других странах живет и благоденствует за счет труда и сил народа, мы, коммунисты, считаем своими смертельными врагами…
«Да, хорошо, если бы у нас было побольше таких Тиммов, – думал Вальтер, – и они ездили бы по всей стране, руководили бы и на месте устраняли ошибки. Как возросло бы политическое сознание рабочих и крестьян, как возросли бы силы партии и рабочего класса».
Особенно понравилось друзьям Пленское озеро, и они решили пробыть в этих местах несколько дней. Остановились в небольшом селении Ашеберг, а отсюда отправлялись в многочасовые поездки на лодке или в такие же длительные пешие прогулки. Октябрь уже давал себя чувствовать, дни были прохладные и хмурые, но стоило солнцу прорваться сквозь тучи, и красота осенней природы переливалась всеми красками. Однажды друзья поехали на катере по озеру. На холмистых берегах из-за золотой листвы деревьев выступали крыши и башни роскошных вилл и замков. Видно было, что они необитаемы. Летний сезон окончился.
– Погляди, – сказал Вальтеру Тимм. – Вот так они пустуют большую часть года. Теперь толстосумы нежатся, вероятно, где-нибудь на Ривьере или в Мадере. Но придет время, и мы найдем лучшее применение этим дворцам. Как ты думаешь, Вальтер, вон тот замок с парком, раскинувшимся до самого озера, хорошо в нем устроить дом отдыха для наших детей? Открытый зимой и летом… А как, по-твоему, вон та огромная вилла на холме, годится она для старых заслуженных рабочих, чтобы они могли на склоне дней своих порадоваться жизни?.. Да, мы сумеем справедливо распорядиться всем этим богатством, когда прогоним сброд эксплуататоров и паразитов.
– Доживем мы до этого дня, Эрнст? – спросил Вальтер.
– Странный вопрос, – ответил Тимм, удивленный ноткой сомнения в голосе Вальтера. – Конечно, доживем.
В Плене Тимм купил путеводитель. Он полистал его, углубился в исторический очерк, предпосланный в качестве вступления, и вдруг стукнул кулаком по столу.
– Невероятно! – воскликнул он. – Ты только послушай, как эти «истинно немецкие» гиганты духа изображают германизацию этого края. – И он прочел:
«…Граф Генрих фон Бадевиде пошел крестовым походом на славян, завоевал в 1138—1139 годах весь Вагриен – вот эту самую местность – и провел такую основательную чистку среди населения, что край почти совсем обезлюдел…» Эту человеческую бойню сей почтенный профессор – как звать его, этого негодяя? – профессор Курт Хайсинг называет «чисткой»… Гм, да, вот здесь. – Он продолжал: «Тогда, чтобы вновь заполучить откуда-нибудь усердные руки для обработки земли…» А иначе, как же им быть, этим графским живодерам, без чужих усердных рук? «…в край были привезены иноземные колонисты. Фрисландцы основали Зюзель. Голландцы – Эутин. Фламандцы – Флем. А вестфальцы обосновались в Зегеберге…» Вот тебе классический пример германизации. Так империалисты даже путеводители используют для отравления умов, для идеологической подготовки войны. Об этом ты должен написать, Вальтер.
Вернувшись в Ашеберг, они не сразу отправились на квартиру, где остановились, а прошлись вдоль берега. На крышах вилл, расположенных по лесистым склонам холмов, и на верхушках деревьев догорал багрянец заката. На затихшее озеро уже легла ночная тень. Эрнст Тимм был молчалив. Он шел, словно не замечая, что он не один. Но вдруг он остановился и повернулся к Вальтеру.
– Скажи, разве Германия не сад? Не чудесный сад? Она, говоря словами Георга Бюхнера, «могла бы раем быть». Так пусть же она никогда не превратится в опустошенное поле, покрытое трупами и руинами! Никогда! Слышишь? Никогда!..
Вальтер неуверенно поднял глаза. Таким он Тимма еще не видел. Ему стало как-то не по себе. Показалось, что все то, о чем почти с трагическим пафосом сейчас сказал друг, может стать действительностью. Но ведь это абсурд! Что случилось с Тиммом? Вальтер горячо возразил:
– Что ты, Эрнст! Такого никогда и не будет! Мы начеку! Разве мы не делаем все возможное, чтобы помешать этому?
Тимм обрадовался взволнованному протесту Вальтера. Он положил руку ему на плечо и сказал:
– Правильно, Вальтер! Мы ничего не упустим, чтобы вконец испортить кашу, которую заваривают торговцы смертью, бешеные псы!
Это был опять прежний Тимм, оптимист, веселый жизнерадостный человек. Но Вальтер еще не совсем отделался от вспыхнувшего волнения.
– Скажи, Эрнст, – спросил он, когда они пошли дальше, – почему ты вдруг так… так заговорил?.. Видел бы ты себя в эту минуту! Лицо, голос – такими вот я себе представляю ясновидящих.
– Ворожеев, вещунов, а? – смеясь, уточнил Тимм.
Как он умел смеяться! Он заражал своим смехом так, что нельзя было не смеяться вместе с ним.
– Да, почему я так заговорил?.. Я и сам хорошенько не знаю. Пожалуй… Пожалуй, виновата одна книга. Да, так и есть. Я недавно прочитал ее. Нечто вроде романа. Автор – американец, Блекхорст. Литературная мазня. И все-таки это документ варварства нашего времени. С леденящим душу наслаждением автор описывает будущую мировую войну. Такую, какой себе представляет ее одаренный фантазией и не невежественный в технике американец. Но цель книги не в том, чтобы насторожить людей описанием страшных перспектив. Отнюдь! Сей джентльмен считает войну не только неизбежной, но и необходимой, и с педантичностью непричастного лица рисует свои видения, напоминающие светопреставление. Гигантские города разрушаются с воздуха. Огромные территории отравлены газом, смертоносными бациллами, дымом пожарищ. Победители проходят по выжженной пустыне и завоевывают пустыню. Половина человеческого рода погибает в муках, а уцелевшие живут хоть и просторнее, но не очень-то сладко, исключая небольшие прослойки представителей так называемой «расы господ».
– Чистейшей воды нацистская идеология, – заметил Вальтер.
– Бесспорно! – продолжал Тимм. – Мы иногда думаем, что нацизм исключительно немецкое явление, так сказать «made in Germany». Неверно! Там, где господствует империализм, там господствует и его человеконенавистническая идеология.
Оставшиеся дни своего отпуска друзья решили провести на побережье Балтийского моря, поехать к швартбукским крестьянам, ведущим судебную тяжбу с прусским государством. После революции прусское правительство отдало в аренду крестьянам этого края пустующие земли. На основании результатов референдума наследники ландграфа фон Гессена, которому некогда принадлежали все эти прибалтийские земли, потребовали их возврата. Прусское правительство попало в затруднительное положение. Оно дало крестьянам землю, а теперь отбирает ее у них. Крестьяне, которые пахали и сеяли на этой земле, сопротивлялись, ссылаясь на договоры.
Друзья поселились в маленьком, забытом богом и людьми городке Лютьенбурге, бродили по его окрестностям, разговаривали с крестьянами. Недовольство прусским правительством и общая опасность крепко сплотили местных крестьян. Большинство из них, однако, ругали все и вся без разбора, им казалось, что все бросили их на произвол судьбы. Не верили они и в солидарность городских рабочих.
– Государство, со всем, что в нем есть, держится на крестьянском горбу. Все помыкают нами, – говорили они. – Мы не что иное, как удобрение для общества. Какое нам дело до государства? До различных партий? Мы хотим одного – чтобы уважали наше право, ничего больше.
Так говорили они, ожесточенные, замкнувшиеся в своем бессилии и отчаянье, на всех нападая.
– Говорят, что крестьяне живут по солнцу, – сказал как-то Вальтер. – Смешно! В деревнях и маленьких городах живут по часам на церковной колокольне.
Друзья сидели у окна трактира при гостинице, где они жили, и смотрели на рыночную площадь Лютьенбурга. В этот ранний вечерний час ни живой души не было на площади. Оконца старых ветхих домишек, расположенных на противоположной стороне, были занавешены, и лишь кое-где просвечивал огонек. Люди здесь не только вставали, но и ложились с курами. Медленно прогрохотала по булыжной мостовой телега, крестьянин и лошадь, казалось, тоже уже спали. Вскоре и этот шум затих где-то на соседней улочке. И во всем городе – ни звука, ни единого признака жизни.
– Ты и прав, и не прав, Вальтер, – нарушил долгое молчание Тимм, неподвижно глядевший в окно. – Мы с тобой исходили сейчас этот край от Северного до Балтийского моря вдоль и поперек, и мне кажется, что мы, коммунисты, и на селе можем отметить большие успехи. В каждом, даже самом отдаленном городке есть теперь наши товарищи. Даже в каждой деревне. Несколько лет назад об этом и речи не могло быть.
– Ну, конечно же, крупные политические события и здесь не могли пройти совсем бесследно!
– Само собой ничего не делается, Вальтер! Без трудной борьбы здесь не обошлось. И прогресс, который мы наблюдаем, – это прежде всего заслуга нашей партии. Она стала миллионной партией. У нас есть сторонники не только в крупных городах и промышленных центрах… Несомненно, завербовать крестьянина в союзники трудно, – задумчиво продолжал Тимм. – Подходить к нему нужно не с речами, а с делами, надо доказать, что в борьбе крестьян с юнкерством и незаконными требованиями государства лучший и наиболее верный союзник – это рабочий. Теперь у здешних прибалтийских крестьян, быть может, откроются глаза. Мне не хотелось бы знать, сколько их не пошло голосовать во время плебисцита.
II
Карл Брентен обрадовался сыну, вернувшемуся после трехнедельного отсутствия. Ему не хватало собеседника, с которым можно было бы поделиться всем, что волновало. Он хотел возможно больше знать о том, что делается в мире, хотел иметь полное представление обо всех событиях. Бабушка Паулина прочитывала ему до последней строчки печатавшиеся во всех газетах разоблачения, связанные со строительством тяжелого крейсера. Когда социал-демократы находились в оппозиции, они требовали в рейхстаге масла и молока для детей вместо крейсеров. А когда пришли к власти, крейсер был построен.
Радио вошло в повседневный быт Карла Брентена, без радио он уже не мог жить. Перелет воздушного корабля «Граф Цеппелин» через океан в Америку он называл мировым событием. Бабушка Паулина без устали читала ему статьи и репортажи о перелете; Брентену все было мало. Он ясно помнил день, – то было за много лет до мировой войны, – когда первый цеппелиновский дирижабль летал над Гамбургом. А теперь эти воздушные гиганты без посадки перелетают океан!.. До чего же додумается человеческий ум через сто лет?..
Внезапно семью Брентенов постиг тяжелый удар. Бабушка Паулина заболела и умерла. Началось с легкой простуды в туманные ноябрьские дни. Когда болезнь осложнилась болями в горле, Фрида взяла в больничной кассе талон на вызов врача.
Молодой врач осмотрел больную и просунул ей в дыхательное горло длинную трубку. Это было сделано не счастливой рукой. Когда он извлек трубку, бабушка Паулина крикнула: это не врач, а олух и пусть поскорее убирается вон.
Фрида помчалась в больничную кассу и попросила прислать более опытного врача. Когда она вернулась, мать лежала с широко открытыми глазами и хрипела.
– Мама, мама, что с тобой? Очень больно? – Фрида заметалась, не знала, что делать.
Паулина Хардекопф, уставив на дочь неподвижный взгляд, тяжело дышала. Фрида взяла ее высохшие руки в свои. Больная, однако, высвободила руки и стала водить ими по одеялу, описывая какие-то дуги. Фрида поняла. Она побежала к Дидерихам, взяла у них бумагу и карандаш, зажала карандаш в руку матери, голова которой была запрокинута назад. Фрида правильно поняла умирающую. Дрожащей рукой, не глядя на бумагу, Паулина Хардекопф кое-как написала:
«Я у…м…и…р…а…ю – прощайте все…»
В комнату вошел Карл. Фрида прочла ему слова, написанные матерью.
– Видишь, – сказала Фрида, – она в полном сознании!
Старуха подняла обе руки, как бы заклиная.
– Она слышала тебя, – шепнул Карл. Он сел у постели своего умирающего друга.
Карл Брентен не отходил от Паулины, пока хрипение, с каждой минутой затихающее, не перешло в долгий вздох и не замерло.
III
На похороны приехали все Хардекопфы. Карл Брентен до последней минуты не верил, что они явятся. Он спросил жену:
– Неужели ты думаешь, что твои братья придут?
– Да полно тебе, Карл, в самом деле! – рассердилась Фрида. – Как они могут не прийти на похороны матери?
– Ведь могли же они не ходить к ней последние десять лет?
Ну, а теперь Паулина Хардекопф умерла, и они все пришли – сыновья, невестки, внуки. Одной не было – Гермины Хардекопф.
По желанию отца Вальтер взял такси. Когда семья Брентенов подъехала, родственники, в полном составе, уже ждали их у ворот крематория. Фрида поздоровалась с братьями и другими родственниками. Вальтер повел отца прямо в зал крематория. Едва они сели, как заиграл орган. Зал постепенно наполнили все, кто пришел хоронить Паулину Хардекопф. Фрида заметила своего зятя Густава Штюрка. Она подошла к нему.
– Спасибо, Густав, что ты пришел!
– Твоя мать была хорошим человеком, – сказал старик.
Вальтер увидел, что все Хардекопфы уселись по другую сторону центрального прохода. Дядя Людвиг пришел с сыном Гербертом, невысоким, худеньким пареньком. Сморщенным и высохшим было лицо у Людвига, поперечные складки пересекли лоб, вокруг рта легли горькие морщины. Его братья Эмиль и Отто производили далеко не такое унылое впечатление, у них был вид вполне благополучных обывателей.
Фрида повела с собой Штюрка в первый ряд. Она шепнула мужу:
– Карл, рядом со мной Густав, Густав Штюрк!
Карл протянул правую руку, нащупал руку Штюрка и сердечно пожал ее. В эту минуту Вальтер увидел входящую в зал Кат. Она кивнула ему и села в сторонке.
Орган умолк. Тогда к изголовью гроба, утопавшего в венках и цветах, прошел человек в черном сюртуке и заговорил елейным голосом. Карл Брентен беспокойно задвигался на своем стуле.
– Кто это говорит?
– Тш! – шикнула Фрида и вполголоса ответила: – За эту цену полагается и речь.
– Возмутительно!
Фрида отчужденно посмотрела на мужа. Она не понимала, что здесь возмутительного.
Казенный плакальщик в черном сюртуке говорил о горестях и радостях усопшей, об ее славной семейной жизни, об ее материнском счастье; о том, что все дети, которым она дала жизнь, выросли ей на радость трудолюбивыми и уважаемыми людьми…
Карл Брентен стонал. Вдруг он резко поднялся и, тяжело ступая, ощупью пошел к гробу. Вальтер рванулся проводить его, но он энергично отклонил его помощь. У подножья гроба остановился и заговорил, хотя человек в черном сюртуке еще не кончил:
– Женщина, лежащая в этом гробу, заслужила слово благодарности от того, кто близко знал и любил ее. Паулина Хардекопф была хорошим человеком, человеком с большим сердцем и ясным умом. Она всегда трудилась для других. В этом небольшом кругу людей и за его пределами нет никого, кто не был бы ей чем-нибудь обязан, будь то даже человек, случайно встретившийся на ее пути. Мать и бабушка Паулина, спасибо тебе от всех нас.
Он поклонился и, вытянув руки вперед, ощупью добрался до своего места.
У казенного плакальщика хватило ума не продолжать своей речи и незаметно испариться. Взволнованная тишина стояла под высокими голыми сводами зала. Звуки органа ворвались в эту тишину, и гроб медленно стал опускаться.
Карл Брентен ни с кем из присутствующих не попрощался; он забрался в такси, и Фриде, Вальтеру и Эльфриде ничего другого не оставалось, как последовать за ним. Еще не все вышли из зала крематория, когда Брентены уже отъезжали.
– Хорошо ли, отец, что мы так сразу взяли да уехали? – спросил Вальтер. – У меня было такое чувство, что всем им хотелось еще побыть с нами.
– Так редко видимся, – сетовала Фрида. – Быть может, мы никогда и не встретимся больше!.. Да, Карл, нам и в самом деле не следовало сразу уезжать.
Но Карл Брентен слушать ничего не хотел.
– Не желаю я больше со всей этой родней знаться, – почти крикнул он. – Смотреть на них тошно. А говорить с ними – сверх моих сил.
– О боже, какой же ты ненавистник! – пробормотала Фрида.
– Уметь ненавидеть – это хорошо, – сказал Вальтер. – Но ненависть не должна быть слепа. А главное, ненавидеть нужно тех, кого следует!
– Кого следует? Кого следует? – бушевал Карл Брентен. – Я и ненавижу, кого следует. Ненавижу таких социалистов, которые строят тяжелые крейсеры, таких политических сосунков, как Людвиг, и таких жалких филистеров, мелких буржуа, как Отто и Эмиль.
Вальтер усмехнулся. Кому-кому, но только не отцу ругать других филистерами и мелкими буржуа. Но об этом сейчас не хотелось говорить, чтобы еще больше не взвинчивать его. Однако отец политически не прав, – этого уж Вальтер никак не мог оставить без ответа.
– Нет, отец, ты ненавидишь не тех, кого следует! Разве это правильно ненавидеть обманутых рабочих? Правда, тупость иных социал-демократов хоть кого может довести до отчаяния, но если мы будем всех их без разбора ненавидеть, мы никогда не завоюем их!
– Да, этих безмозглых тупиц мы действительно никогда не завоюем, – ответил Карл Брентен. – И незачем нам завоевывать их!
– Ого! – воскликнул Вальтер. – Ты, наверно, думаешь, что говоришь сейчас от имени партии? Но в данном случае ты не имеешь права на это, ибо партия стремится по возможности всех рабочих социал-демократов завоевать. Вспомни, что всегда говорил и говорит Тельман.
– Хватит! – крикнул Карл Брентен. – Тебе мое мнение известно, и я его менять не собираюсь.
– Такими методами ты мало кого убедишь, папа. И меньше всего меня.
– Успокойтесь же, наконец, и перестаньте спорить, – чуть не плача взмолилась Фрида. – Постыдитесь! Что подумает о нас шофер! Только что мы похоронили бабушку!
IV
Часы можно остановить, время не остановишь, говорит пословица. Время шло, и для бедняков оно хорошим не было, наоборот, с каждым днем им становилось хуже. Заработная плата сокращалась, а требования хозяев взвинчивались. Два миллиона безработных голодали. И все же то там, то здесь вспыхивали забастовки, рабочие стремились сохранить хотя бы остатки своих прав и остановить постоянное снижение прожиточного минимума. Предприниматели отвечали увольнением рабочих. Противоречия до такой степени обострились, что, казалось, вот-вот разразится открытая и тяжелая политическая схватка.
Доктор Ганс Баллаб, унаследовавший в прошлом году от своего умершего отца его посредническую контору, а к тому еще и немалое состояние, принадлежал к узкому кругу руководителей национал-социалистической партии в Гамбурге. Дела фирмы «Баллаб и сын» вел по-прежнему, вот уже два десятка лет, доверенный фирмы Вильгельм Зольтау. Таким образом, дела не отнимали у Ганса Баллаба особенно много времени. Из унаследованного капитала он пожертвовал в боевой фонд своей партии двадцать тысяч марок. Это было засчитано ему в серьезную заслугу и повысило его авторитет. Отныне в руководящих партийных сферах к его слову прислушивались, а он не скупился на высказывания по любым поводам, говорил и о политической слабости некоторых руководящих лиц, называя ее ужасающей, и забрасывал Мюнхен письмами. В них он чрезвычайно прозрачно намекал, что единственный человек, достойный поста гаулейтера в Гамбурге, это он, доктор Баллаб.
Критические замечания и предложения доктора Баллаба были приняты благосклонно. И в Мюнхене не могли не видеть, что нынешний гаулейтер Хинрих Лозе – субъект на редкость ограниченный; он может, как все люди такого типа, взбрыкнуть и задницей опрокинуть все то, что с трудом построил собственными руками.
Но Адольф Гитлер назначил гаулейтером в Гамбурге не доктора Баллаба, а некоего молодого человека по фамилии Кауфман. Услышав об этом, Ганс Баллаб иронически заметил, что фамилия Кауфман[12] – это единственное качество молодого человека, за которое он, видимо, и получил пост гаулейтера в Гамбурге. Однако Баллаб был достаточно умен, чтобы установить с новым гаулейтером дружеские отношения. Прошло немного времени, и он полностью подчинил своему влиянию нового гаулейтера; ровесник по годам, тот интеллектуально был несравненно слабее его. Именно Баллаб добился проведения такой политической тактики, которая и в Гамбурге все больше отравляла политическую атмосферу. Он предложил организовать агитационный марш штурмовых отрядов по улицам Сан-Паули. На возражение, что такой марш неизбежно приведет к кровопролитию, он насмешливо спросил: неужели кто-нибудь думает, что марксистов можно одолеть без пролития крови? Он потребовал вооружить штурмовиков револьверами.
– Самооборона не запрещена законом, – пояснил он, – а судьи с каждым днем все отчетливее понимают, куда ветер дует.
Доктор Баллаб обладал железной волей и несокрушимой энергией. Многие друзья по партии и руководители штурмовых отрядов под впечатлением от его, до одержимости, агрессивных речей, называли Баллаба бесстрашным революционером.
Агитационный марш штурмовиков по улицам Сан-Паули был проведен, и кровь была пролита. Любое политическое собрание кончалось потасовкой. Сидящие в засаде револьверные герои из штурмовых отрядов не различали, кто ротфронтовец, а кто рейхсбаннеровец. Стоило рабочим перейти к самообороне, как тотчас же вмешивалась полиция. Террористические методы вооруженных сторонников Гитлера вызывали возмущение в самых широких буржуазных кругах. В газете «Гамбургер анцайгер» можно было прочесть:
«Национал-социалистами владеет лишь страсть к разрушению, равнодушие к пролитой крови, внутренняя готовность к войне. Только тот, для кого поле битвы гражданской войны – дом родной, может с таким сытым самодовольством, с такой фанфаронской чванливостью увеличивать статистику подобных стычек».
Доктор Баллаб сунул в карман газету и поехал на Аусенальстер, к гаулейтеру. Адъютант Карла Кауфмана Эллерхузен был на месте, и втроем они обсудили меры, необходимые для того, чтобы раз навсегда заткнуть рот «буржуазным писакам», как назвал редакторов газеты «Гамбургер анцайгер» доктор Баллаб.
На следующий день главного редактора «Гамбургер анцайгер» доктора Манфреда Каульберга нашли с простреленным легким у подъезда его дома, а виновников преступления и след простыл.
После этого случая ни в одной буржуазной газете Гамбурга не появлялось ни единой критической строчки в адрес сторонников Гитлера.
Доктор Баллаб настаивал на том, чтобы Первого мая по улицам Гамбурга прошли маршем штурмовые отряды. Но тут уж ему не удалось сломить отпор ни руководителей партии, ни руководителей штурмовиков, Эллерхузен, тем временем назначенный Кауфманом бригадным командиром штурмовиков, первым запротестовал против предложения Баллаба.
– В этот день, – заявил он напрямик, – моих людей, даже если у каждого в кармане был бы револьвер, сметут с улиц, как цыплят. Нет, высокоуважаемый коллега, мы еще не так сильны. Не нужно во вред себе перегибать палку.
– Какие последствия, по-вашему, мог бы иметь такой марш? – спросил доктор Баллаб.
– Невероятное кровопролитие! – ответил руководитель штурмовых отрядов.
– Знаете ли вы, что полицей-президент Берлина запретил первомайскую демонстрацию коммунистов?
Это было всем известно. Но никто ничего не сказал. И доктор Баллаб продолжал:
– А ведь сей господин социал-демократ! Он, очевидно, не боится «невероятного кровопролития», ибо трудно себе представить, чтобы коммунисты подчинились.
На этот раз, однако, Баллаб не достиг своей цели. Гаулейтер отдал приказ: Первого мая никаких маршей.
Доктор Баллаб пригласил гаулейтера к себе. Он еще не сложил оружия. По-весеннему мягким апрельским вечером они сидели на террасе баллабской виллы на Эльбском шоссе.
– Поговорим откровенно с глазу на глаз, – начал хозяин дома, откупоривая бутылку красного вина. – В Берлине Первого мая предстоят бурные события. И если…
Гаулейтер перебил его:
– Ты полагаешь, что социал-демократ Цергибель велит стрелять в день Первого мая?
– Ему придется это сделать, – ответил доктор Баллаб. – Ты вдумайся только, каково положение внутри страны. Рейхсканцлер Генрих Мюллер – социал-демократ, социал-демократ Карл Зеверинг – министр внутренних дел. Почти во всех крупных городах полицей-президенты члены социал-демократической партии. Социал-демократы вынуждены и хотят показать буржуазным партнерам по коалиции свою надежность. На их ризах есть пятно – референдум по поводу возмещения убытков князьям. Они хотят смыть это пятно и Первого мая попытаются смыть его кровью. А мы должны доказать, что только национал-социалисты способны отстоять и сохранить буржуазный строй. Вот почему пассивность в данной ситуации не только ошибочна, это – политическая глупость.
– Понимаю, – ответил гаулейтер. – Но мы отнюдь не пассивны. Мы стоим под ружьем. Я разговаривал с Мюнхеном. Наше решение одобрено. Нам рекомендовали держать штурмовые отряды в полной боевой готовности.
– Половинчатая мера, – сказал доктор Баллаб и наполнил бокалы. – Но все же какой-то просвет. Значит, и в Мюнхене видят, каково положение вещей.
– Вот так так! – воскликнул гаулейтер. – Мне кажется, ты недооцениваешь фюрера!
– Наоборот! – смеясь, возразил доктор Баллаб. – Ну, прежде всего выпьем. За здоровье фюрера!
Они чокнулись, выпили. Доктор Баллаб, еще держа бокал в руках, сказал:
– Если бы мы не считали ниже своего достоинства пить за социал-демократов, я бы выпил за здоровье Цергибеля и ему подобных! На мой взгляд, социал-демократы этого толка превосходно льют воду на нашу мельницу. Мой покойный отец, который понимал это уже много лет назад, был не так глуп, как мне тогда казалось.
V
Первый день мая выдался чудесный. Сияло лучезарное весеннее солнце, нежно зеленела молодая листва, а в небе стояли мелкие белые облачка. На всех домах развевались красные и черно-красно-золотые флаги, улицы заливали толпы празднично одетых людей, с красной гвоздикой в петлице пиджака или на блузе.
Кат, держа за руку теперь уже пятилетнего сына, ждала у Нового Конного рынка колонну демонстрантов, двигавшуюся со стороны Сан-Паули, к которой Вальтер собирался примкнуть. Первыми подошли ротфронтовцы; впереди – плечистые знаменосцы, поистине богатыри, за ними – остальные, отряд за отрядом. Народ бурно приветствовал их. Маленький Виктор тоже усердно махал им ручкой. Оркестры ротфронтовцев играли новую, зажигательную, боевую мелодию, и рабочие пели:
Левой, левой, левой!
Бьют барабаны! Вперед!
Левой, левой, левой,
Красный Веддинг идет!
Кат вместе со всеми вслушивалась, стараясь разобрать слова песни.
Нас окружают фашисты,
Чернеет горизонт.
К оружью, пролетарии!
Рот фронт! Рот фронт!
Кат спрашивала себя, почему сегодня лица у этих людей не такие, как всегда? По принятым представлениям, они были в большинстве своем некрасивы. Одни – костистые, испитые, другие – изрезаны складками, точно высечены грубым резцом. Но сегодня все лица озаряла одна общая радость и гордость.
Подошла колонна краснофлотцев, крепких, загорелых людей. Их встречали особенно восторженно. Их песня хлестала воздух, как пулеметный огонь.
Верфи, шахты, заводы,
К оружью! Равняйте шаг!
Мы пронесем через земли и воды
Красный рабочий стяг[13].
Кат все глаза высмотрела, но Вальтера нигде не было. Ей ничего другого не оставалось, как примкнуть к одной из колонн и вместе с ней шагать к Моорвайде, куда стекались колонны демонстрантов со всех концов города для торжественного празднования дня Первого мая.
Вальтера не было в колоннах демонстрантов. На сборном пункте ему передали команду немедленно явиться в редакцию. Там уже все собрались, и шло распределение заданий. Стало известно, что в Берлине полиция стреляла в рабочих, которые вышли на демонстрацию вопреки запрету. По последним сведениям, на рабочей окраине Берлина в Веддинге дело дошло до настоящих уличных боев, до сих пор не утихающих. Вальтеру поручили составить короткую, пламенную листовку; ее немедленно отпечатают и распространят среди демонстрантов, сказал ему главный редактор Копплер и прибавил:
– Тебе известно, что полицей-президент Цергибель – непосредственный виновник сегодняшних кровавых событий. Это первый случай в Германии, чтобы социал-демократ запретил рабочим выйти Первого мая на улицы. Пиши без всякой оглядки. Тон должен быть суровым и решительным. Но помни, что берлинцы обороняются от полицейского произвола. О вооруженном восстании в настоящий момент и речи не может быть. Вопросы есть? Нет? Сколько времени тебе нужно?
– Час, вероятно.
– Самое большее, Вальтер! Наборщик уже здесь и ждет текста.
Набросок, через полчаса представленный Вальтером, тут же с небольшими поправками пошел в набор.
Еще до того, как по радио передали первые сообщения о кровавых стычках в Берлине, на улицах Гамбурга уже распространялась листовка.
Луи Шенгузен, ныне полицей-президент Гамбурга, приказал конфисковать листовку и запретил коммунистическую газету «Гамбургер фольксцайтунг». Полиция заняла редакцию и типографию. Вальтер Брентен, во втором квартале подписывавшийся ответственным редактором, был арестован.
Уже спустя несколько дней его вызвали на допрос к следователю. Ему предъявили обвинение в государственной измене, выразившейся в том, что в своей литературной деятельности он призывал к восстанию и насильственным действиям.
VI
Только через полгода, в конце января 1930 года, в имперском суде третьего созыва в Лейпциге состоялся суд.
Он проходил без участия общественности, при закрытых дверях. Тюремный надзиратель, который привез Вальтера из Гамбурга, ввел его в обшитый деревянными панелями большой судебный зал. Сидел там только адвокат, доктор Зантер, защитник Вальтера. Зантер был коммунистом, и Вальтер горячо пожал ему руку. В предварительном заключении, где Вальтеру было отказано в праве свиданий, получении газет и писем, Зантер рассказал ему подробности первомайских кровавых событий в Берлине. После запрещения «Рот фронта» стало ясно, зачем нужна была эта провокация, стоившая жизни тридцати трем берлинским рабочим. Знал Вальтер от своего защитника и о борьбе партии против американского плана порабощения Германии, так называемого плана Юнга, и о военных событиях на Дальнем Востоке – о победе Красной Армии над японо-китайской военной кликой в Маньчжурии. Защитник Вальтера коммунист Зантер был для него единственной связью с внешним миром.