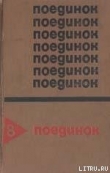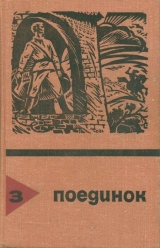
Текст книги "Поединок. Выпуск 3"
Автор книги: Виктор Смирнов
Соавторы: Николай Коротеев,Сергей Высоцкий,Анатолий Ромов,Федор Шахмагонов,Святослав Рыбас,Юрий Авдеенко,Виктор Делль,Виктор Вучетич,Владимир Виноградов
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц)
– Все понял, – сказал я.
– Главная заковырка состоит в том, – Каиров нервно передернул плечами, накинутая на плечи кожанка сползла и упала к чернильному прибору, – что ты должен попасть в Туапсе раньше Миколы Сгорихаты. Как только он доберется до города, сразу же отправится на явку. Такова была установка. И Микола будет выполнять ее...
– Как же быть? – сказал я. – Если морем...
– Морем ни шиша не получится. И долго это... И французы вдоль берега шныряют... Закуривай.
Товарищ Каиров достал портсигар. Закурили.
Потом он посмотрел на меня, словно о чем-то сожалея, и сказал:
– Выход такой... Есть у нас аэроплан на ходу. «Фарман». И летчик есть – отчаянный парень. Полетите на рассвете. Где-нибудь поближе к Туапсе найдете полянку. Приземлитесь. Оттуда – выложись, но завтра к вечеру в Туапсе прибудь.
– Сделаю, товарищ Каиров.
– Уверен. Но это только половина дела... Предупредив Сгорихату, ты направишься в поселок Лазаревский. Я дам тебе связь. В поселке находится престарелый и больной профессор Сковородников. И при нем коллекция древнерусской живописи, представляющая ценность. Надо сделать все, чтобы коллекция не была вывезена белыми за границу. Понимаешь, древние картины, иконы – это теперь народное достояние. Рано или поздно война кончится. А мы, большевики, должны думать вперед... – Каиров помолчал, затем неохотно сказал: – Не забывай лишь, чему я тебя учил. Храбрость, ловкость, находчивость – это все хорошо. Но главное для разведчика... – Он назидательно постучал пальцем по голове.
– Я все понимаю, Мирзо Иванович. Память у меня, как у волка ноги.
– Знаю. Потому и взял тебя в свое хозяйство... А теперь пошли. С пилотом познакомлю.
– Он?! – не поверил я своим глазам, когда в прихожей товарищ Каиров указал на плюшевое кресло, в котором сидел тот нахальный парень.
– Сорокин!
Парень вскочил, подошел к нам.
– Полетишь вот с ним, – сказал Каиров. – Ищите посадочную площадку. И приземляйтесь.
– Приземлимся – дело нехитрое, – ответил Сорокин. – Аэроплан загубить можно.
– Рискнешь, – твердо сказал Каиров. Потом он еще сказал: – Встретимся на аэродроме. Там получите окончательную инструкцию.
И ушел.
А мы остались вдвоем на красивом цветастом паркете, который видел, конечно, и мазурки, и вальсы, а теперь солдаты и матросы ступали по нему сапогами, как по каменке.
– Осознаешь? – спросил я.
Сорокин настороженно посмотрел в мою сторону. Признался:
– Думал, ты на меня накапал.
– Я, друг, не таковский. Ты лучше ответь: осознаешь ответственность и важность задания?
– Мы привычные. В нашем летном деле простых заданий не бывает. Это тебе не в пехоте щи хлебать.
– Что же, вас шоколадом кормят, пирожными?
– Угадал, – кивнул парень в знак согласия. И предложил: – Закурим. Трофейные.
Он картинно (знай наших!) вытащил из кармана коробку с сигарами, на котором розовым была нарисована пышногрудая девица, а за ней пальмы и море.
Не случалось мне раньше курить такой отравы. Говорят, большие деньги стоит! Поперхнулся дымом, закашлялся, слезы на глазах выступили.
А Сорокин от смеха разрумянился, как спелое яблоко.
– Деревня, – говорит. – На махре взращенная...
Саданул бы его по вывеске. Да нельзя. Кулак у меня, что колода, еще аэропланом управлять не сможет. Сдерживаю себя, говорю:
– Из Киева я. Город такой, между прочим, на реке Днепр есть. Гимназию окончил. Диплом учителя земской школы имею.
– Буржуй, значит...
– Отец мой – переплетных дел мастер. Водку не пил. И о детях заботился.
– Водку одни гады не пьют, – сказал Сорокин. – Давить таких надо...
– Молодой ты, верхоглядный... Не верю, что с аэропланом сладишь.
Помрачнел Сорокин, засопел. Расстегнул на груди куртку. Бумагу вынул.
– Читай:
Р С Ф С Р
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
Предъявитель сего, Сорокин Сергей Егорович, есть действительно краснофлотец воздухоплавательных частей Красной Армии, что подписями с приложением печати удостоверяется.
– Значит, Серегой тебя кличут.
– Серегой-то Серегой... Но я думаю, ты, как и отец, водку не пьешь, потому лучше называй меня товарищ Сорокин.
Вечер загустел. И луна желтыми ладонями приласкала город. Море ворочалось рядом, поигрывало свежестью. Пахли медом цветущие вишни, яблони. Улицы не казались такими покалеченными, как днем. Темнота убрала все лишнее. Только кони по-прежнему бродили по городу не в силах выбраться из лабиринта улиц, переулков. Они цокали копытами и грустно ржали.
Я остановил двух взнузданных тонконогих коней, седла с которых уже кто-то срезал. Сказал:
– Товарищ Сорокин, две ноги хорошо, а четыре лучше. Тем более аэродром неблизко.
Уже восседая на коне, я услышал в ответ что-то невнятное. Потом увидел, как краснофлотец воздухоплавательных частей подвел коня к опрокинутой бричке, вскарабкался на нее, рассчитывая, видимо, что таким образом сподручнее взобраться на лошадиный круп. Но конь, повертев шеей, сделал несколько шагов вперед, и Сорокину пришлось слезать с брички и опять хватать коня за узду, ругаясь при этом громко и со знанием дела.
– Ты смелее, – подсказал я. – Обопрись руками. Неужели никогда на лошадях не ездил?
– Лешаку они нужны в авиации. Кабы у них крылья были.
С горем пополам Сорокин все-таки обхватил конские бока ногами. Натянул узду. Попросил:
– Не поспешай...
Поспешать действительно было некуда, потому что вылет наш планировался лишь на рассвете.
...Маленько мы сумели вздремнуть. На прелых, словно прошлогодняя листва, матрацах, сваленных в ветхом сарае, стоящем на самом краю взлетного поля. Матрацы были из госпиталя, воняли йодом, карболкой. А крыша в сарае светилась как решето. И понятно, что матрацы прели. Но нам нужно было отдохнуть хоть пару часов, и лучшего места поблизости не оказалось.
Товарищ Каиров приехал за полчаса до рассвета на открытом автомобиле, который чихал, словно простуженный, стрелял, точно орудие, и чадил дымом, будто испорченная керосинка.
На заднем сиденье, за спиной шофера, куталась в платок какая-то женщина. У Каирова по-прежнему правая рука была на перевязи. И он морщился, когда ненароком делал какое-нибудь движение.
Подойдя к нам, он спросил:
– Отдохнули?
– Само собой...
Тогда, словно слепой, он ощупал здоровой рукой мое лицо. И, повернувшись к машине, коротко бросил:
– Побрить.
Женщина вышла из машины. Шофер включил свет, фары заглазели в темноте. И поле перед радиатором и дальше стало зеленым и нежным.
Открыв плоский маленький чемодан, женщина виновато сказала:
– Вода холодная.
Голос у нее был приятный. Сочный и не писклявый.
– Сойдет, – ответил я.
Она стояла спиной к свету. И я не видел ее лица, потому что оно оставалось темным, как тень. Но руки у нее были теплыми и мягкими. Я подумал: конечно же всю дорогу она их прятала под платком.
Пульверизатор шипел как гусь. Одеколон щекотал кожу.
Я сказал:
– Спасибо.
Женщина закрыла чемодан.
Это удивило меня. И я спросил:
– А Сорокина?
– Он бреется один раз в две недели, – без подначки, а как-то очень равнодушно ответил товарищ Каиров.
Но Серегу аж передернуло. Он засопел и повернулся ко мне спиной. Каиров распахнул дверку, взял с заднего сиденья узел средних размеров, что-то сказал шоферу... Дрогнув и задымив, машина увезла парикмахершу в дальний конец поля.
Узел упал возле моих ног.
– Переодевайся, – сказал Каиров.
Трава была влажной, а небо серым. И уже можно было различить лица и детали одежды, если стоять так близко, как стояли мы.
Я рванул веревки. В узле оказалась форма белогвардейского поручика.
– Да, – сказал Каиров. – Там, в Туапсе, у них сейчас винегрет. Мешанина разных частей и подразделений. Никакого планомерного отступления они организовать не смогли. Драпали на юг каждый по собственной инициативе... Вот документы. Подлинные. Ты – Никодим Григорьевич Корягин, офицер связи пятого кавалерийского корпуса генерала Юзедовича, откомандированный в распоряжение штаба Кубанской армии. В штабе без нужды не появляйся. Для встречи с патрулем – документы надежны... Запомни адрес проваленной явки. Улица Святославская, дом восемь. Я никогда не был в Туапсе, не знаю этой улицы. Ты ее разыщи. И сделай все, чтобы встретить Миколу Сгорихату. Повтори адрес.
Я повторил.
Каиров удовлетворенно кивнул. Посмотрел на Сорокина:
– Найдешь поближе к Туапсе поляну или лощину, приземлишься. Если не сможешь взлететь, замаскируешь самолет. И будешь пробираться навстречу нам.
3. Текущий момент
Армейской конференции, которая должна была состояться в самое ближайшее время, предстояло выбрать делегатов на IX съезд партии. Каиров намеревался выступить в прениях по текущему моменту. На партийных собраниях Мирзо Иванович редко пользовался трибуной, ограничиваясь, в случае нужды, репликами с места, порой по-восточному цветистыми, но всегда дельными и нередко остроумными. На этот раз он собирался изменить своему правилу, ибо коммунисты, выдвинувшие его на конференцию, просили обязательно сказать несколько горячих слов от их имени про революцию, про мужество, про текущий момент.
Вернувшись с аэродрома, Каиров не лег спать, что, кстати сказать, было ему крайне необходимо, а сел за письменный стол с решением набросать конспект своего выступления.
Он задумался, призвав в помощники благословенную предутреннюю тишину. Но, увы, она тут же была нарушена скрипом колес, ржанием лошадей, забористым солдатским словом.
Каиров подошел к окну. Распахнул раму. Дом был одноэтажный, но стоял на высоком фундаменте. И двор поэтому лежал внизу. Из окна хорошо было видно, что тыловики-снабженцы превратили двор в продовольственную базу. И вот сейчас двое красноармейцев разгружали телегу. Они сняли задний борт, положили наискосок доску, пытаясь скатить по ней бочку. Но лошадь ненароком ступила вперед. Доска соскочила, бочка тоже. Ударилась о бетонный выступ фундамента и раскололась надвое.
Сладковатая свежесть утра отступила под натиском проперченного и начесноченного рассола, запах которого был таким духовитым и упругим, что казалось, его можно потрогать руками. Небо глянуло на огурцы. И они сделались сизыми, потому что облака стояли сизые и неподвижные, как лужи.
– Угостите огурчиком, ребята, – попросил Каиров.
Солдат, прервав замысловатое словоизвержение, изумленно посмотрел на окно. И вероятно узнав Каирова, подобрал ему с полдюжины самых крепких, самых славных огурцов.
– Спасибо, – сказал Каиров. И вернулся к столу.
Значит, текущий момент. Оценка ему, безусловно, благоприятная. Да, да, благоприятная. Главная причина тому – VIII съезд партии. На съезде правильно решен вопрос о строительстве Красной Армии, разоблачена «военная оппозиция», призван к порядку Троцкий, стремившийся к ослаблению партийного влияния в армии.
Взяв карандаш, Каиров написал:
«Сопутствующие причины благоприятности момента.
Июль 1919-й – армия Юденича отброшена за Ямбург и Гдов.
Январь 1920-й – расстрелян адмирал Колчак и члены его «правительства».
Март 1920-й – взят Новороссийск, армия Деникина дышит на ладан.
О чем нельзя забывать:
Граница меньшевистской Грузии начинается в 10 верстах южнее Гагр. Значит, нужно быстрее освобождать Туапсе, Лазаревский, Сочи...
Врангель сидит в Крыму.
На польско-русской границе – Пилсудский...»
– Если не секрет, какие сутки вы не спите, Мирзо Иванович? – Уборевич, командарм девять, был, как всегда, превосходно выбрит, подтянут. И пенсне, отражая бледную синь рассвета, скрывало следы усталости возле глаз.
– Нам бы об этом вспомнить вместе, Иероним Петрович, – вздохнул Каиров. – Угощайтесь.
Уборевич даже пальцем повел по губам – до того аппетитными показались огурцы.
– Непременно для князей готовили, – улыбнулся он. – Вкусно.
Каиров спрятал конспект в папку. Сказал:
– Отправил я парня в Туапсе на самолете.
– Пилот надежный? – Уборевич сощурился. Морщины обозначились резко на лбу. Сбегали к переносью.
– Надежный. Но все равно душа болит.
– Без этого нельзя. Без боли мало что в жизни получается.
– Так-то оно так... Да дело совсем новое.
– Я понимаю. Давай порассуждаем вслух... Если все обойдется хорошо, то мы будем иметь перспективную игру с далеким прицелом. Если дело на каком-то этапе сорвется или получит нежелательное для нас развитие, то и в этом случае мы основательно прощупаем контрразведку белых. От этого тоже польза немалая...
– Хорошо. Будем ждать.
4. Партизаны (продолжение записок Кравца)
Мне приходилось лазать по горам. Смотреть вниз на долину, где домики кажутся размером с ботинок, деревья – не длиннее штыка, а спешащая к морю речушка выглядит тонкой и гибкой, как уздечка.
Нечто подобное ожидал я увидеть из аэроплана. И чуточку опешил, когда взглянул за борт. Под нами проплывали горы, но не прежние, гордые и высокие, а покатые, приземистые, словно упавшие на колени. Деревья, облепившие их, напоминали темные кляксы. А дома... Я понял, почему на топографической карте их рисуют в виде крохотных прямоугольников.
Облака, белые и круглые, курчавились над горами. И выше нас. Но мы ни разу не попали в облако. Мне так хотелось потрогать его руками.
Необшитый корпус самолета был гол, как рама велосипеда. И место, где мы сидели, походило на, корзину, зажатую сверху и снизу крыльями. Мотор гудел громко, но очень ровно. Я быстро привык к его монотонному гулу. И мне нравилось лететь. И задание не казалось сложным и опасным. Колючий воздух холодил лицо. Забирался под шинель. Мне пришлось нагнуться к ветровому щитку. И видеть перед собой лишь небо да шлем Сереги Сорокина. Шлем был поношенный, темный. А небо – очень красивым: с востока золотистым, а с запада густо-голубым.
Широкие крылья «Фармана» немного покачивались, а иногда машину бросало в «воздушную яму», и сердце тогда замирало, как на качелях.
Сорокин стращал меня накануне, что я могу укачаться, вывернуться наизнанку и вообще превратиться в живой труп. Но ничего подобного не случилось. Я чувствовал себя превосходно. Ибо верил в удачу еще на аэродроме, когда с аппетитом ел горячую кашу, запивая ее свежим молоком. Потом товарищ Каиров развернул карту, уточнял с Сорокиным маршрут полета, а я ходил по влажной траве и смотрел в небо, на котором угасали звезды...
Внезапно тишина пинком отшвырнула рев мотора назад, за хвост самолета, и горы стали разгибаться, поднимаясь во весь свой гигантский рост. Я не сразу понял, что мы падаем, а только тогда, когда Сорокин обернулся ко мне и я увидел его злое, бледное лицо. Я услышал:
– Мотор отказал!
Мы падали, не кувыркаясь с хвоста на нос, не переваливаясь с крыла на крыло, а планируя, точно бумажный голубь, пущенный ребенком.
– Не психуй! – крикнул я. – Может, сядем?
– Куда?
На самом деле, куда? Не садиться же на вершину горы.
– Серега! Лощина!
– Вижу!
– Рули туда.
– А если камни?
Но выбирать не из чего. Да и время не позволяет. Наш «Фарман» делает полукруг. И лощина дыбится перед нами...
Я уловил момент, когда мы коснулись земли. Толчок получился сильный, упругий. Но у меня сложилось впечатление, что аэроплан подскочил, будто мячик, и мы опять зависли в воздухе. В действительности же мы катили по лужайке – совсем не широкой, короткой, – врезались в плотный кустарник. Едва ветки захлестали по корпусу и крыльям, как взревел мотор, отчаянно завертелся пропеллер. Сорокину не сразу удалось его утихомирить.
Когда же вновь наступила тишина, он повернулся ко мне и сказал:
– Видишь, какой подлый! – повторил последнее слово несколько раз.
Выбираясь из кабины, предложил:
– Попробуем его, паскуду, развернуть.
Я тоже спрыгнул на землю. Ой, как приятно стоять на теплой, пахнущей весной земле. Разглядывать траву зеленую, букашек разных. А первые шаги делаешь – состояние такое, словно под хмельком.
Сорокин обошел самолет.
– Собачье дело, – говорит, – левое шасси погнули.
– Туапсе далеко? Он пожал плечами:
– Верст пятьдесят, возможно...
По горам. Без дороги. Такое расстояние за день мне никак пешком не одолеть, если даже я из кожи вылезу. Конечно, вслух этого не сказал, только подумал.
А Сорокин говорит:
– Давай этого слона выкатим. Молоток у меня есть. Может, шасси выпрямить удастся.
Я сбросил шинель, Сорокин – куртку, потому что солнце висело над лощиной и было тепло и немного душновато. Молодая трава, молодые листья зеленели радостно, чисто. Запах от земли шел добрый, густой.
Стоило обойти самолет, как я сразу убедился: прежде чем его выкатить, нужно избавиться от кустарников, в которых он зарылся, как телега в сено.
А характер у Сорокина оказался раздражительный. Словами лихими жонглирует, точно циркач, а дело – ни с места.
Возимся мы полчаса, возимся час. Машина по-прежнему в кустах. И надежда вытащить ее с каждой минутой подтаивает, как льдинка. У меня же в голове одна мысль: надо спешить в Туапсе, надо спешить...
Вдруг за спиной – бас:
– Руки в гору!
Поворачиваюсь. Ребята обросшие, с карабинами. А на шапках красные ленты. Партизаны, значит.
– Братцы! – кричу я. – Какая удача!
– Шакал тебе братец, сволочь господская. Поднимай руки!
Партизан шестеро, А который басит, тот, видимо, главный. Здоровый такой, насупленный. Брюки ватные, в сапоги заправленные. Стеганка желтыми и зелеными пятнами бросается – на земле, знать, лежал. Как гаркнет:
– Обыскать!
Ко мне невысокий подбежал. Мужчина годов на тридцать. С лица белый, и ресницы, и брови, и глаза белесые, а губ словно совсем нет – уж такие они тонкие.
Опасливо сказал:
– Ты только не шуткуй. А то вмиг начинку свинцовую схлопочешь.
Обшарил он меня. Документы, револьвер... все забрал. Вслух читает:
– «Поручик Никодим Григорьевич Корягин, офицер связи пятого кавалерийского корпуса генерала Юзедовича...»
У партизан глаза от удивления на лоб лезут.
– Вот так птица.
Потом удостоверение Сорокина читать стали:
– «...есть действительно краснофлотец воздухоплавательных частей...»
Реплики:
– А сигары в розовой коробке – барские.
– Ни черта не поймешь.
– Ярмарка!
Тонкогубый:
– А мне все как сквозь стеклышко. Поручика предлагаю при аэроплане шлепнуть, а краснофлотца частей этих самых, – он показал рукой на небо, – доставить до командира. Голосуем.
Трое из партизан подняли руки, потом и главный поднял, но только не для голосования, а чтобы почесать затылок. Этой секундой я и воспользовался.
– Меня нельзя при аэроплане шлепать, – говорю. – У меня специальное задание... Ведите и меня к командиру.
– Брешет он, собака белогвардейская! – закричал тонкогубый и щелкнул затвором. – Хватит, попили нашей кровушки.
Он, может, и прикончил бы меня сразу, но молчавший до этого Сорокин психанул окончательно.
– Вы что, очумели, паразиты проклятые. Никакой он не белогвардеец, а самый настоящий рядовой боец Красной Армии...
Сорокин хотел сказать еще что-то, но тонкогубый опередил его, визгливо выкрикнул:
– Предлагаю шлепнуть у аэроплана и ентого, – он указывал штыком на Сорокина. – Голосуем!
5. Благоразумие графини Анри
– Милый капитан, я уезжаю. – У графини были прямо-таки лимонные глаза. И по цвету, и по форме.
«Если бы сбылась голубая мечта моего детства, – подумал Долинский, – и я, как Брешко-Брешковский писал детективные романы, я бы начал главу о графине Анри так: «Она была красива. Но как-то очень не по-русски. И обычные сравнения, которыми наделяют российских женщин – березка, ивушка, рябина, совсем не шли к ней. И ее легче было сравнить с магнолией или кокосовой пальмой, волей шального случая оказавшейся на черноморском берегу».
В меру банально и романтично.
Долинский, почтительно поцеловав руку графини, опускал ладонь медленно, чувствуя, как нежны и холодны ее пальцы. Она смотрела на него со своей обычной загадочной улыбкой. А может, и не загадочной, а просто порочной. Но Долинскому не хотелось в это верить. Потому что он знал графиню очень мало, знал с самой лучшей стороны. А слухи... К черту все слухи! Жизнь, подобно глыбе, сдвинулась с места и покатилась под уклон, давя и пачкая все святое. И прежде всего веру. Это было особенно жутко, потому что без веры человеку нельзя никак. Долинский считал, что верить в женщин и легко, и трудно, но еще и мистически приятно верить в женщину вопреки логике, вопреки слухам, сопутствующим ее имени.
Вторым абзацем мог быть такой: «Графине, видимо, исполнилось тридцать. Или исполнится совсем скоро. Наверно, ночами она задумывается над тем, что уже подступает старость, и рассматривает себя в зеркало с грустью, трепетом, тоской».
Годы... Долинский тоже не забывает о них, однако не считает морщин на своем лице, потому что они; морщины, равно как и седина, свидетельствуют об опыте, о зрелости, а это весьма важно для мужчины.
К сожалению, опыт и зрелость, подобно духовным ценностям, – понятия не материальные. Может, в другое время, спокойное, как осеннее течение реки, личные качества человека, так сказать, сокровища непреходящие, имели известную цену, но в нынешнее лихолетье люди, в их числе и молодые красивые женщины, уж очень откровенно предпочитают уму бриллианты, а благородству, честности – крупную сумму в твердой валюте.
Долинский не имел намерения осуждать графиню. Да и осуждение как понятие, как критический процесс по отношению к женщине молодой, красота которой достойна всяческих эпитетов, едва ли соответствовало этическим представлениям капитана. Он мог принимать женщину или не принимать. Графиня Анри принадлежала к первым.
Они шли аллеей к морю. И кипарисы стояли вдоль нее породистые, как аристократы на высочайшем приеме. Море лежало желтое, раздольное. Солнце ласкало его жарко, с томительной весенней страстью. И юные липы смотрели на море с открытой завистью, и птицы шалели, словно гости на свадьбе.
– Евгения, – сказал он, коснувшись рукой ее локтя. Она остановилась. Завороженный ее профилем, он вдруг забыл слова, которые хотел сказать. Ему почему-то стало плохо – не в переносном, а в самом прямом смысле. Он понял, что может упасть на этой тщательно заасфальтированной дорожке. И от этой мысли пришел страх. И холодным потом покрылись лицо и руки.
– У вас перевязана голова, – сказала графиня. – Ранение?
– Пустяки.
– Не храбритесь, Валерий Казимирович, – она говорила тихо, но как-то очень озабоченно, словно была его матерью или, по крайней мере, старшей сестрой. – Епифан Егорович Сизов заверил меня, что немногие люди вашей профессии переживут эту весну и уедут к благословенным заморским берегам.
– Я не собираюсь к заморским берегам.
– Верите в победу?
– Верю или не верю, какая разница?.. Лишь Россия для меня земля благословенная.
– Вы полагаете, для меня Россия – пустое место.
– Ваши предки были французами.
Он чувствовал себя уже лучше. Уверенно взял женщину под руку. И они продолжили путь по аллее к морю.
Она шла очень легко, чуть наклонив голову. И он видел улыбку в уголках губ ее и догадывался, что лимонные глаза графини не подвластны грусти.
– Моя прабабка была японкой. Да и у вас, бесстрашный капитан, к русской крови добавлена не только польская, но, может, еще и немецкая, и монгольская. Если историкам придется разбираться в вашем генеалогическом дереве...
– Они обратятся к вам за помощью, – перебил Долинский, что очень удивило графиню, заставило остановиться. Посмотреть в лицо спутнику.
– Ну все, – потерянно произнесла она после небольшой паузы, когда они оценивали друг друга взглядами. – У вас на лице, как в библии, написано и будущее, и прошлое. Не отрицайте, вы верите, что ваше мужество и бескорыстие принесут вам известность и признание соотечественников.
– Я не думаю об этом.
– Правда была бы вашим счастьем.
– Я не вижу иного счастья, как в спасении отечества.
– И вы собираетесь спасать его, работая в контрразведке.
– Совершенно верно.
– Вас убьют, капитан.
– Так вещал Епифан Егорович Сизов?
Она усмехнулась открыто, и доброта не покинула ее лица, равно как не покинули убежденность, спокойствие.
– Епифан Егорович Сизов со вчерашнего дня мой супруг. Он имеет в швейцарских банках золота на восемь миллионов и еще шестнадцать судов в Средиземном море. Его непроходимое невежество может вызывать улыбку и даже раздражение, но он дальновидный человек, и в этом ему отказать нельзя.
Графиня Анри говорила назидательно и громко, как гувернантка, вдалбливающая премудрости бестолковому воспитаннику. Но Долинский плохо слышал ее, складывая в уме новый кусок романа.
Пусть будет так...
«– Я счастлив за вас, графиня. И прошу не судить строго мою дерзость. Удобно, когда общество имеет одну гарантированную конституцию, но каждый человек живет по своей собственной конституции, которая внутри нас.
– Вы хотите сказать, что наши с вами конституции несовместимы?
– Ваши чуткость и проницательность ничуть не уступают вашей красоте.
– Но есть же еще чувства, не подвластные уму.
– Вот почему я буду бороться до конца. И хочу верить, что, если стану героем, ваша благосклонность и сердечность не оставят меня. А коли погибну – бог нам судья... И то и другое лучше, чем следовать за вами на Лазурный берег и быть стареющим пажем у ваших ног...
– Вы не видели ног, о которых говорите, капитан. Иначе бы не торопились с выводами.
– Охотно верю, графиня. Но счастье, увы, выпадает не каждому».
«С ногами, конечно, перебор, – подумал Долинский. – А впрочем, в стиле времени. Графиня двадцатого года должна говорить именно так. Может, и правда, что год назад в пропахшем рыбой Ростове полуголодная Евгения за небольшое вознаграждение демонстрировала господам офицерам свои прелести. И не только демонстрировала, но иногда позволяла ими пользоваться».
Они вышли к берегу моря, который был не расчищен. Водоросли лежали на камнях, как рыбацкие сети. Коряги и щепы, обглоданные волнами, чернели на берегу.
Голубая дача купца Сизова стояла под горой близ Сочинского шоссе, недалеко от поселка Лазаревский. Место было редкостным по красоте, сухим, хорошо продуваемым ветрами. Построенная в начале века, за десятилетие до первой мировой войны, дача несомненно являлась свидетельством благополучия и богатства ее владельца.
Долинскому не приходилось раньше слышать фамилию Сизова в ряду крупнейших русских миллионеров. Но ведь сегодня положение с капиталами весьма своеобразно. Размер богатства нынче зависит от того, где были вложены капиталы – в России или за границей. Кто-то потерял все, кто-то много выиграл.
Много ли выиграла графиня Анри? На это может ответить только будущее. Кажется, у купца Сизова нет прямых наследников. Он бездетен. А супруга его лет пять назад отбыла в мир иной. Может статься, что восемь миллионов золота в швейцарских банках и шестнадцать действующих паровых судов очень скоро достанутся молодой графине...
– Счастье выпадает тем, кто за него борется. Это прописная истина, капитан. Но ведь все великие истины уже прописные.
Долинский порадовался. Графиня говорила словно на страницах романа.
– Я согласен с вами, Евгения. Я согласен очень. Я готов бороться за свое счастье. Потому не складываю оружия. Потому утверждаю: за пределами России для меня места нет.
– Если у человека есть деньги, для него найдется место на земном шаре. Но как я догадываюсь, именно в бедности – истоки вашего патриотизма?
– У нас с вами странный разговор. И совсем не в тональности, уместной для беседы очаровательной женщины с мужчиной, влюбленным в нее.
Графиня требовательно спросила:
– Это признание или издевка?
– На последнее по отношению к вам я не способен, – ответил он вполне искренне.
Она разочарованно сказала:
– Вы опять ушли от ответа. Вот что значит сыскная школа.
Повернулась и не торопясь пошла прочь от моря по аллее, тянувшейся к даче. Долинский покорно последовал за ней.
– Мы уезжаем сегодня, капитан. Как только прибудет авто из Сочи. Епифан Егорович вызвал пароход. Завтра на рассвете он уйдет в сторону Стамбула. Я могу пригласить вас совершить с нами это путешествие, но, полагаю, вы откажетесь. Ибо подобный поступок означал бы дезертирство из рядов доблестной русской армии и с вашими принципами несовместим.
– Я восхищен вашей дальновидностью.
– Спасибо. Однако о дезертирстве может идти речь до тех пор, пока существует армия. Я верно схватываю суть?
– Верно.
– В самое ближайшее время остатки Кубанской армии прекратят существование.
– Смелый вывод.
– Деловые люди перебираются в Грузию, а кто побогаче – в Европу. Это признак краха.
– У вас государственный ум, Евгения.
– По мере того как вы будете узнавать меня, капитан, вы откроете во мне много неожиданных достоинств.
– Оптимизм неизменно вселяет надежду.
– Приятно слышать нотки бодрости в вашем голосе.
– Я вовсе не нытик. – Он уже не был уверен в том, что этот разговор происходил наяву, а не в его воображении.
– Выслушайте совет, – решительно сказала графиня. – В Лазаревском сейчас проживает известный искусствовед, собиратель древнерусской живописи профессор Михаил Михайлович Сковородников... При престарелом профессоре находится уникальная коллекция древнерусской живописи. Епифан Егорович предлагал за нее миллион. Сковородников отказался.
– Сколько же коллекция стоит в действительности?
– Этого никто не знает. Но уж если Сизов дает миллион, то два миллиона она стоит точно. Вы догадываетесь, что от вас требуется?
– Уговорить профессора дать согласие на продажу.
– Не совсем. Попросите у него коллекцию.
– Я не понимаю.
– Объявите себя знатоком, любителем. Я не знаю, чертом, дьяволом. Попросите коллекцию на хранение. Для народа русского. А если откажется, конфискуйте...
– Кто мне даст на это право?
– Я даю вам право. Я... Когда коллекция будет в Европе, я уговорю мужа заплатить полтора миллиона. И тогда вам незачем будет ждать химерной победы над большевизмом, чтобы женщины видели в вас героя. Мужчина с деньгами – победитель всегда.
Долинский подумал: «Вот и все. Моя ступенька в социальной лестнице та, на которой стоят громилы».
Родилась концовка главы романа:
«– Графиня, – гневно произнес капитан. – Вы смеете предлагать мне это?
Поистине издевательская усмешка промелькнула в глазах и на губах женщины. Словно процеживая слова, она сказала спокойно и ясно:
– В таком случае, я могу предложить вам гоголь-моголь. Он помогает при импотенции.
Она повернулась. Гордая, стройная, продолжала путь к дому, только несколько быстрее, чем прежде...»
Качнув головой, точно стряхивая наваждение, Долинский взял графиню за руку. Сказал устало:
– Я подумаю над этой идеей, Евгения.
6. Побег (продолжение записок Кравца)
Балки, почерневшие, дубовые, распирали стены сарая, держа на себе стропила, крытые старой дранкой. Солнечный свет, ручьями сочившийся сквозь дыры, золотил паутину, которая, точно сеть, свисала между балками, а паук, маленький, но пузатый, прятался, стервец, в самом углу под крышей, поглядывая крохотными, хитрыми глазами.
Мы лежали на сухих кукурузных стеблях, что были свалены в углу сарая.