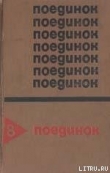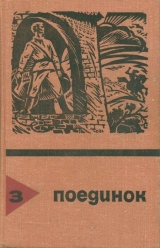
Текст книги "Поединок. Выпуск 3"
Автор книги: Виктор Смирнов
Соавторы: Николай Коротеев,Сергей Высоцкий,Анатолий Ромов,Федор Шахмагонов,Святослав Рыбас,Юрий Авдеенко,Виктор Делль,Виктор Вучетич,Владимир Виноградов
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц)
– Ну дак, ваш бродь... – напомнил сосед.
– Вот я и говорю, разные слухи ходят, – начал Сибирцев, пристально глядя в огонь. – Ну, например, что мужику серьезное облегчение вышло. Отменили продразверстку.
Мужики, уставившись на него, беспокойно и напряженно молчали.
– Это как же отменили? – заносчиво спросил рыжий мужик с той стороны костра.
– А так, – спокойно ответил Сибирцев. – Пришла пора и отменили. Будет теперь продналог. Сдал, что положено, а остальное – твое. Хочешь – на базар вези, хочешь – свинью корми. Что хочешь, то и делай. Твое.
– Не, врешь, ваше благородие. Как же так отменили? – нерешительно протянул сосед в лаптях.
– Не веришь – твое дело. Ваши тамбовские мужики, сказывают, в Москве были. Они и привезли весть. Не сегодня-завтра декрет на каждом столбе висеть будет.
– Врет он! – вскинулся рыжий мужик. – Ничего не отменяли. Вот и Митька...
– Дерьмо ваш Митька, и вы – дерьмо, – угрюмо сказал Сибирцев. – Сами подумайте, на кой ляд России теперь продразверстка? Белых, считай, поколотили. Чего ж дальше-то мужику страдать? На нем, на мужике, ведь вся земля держится. Так я говорю?
– Так-то оно так, – буркнул кто-то, – да только мужику-то все боком выходит.
– А вот чтоб не выходило боком, и вводят продналог.
– А ты сам, ваше благородие, из каких же будешь? – с издевкой спросил рыжий.
– Из тех, которые людям жизнь дают. Вот как нынче, – Сибирцев кивнул в сторону землянки. – А у меня у самого, вот кроме этого полушубка да сапог, нет ничего. Все богатство.
– Ну, есть ли, нет – это еще поглядеть надо. С нами-то чего калякать, ты с Митенькой нашим покалякай. Он тебе враз все разобъяснит.
Остальные мужики помалкивали, пряча глаза. И Сибирцев понял, что этот рыжий у них сейчас главный. С ним и будет разговор.
– С Митькой я говорить не стану. Не о чем нам с ним беседовать. Я свое дело сделал, пойду восвояси. Это вы тут сидите, ждите, чтоб слухи какие доползли. Шиш они станут сюда ползти. Нынче слухи не ползают, по воздуху летают. Как шрапнель. А главный слух такой, что каюк приходит Александру-то Степанычу. Мол, пожаловались мужики те в Москве на разбой, что творится в губернии, и теперь идет сюда регулярная армия. А что это такое, вы все должны знать. Воевали поди.
– Не слушай его, мужики, – рыжий вскочил, заорал, размахивая кулаками, – гад он большевистский! Комиссар! Я их за ребра вешал и всегда резать буду!.. Ах ты, старая паскуда! – он вдруг увидел Стрельцова. – Ах ты, змея! Вот ты кого привел! Ну погоди, сволочь! Дай Митеньке вернуться, он и тебя, и сучонку твою, и этого комиссара за ноги раздернет!
Мужики глухо зароптали.
– Брось, Степак, чего глотку рвешь?..
– Добро ведь человек сделал...
– Сядь, не скачи, дай с человеком поговорить. От вас и слова нового не услышишь...
– Истинно как волки в логове...
Выждав паузу, Сибирцев стремительно поднялся.
– Цыц! – рявкнул он рыжему. – Как стоишь, сволочь? Порядок забыл?! Смирно! Волю ему, сукину сыну, дали! За ноги вешать научился. Я тебя, – Сибирцев над костром протянул крепкий свой кулак, – вот этим враз научу. Сядь и молчи, когда умные люди говорят.
Рыжий, злобно озираясь и тяжело дыша, снова сел на свое бревно. Сел и Сибирцев, запахнул полушубок. Сказал спокойно:
– Угадал этот болван, мужики. Комиссар я. И нет в этом ничего плохого. Ежели кто грамотный, тот знает, что всегда были комиссары, лет триста уже. Только тех власть назначала, чтоб народ смирять и давить, а нас – сам народ, чтобы давить вот такую контру, как ваш рыжий Степак. И продразверстку самый главный комиссар лично отменил – Лениным его зовут. И к вам я по своей воле пришел, не шпионить, а помочь. Марье вон помочь, вам. Не хотите, не надо. Только знайте, не вечно быть большой воде. Лето придет, и выкурят вас отсюда, как злое комарье. Всех начисто выкурят, и не пикнете.
Сибирцев взглянул на старика и увидел, как тот делает ему из темноты какие-то знаки.
– Ты чего, Иван Аристархович? Подойди ближе.
– Да я, ваше благородие, господин...
– Брось ты свои благородия. Кончились они... Руки! – снова рявкнул он, мгновенно выхватив наган. – Руки, Степак!
Тот медленно потянул руки из карманов шинели.
– Кто там поближе, мужики, заберите у него пушку. А то начнет палить сдуру, новорожденную перепугает.
Один из мужиков достал из шинели Степака револьвер и сунул себе в карман. Сибирцев тоже спрятал наган.
– И последнее, что я вам скажу, мужики, а потом уйду. Дала вам Советская власть неделю на раздумье. Решайте, тут ли гнить, либо хозяйство поднимать. Указ о том уже есть. Вот он указ, – он вытащил давешний листок, протянул соседу. – Сами прочитаете. Обсудите. Знайте одно: наша с вами власть еще никого не обманула. Она теперь говорит, что те, кто не участвовал в зверствах против населения, должны в течение недели выйти из леса. Они будут прощены. Дезертир ты там или мужик, запутавшийся в обстановке, обманутый врагами. Кто виновен, получит свое, но Советская власть смертью карать не станет. Убийцам же и тем, кто будет продолжать борьбу, тем конец один. И главное, Митьку Безобразова-то не бойтесь. Он за свои поместья мстит семьям вашим, а у вас какая месть? Вам дали землю. Ваша она навечно. И мы не позволим ее у вас отнять всяким Безобразовым. Соображайте, мужики. Нате вам махорки, покурите, подумайте. Неделя еще есть. Больше не будет... Пойдем, Иван Аристархович, проводи меня. Все равно без твоей помощи не выйти, а дорогу в этих болотах разве запомнишь?
Сибирцев встал, надел полушубок, застегнулся, поднял шапку и саквояж.
– Прощайте, мужики. И не бойтесь комиссаров. Я ведь и сам не сразу к ним пришел. Умные люди подсказали, научили. А мы с вами наверняка больше не встретимся. Проездом я тут. Случай свел.
Вместе с ним поднялось трое мужиков.
– Проводим, – сказал один.
– Ну тогда пошли, – улыбнулся Сибирцев.
Он еще раз заглянул в Марьину землянку. Свечи оплыли, мигали огоньками, но он разглядел, что и мать, и дочь спят. Вздохнул. Будут жить теперь.
На поляне гомонили мужики. Замолчав, посмотрели вслед уходящим. «Будут стрелять или не будут? – сверлила мысль. – Нет, не будут, не должны. Вроде сломилось в них что-то...»
7
Старик шел быстро, будто торопился поскорее покинуть опасное место. Уже рассветало, и тропинка различалась хорошо. Сопели сзади провожатые, слышал Сибирцев шорох их шагов, приглушенные голоса.
Быстрым шагом вышли к болоту, на последний сухой бугор. Сибирцев обернулся. Троица, шедшая позади, отстала и теперь что-то горячо обсуждала. Наконец, увидев глядящего на них Сибирцева, они подошли ближе. Один из них, тот самый сосед в лаптях, крепкий и вроде бы самый молодой, сказал:
– Ты уж прости, не знаю, как и звать-то – не то ваш бродь, не то гражданин комиссар...
– Там, за болотами, я тебе товарищ. А тут – как сам захочешь.
– Ты нам скажи, гражданин доктор, – вывернулся мужик. – Только как на духу... Бумажкам-то мы уж отвыкли верить... Правда, что ты говорил?
– Правда.
– Перекрестись.
– Хоть и не верую, нате, мужики. Вот вам крест святой.
– И ничего нам не будет?
– Ежели крови на вас нет, не будет.
– Да-а, – протянул бородатый постарше. – Ну дак как, а, братцы?
– Знаешь что, – снова сказал молодой, – пойдем мы с тобой. Барахла там все едино не было, а винтарь – хрен с ним, пусть сгниет. Возвращаться – пути не будет.
– Вот молодцы, – обрадовался Сибирцев. – Самые что ни есть молодцы. Ну, тогда вперед. Двигай, Иван Аристархович...
Путь назад хоть и не легче, но кажется короче. Шли быстро, помогая друг другу, поддерживали в гнилых, топких местах. Вышло так, что Сибирцев ни разу не зачерпнул голенищами. Опять же светло. Запоминать такую дорогу – гиблое дело. Тут под ноги смотри, вовремя скокни с кочки на кочку, не жди, пока она уйдет под воду – сразу дальше. И откуда только силы взялись, удивлялся Сибирцев. Будто и ночи жестокой не было. Он поймал себя на том, что ему даже запеть хочется, что-нибудь вроде «без сюртука, в одном халате...» И сапоги высохли на ногах, и не зябко было, хотя временами над болотами проносился пронизыващий, моросящий ветер.
Утром вышли к лесу. Скоро уж и сторожка должна показаться. Мужики перебрасывались крепкими словцами, оскальзываясь и цепляясь за гибкие стволы осинок. Земля становилась суше, тверже под ногами.
Наконец вышли к сторожке, обогнули ее и лицом к лицу столкнулись с молодым человеком, который сидел в телеге, свесив ноги и покуривая папироску.
Стрельцов будто запнулся в шагу, так и замер. Отшатнулись и бородачи. Сибирцев мгновенно уловил смятение в их глазах и позах и в упор взглянул на неизвестного. И чем больше смотрел, тем сильнее напрягалось, как для последнего прыжка, все тело.
Сибирцев узнал его. Хоть не было на нем рыжего лисьего малахая и бабьего яркого платка не было. И шинель сидела совсем не мешком, а ловко и даже с изяществом.
– Так-так, – произнес с ухмылкой незнакомец, перекатывая из угла в угол рта папироску. Круглое женственное его лицо скривилось, один глаз сощурился. – Я, значит, жду его у кривой березы. Ночь напролет. А его нет как нет. Дай, думаю, к сторожке пойду, вдруг там. Кружу десяток верст без малого, гляжу – так и есть. Тут он. И лошадь, и телега. Комфорт. Кому ж это, думаю, такой комфорт? Мне разве? Нет, не мне. Так кому же? Отвечай, сучья рожа! – выкатив глаза, заорал он на Стрельцова и легко спрыгнул с телеги.
Сибирцев и старик стояли почти рядом, и Безобразов – это он, понял Сибирцев, – медленно подходил к ним, оттопыривая карман шинели дулом револьвера.
«Шинель портить не станет, – быстро сообразил Сибирцев. – Вынет револьвер. Пусть только руку потянет. Пусть...» Лезть за своим уже не имело смысла. Поздно. Не даст.
– Отвечай! – снова заорал Митька.
– Доктор это, – совершенно убитым голосом выдавил из себя Стрельцов. – К Марье доктор.
– Как? – искренне удивился Митька. – Разве эта шлюха еще не сдохла? Какой такой доктор? Вот этот? Да разве ж это доктор? Это ж чекист. Я его сам наколол. Чекист с поезда. У Ныркова сидел. Вот какой он доктор, голубчики. А вы, – он обратился к бородачам, – вам тоже доктор нужен? Поносик у вас? Ну хорошо, с вами разговор еще предстоит. А пока, Сергуня, пощупай-ка его, вынь у него пистолетик. И дай мне. Быстро.
Молодой подошел к Сибирцеву, но остановился.
– Доктор он, Митрий Макарыч. Как есть доктор. Он ить и Марью спас. Девочку родила. С того света своими руками вынес. Отпусти ты его, обчеством просим.
– Ах вот как! У вас уже обчество появилось? Быстро.
Упустил момент Сибирцев. Успел выхватить револьвер Митька и теперь ствол его уставился прямо в грудь.
– Значит, что же происходит, а? – снова ласково заговорил Митька. – Я велел сидеть на месте, а этот старый козел в город смотался, чекиста привел, дорогу показал. Ну-ну! Марью твою я своей рукой пристрелю, если шевельнешься. И сучонку ее. А этого – этого мы сейчас на осинку вешать будем. Голову ему отпилим, чтоб другие запомнили Митю Безобразова. И на этой телеге Ныркову отправим. Пусть голова в город приедет. А уж остальное тут, тут повисит. Брось сюда саквояж! – приказал он.
Сибирцев безразлично швырнул ему под ноги саквояж. Там звякнули инструменты.
– А теперь тулупчик-то сними. Хороший тулупчик, чего его портить. Пригодится тулупчик.
Сибирцев рывком, так что полетели пуговицы, рванул полы полушубка и, сбросив его, швырнул под ноги Митьке. Путь к нагану был свободен. Теперь только не упустить момента. Не сводя с Сибирцева взгляда, Митька ловко обыскал карманы полушубка, на миг опустил глаза, но этого мига Сибирцеву было достаточно.
Словно отпущенная пружина, он метнулся в прыжке к Митьке, и через секунду, выбитый ударом сапога, револьвер его мелькнул между деревьями. А сам Митька со всего магу грохнулся головой о колесо телеги.
Сибирцев поднялся с земли, подхватил свой полушубок, надел, подошел к Митьке и рывком за ворот шинели швырнул его на телегу.
Какое-то время все приходили в себя, потом разом загалдели. Стрельцов, со сжатыми кулаками, крича и плюясь, ринулся к Митьке. Рванулись к нему и бородачи. Окружили телегу. А Сибирцев почувствовал вдруг дикую усталость и опустошение. Словно навалился на плечи тяжкий груз всех последних лет. Стали ватными руки и ноги. Он не слушал и не слышал, что кричали мужики, даже не глядел в их сторону. Потом, пересилив себя, подошел к телеге, взглянул в разбитое бабье лицо Митьки Безобразова и услышал, что кричал старик:
– А хучь бы и комиссар, и чекист! Он тебя, паразита, не побоялся. К человеку шел! По горло в воде. А ты его... паразит ты проклятый!.. Да ты без меня шагу в этих болотах не сделаешь, ах ты, будь ты трижды проклят!..
– Тихо, мужики, – негромко, через силу сказал Сибирцев. – Безобразов – враг Советской власти, и судить его должен народ. Вы – народ. Вот вы и судите. За всю кровь и пожары, за всех им лично замученных, сожженных, забитых насмерть. Судите его... Прощайте, мужики.
Он повернулся и медленно пошел по дороге между глубокими колеями таежных колес.
Он не видел, как провожали его взглядами мужики, не видел, как шевельнулся в телеге Митька и потянулась к голенищу его рука, и не слышал выстрела. Только почувствовал сильный удар в спину и увидел, как стремительно рванулась ему навстречу земля...
Пришел вечер. Плыла, качалась телега по расквашенной дороге, каждым рывком своим вонзая раскаленный штык меж лопатками Сибирцева. Гулко, толчками долетал до него неясный бубнящий говор мужиков, их неторопливый, тягучий разговор. Вцепившись пальцами в края телеги и широко раскрыв глаза, Сибирцев смотрел в небо. К закату оно очистилось, и только в самой далекой, темнеющей глубине его, словно малиновая пряжа, тянулась к северу узкая тропинка облаков.
Юрий АВДЕЕНКО
ЧЕТЫРЕ ПОЧТОВЫХ ГОЛУБЯ

Ночь. Март 1920 года
Он не увидел людей. Долинскому показалось, что на пристани в голубоватом, призрачном свете луны между канатами и литыми чугунными кнехтами лежат предметы неопределенной формы, возможно, мешки с фуражом или какие-нибудь другие упакованные в тюки грузы. Но когда он подошел ближе, то понял, что это люди. И опознал двух казаков, охранявших их.
Полночь студила ветром, хлынувшим с запада. И туман не простирался над морем. Наоборот, оно было ясным, но не сверкающим, как обычно, а очень мягким, почти серебристым, точно мех песца, который в Екатеринодаре Долинский выиграл у барона Хайта. Офицеры тогда коротали вечер в Дворянском собрании. Развлекались картами. Как правило, в «двадцать одно». Хайту везло. Долинский сперва проигрывал ему крупно, Но потом судьба отвернулась от барона. И он спустил все, вплоть до шкурки голубого песца, попавшей к нему лишь богу известными путями.
Барона Хайта убило у Касторной, когда он под прикрытием четырех танков вел эскадрон на село Успенское. Танки поначалу наделали паники в стане противника. Большевики кричали:
– У, гады! Яки-то воза пустили, що идут и стреляют.
Немного погодя осмотрелись. И за орудия...
Два танка пришлось на буксирах в Касторную оттаскивать. Для ремонта. Барона тоже доставили на станцию. Только ремонт ему уже не потребовался. Он умер возле коновязи, протянутой по четырем гладким дубовым кольям. Лошадь его крутила хвостом, дико водила глазами и грызла удила, норовя освободиться от привязи, наконец метнулась в страхе по флангу эскадрона, подминая и людей, и амуницию.
Шкурку песца Долинский полагал превратить в талисман, своего рода шагреневую кожу. Но в тифозном Ростове ее съели крысы...
– Поднять людей, – сказал Долинский казакам.
Один из казаков, видимо старший, кряхтя, встал с кнехта, поправил сползшую с плеча лямку карабина и сказал не громко, а, скорее, нудно:
– Поднимайтесь, граждане. Мабудь, не глухие. Команда их благородием дадена.
Люди вставали без понуканий. Не быстро и не медленно. А спокойно, с выжидательной осторожностью...
Долинский сразу же решил не смотреть им в лица, но среди девяти разных по возрасту женщин стояла девочка лет семи с прижатым к груди плюшевым медведем, у которого было оторвано левое ухо. Долинский не удержался, остановил взгляд на ребенке. Почувствовал холод между лопатками. «Ей тоже холодно», – подумал он. Была середина ночи. Конечно же девочка хотела спать.
Люди не знали уготованной им судьбы. У ног женщин темнели чемоданы, горбились оклунки. Долинский подумал: «Нужно сказать, чтобы не брали вещей». Но тут же отказался от этой мысли: женщины заволнуются, запаникуют.
Широкая баржа черным пятном покачивалась возле пристани. Вода хлюпала. Матросы с буксира, над которым горела желтая, мутная лампочка, ладили на баржу трос. Буксир был раза в три меньше баржи. Черная труба торчала над ним, как шляпа.
Капитан буксира – здоровяк в незастегнутом бушлате – преданно смотрел в глаза Долинскому.
Долинский сказал:
– На барже оставьте надежного матроса. Пусть он по нашему сигналу откроет кингстон. А потом под охраной перейдет на буксир.
– Все будет в ажуре, ваше благородие.
Военно-полевой суд приговорил арестованных подпольщиков к смертной казни через расстрел. Между тем начальник контрразведки на свой страх и риск решил поступить иначе. Он не считал себя жестоким по натуре, но, по его разумению, жестокости требовало время. И у Долинского выработалась своя собственная точка зрения в отношении к государственным преступникам. Он полагал, что любой человек, вне зависимости от его политических воззрений, много раз задумается, если будет знать, что за совершенное преступление понесет ответственность не только он лично, но и члены его семьи, пусть даже невиновные. Вот почему Долинский решил вывезти на старой барже приговоренных к смерти подпольщиков вместе с их семьями, а там, в море, открыть кингстон – клапан в подводной части судна, служащий для доступа забортной воды. С открытым кингстоном баржа не продержится на воде и четверти часа.
Абазинский проспект мрачной дырой темнел между высокими пирамидальными тополями. Неярко светя фарами, с проспекта к набережной выползла грузовая машина. Громыхнул задний борт. И ночь подхватила звук, как горы эхо. Конвой привез арестованных. Их было четверо. Трое с завода «Дубло», И один с завода «Юрмез». С того самого постылого «Юрмеза», где действовала мощная большевистская организация во главе с неуловимым Бугай-Кондачковым [1]. Сапоги казаков гулко стучали по деревянному настилу пристани. Арестованные же были босоноги. Двигались почти неслышно, оборванные, избитые, с лицами, оделенными спокойствием, – не тупым, безысходным, а одухотворенным, точно на иконах.
Кто-то из женщин охнул и зарыдал громко. Но казак крикнул:
– Прекратить!
И рыдание стихло. Лишь слышалось всхлипывание, редкое, приглушенное.
Четыре и девять. Тринадцать! Нехорошее число. Долинский сказал казаку:
– Ребенка в баржу не сажать. Пусть остается.
Казак схватил малышку за плечи. Но она продолжала держаться за материнскую юбку. И со слезами кричала:
– Мама! Мама! Я с мамой. Мамочка, не оставляй меня.
Женщина лет двадцати шести, с косой, уложенной вокруг головы, и лицом правильным, чистым, сама не знала, что же ей делать. Возможно, она предчувствовала беду, ожидающую их всех там, на барже. Потому только бормотала:
– Доченька, милая...
Казак сильно дернул девчушку. Мишка, которого она прижимала к груди, выпал, кувыркнулся по пристани и плюхнулся в воду. Долинский увидел, что он плавает лапами вверх. И глаза у него сверкают, как у живого.
Девочка голосила отчаянно. Долинскому было жутко слышать ее крик. Он подумал о загадочности бытия: почему все-таки эта маленькая жизнь так настойчиво рвется к смерти. «Рок, судьба, – несколько высокопарно определил он. – Да, ее величество судьба».
Долинский махнул рукой:
– Оставьте девчонку с матерью.
Когда с баржи убрали трап, начальник гарнизонной контрразведки поднялся на палубу буксира.
...Через полчаса буксир и влекомая им баржа были далеко в море. Оно по-прежнему выглядело мягко-голубым, но город утопал во мраке. И горы сливались с небом, темным и очень звездным...
– Подавайте сигнал, – сказал Долинский.
Усы капитана буксира надломились в улыбке:
– Все будет в полном ажуре, ваше благородие.
Потом капитан поднял руку, в которой был зажат увесистый металлический болт. И тьма раскололась угластой молнией. И забортная вода шумно приняла тело Долинского...
Начальника контрразведки спасло чудо в образе остроконечного ржавого буя, сорванного вешними штормами с какого-то черноморского пляжа. Только на рассвете Долинского обнаружил патрульный катер. Матросы не смогли разжать пальцы, которыми окоченевший контрразведчик держался за обрывок каната. Пришлось прибегать к помощи ножа.
Трупы казаков, несших охрану на барже, выловили лишь на пятые сутки. Саму же баржу буксир увел к красным в Новороссийск.
Анализируя случившееся, Долинский понял, что не ошибся в недавнем донесении. Большевистское подполье в Туапсе продолжало действовать...
1. Глас вопиющего в пустыне
Входная дверь хлопнула. Клавдия Ивановна догадалась: пришел постоялец.
Она опустила крышку рояля. Несколько минут сидела без движения, не отнимая пальцев от лакированного дерева. Вспомнила: видела в Ростове спектакль, где актер вот так же сидел у рояля. Он изображал человека, думающего о чем-то сложном и важном. Кто-то же учил актера сесть именно так, замереть, откинуть назад голову. Молчать. Значит, есть связь между позой человека и его размышлениями.
А может, все это ерунда. И нет, и не было никакой связи между тем, как человек сидит и о чем думает...
Постоялец щелкнул замком своих дверей.
«Странная личность, – подумала о нем Клавдия Ивановна. – Хотя...»
В людях, и прежде всего в мужчинах, Клавдии Ивановне нравилась загадочность. Нет, нет. Разумеется, она не требовала от каждого таинственности Монте-Кристо, но полагала, что человек должен быть сложнее, чем арифметическая задача в два действия.
Постоялец, назвавшийся врачом, вопреки традициям своей профессии, был человеком малообщительным. Уходил на службу рано утром, возвращался поздно вечером, а иногда даже на рассвете.
– Я работаю в военном госпитале, – объяснил он однажды. – Это совсем иное, чем частная практика.
Был он красив, этот сорокалетний мужчина, рыжебород, одевался опрятно и со вкусом.
Они жили вдвоем в большом, и, пожалуй, пустынном пятикомнатном доме, отгороженном от тихой улицы буйно цветущим фруктовым садом, между тем постоялец не делал никаких попыток ухаживать за своей молодой и достаточно привлекательной хозяйкой. Это не то чтобы обижало Клавдию Ивановну, привыкшую к вниманию со стороны мужчин, но несколько озадачивало.
Взгляд женщины уже давно был обращен к просторному венецианскому окну, но только сейчас она поняла, что сумерки сгущаются и что нужно встать из-за рояля и пойти закрыть голубятню.
Голуби уже спали. Настоящие почтари брюссельской породы, они имели красивый, как говорил покойный отец Клавдии Ивановны, подбористый вид. Он был страстным голубятником, ее отец. Но разводил только почтовые породы, ценя в них прежде всего чистоту. В его роскошной голубятне можно было увидеть редкие по тем временам породы почтарей: карьер, люттихский, антверпенский, брюссельский, дракон, скандарон.
Клавдия Ивановна помнит отца вечно сидящим перед голубятней на самодельной маленькой скамейке, убеждающим кого-нибудь из приятелей:
«Что твои царицынские. Высоко летают, да бестолку. Почтарь же, не поверил бы сам, но читал, до тысячи километров одолеть может. Конечно, не каждый, а выдающийся. Но может же...»
Голуби. Словно чувствуют, паршивцы, что их нахваливают. Корпус несут прямо, шеей вертят бодро. Округлость головы у почтарей плавная. Сходится с клювом почти без всякого угла. Восковица над клювом большая, серая. Вокруг глаз – бело-розовые кольца с красноватыми прожилками.
Нельзя сказать, что Клавдия Ивановна любила голубей. Но их любил покойный отец. И это было для дочери свято.
Дернув конец старого, однако еще крепкого шнура, она подняла сетчатый козырек голубятни. Закрепила шнур в повлажневшем от вечерней росы медном кольце. И вернулась в дом.
Постоялец стоял возле ведра с водой, отхлебывая из кружки. Капли воды застряли в его бороде. И он вытер их большим клетчатым носовым платком. Поставив кружку на квадратную, сделанную из дуба дощечку, он спросил Клавдию Ивановну:
– Вы сами носите воду из колодца?
Клавдия Ивановна отрицательно покачала головой:
– Это делает соседский мальчик.
Постоялец понимающе кивнул; он был в сером костюме, в свежей сорочке, при галстуке и в короткой соломенной шляпе-канотье.
То, что он, будучи в доме, не снял шляпу, говорило о его плохом воспитании и немного покоробило Клавдию Ивановну. Впрочем, она ничем не выдала этого. И ничего, кроме любопытства, не было в ее глазах.
– Это правда, что наши оставили Новороссийск? – спросила она.
Вместо прямого ответа он вспомнил библию:
– Правда сиречь истина... Как сказано у Иоанна: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными...».
– Очень ли это нужно?
– Быть свободным? Сие понятие, как мода. Никто не задумывается, нужна ли она. Ей просто слепо подражают.
Он говорил тихо. Но с какой-то едва заметной долей фальши, точно провинциальный актер, играющий роль человека, давно познавшего жизнь и уставшего от ее нелепостей.
– А нельзя ли образумить людей? – Клавдии Ивановне не хотелось, чтобы разговор окончился так быстро. Она должна разобраться, что за человек ее постоялец.
– В истории человечества акция вразумления много раз имела место, но, увы, безуспешно. Вот и сейчас красные и белые вразумляют друг друга пулями, снарядами, саблями. А иногда попросту плетьми.
– Я имела в виду совсем другое – слова. Ибо сказано: вначале было Слово...
– Но сказано и другое: я глас вопиющего в пустыне... Милая девушка, строгие, только очень строгие меры способны вразумить человечество. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается...
Он повернулся и направился к двери в свою комнату, явственно давая понять, что не склонен продолжать беседу.
– Спокойной ночи! – проникновенно пожелала Клавдия Ивановна.
Он обернулся, на какое-то время задержался у двери.
– Спасибо. Увы, профессия эскулапа не всегда позволяет осуществить это хорошее пожелание. Спокойной ночи и вам, милая хозяйка.
Он открыл дверь, потом вновь обернулся. И, увидев, что она продолжает стоять на прежнем месте, спросил:
– Кстати, вы не смогли бы перепечатать для меня несколько страниц?
– У моей машинки сломался лентоводитель.
– Давайте я посмотрю.
– Благодарю вас. Но я уже пригласила мастера.
«Странно, – придя в комнату, подумала Клавдия Ивановна. – Откуда он может знать, что у меня есть пишущая машинка. Ведь я никогда не печатала в его присутствии».
2. Записки Кравца
Я, конечно, не видел лично, но слышал в разведотделе, что Деникин бежал из Новороссийска на военном корабле под французским флагом. Последним улепетывал из порта американский крейсер «Гальвестен». Американцы предлагали деникинцам бязь, фланель, солдатские ботинки, носки, лопаты – в обмен на кубанскую пшеницу. Вот об этом я читал сам в белогвардейской газете «Кубанское слово».
Мы захватили кипы этих газет и еще других, белоказачьих – «Вестник Верховного округа». Газеты эти мы пустили на раскурку, потому что были охочи до табачка, а точнее, махорки, с которой подружились за трудные военные годы так же верно, как и с винтовкой, шинелью, седлом.
Кони разной масти, оставленные белогвардейцами, славно собаки бродили по городу. Большими, обалделыми глазами глядели на опрокинутые повозки, тачанки, орудия. Будто в доме перед дальней дорогой, на улицах лежали узлы, чемоданы, корзины. Несметное количество! Железнодорожные пути были забиты эшелонами с фуражом, продуктами, снарядами...
Мы сдавали охране пленных на Суджукской косе, когда прискакал нарочный и передал мне приказ явиться в штаб 9-й армии к товарищу Каирову.
Вечерело. Но небо еще фасонилось голубизной, хотя на нем уже, точно веснушки, проступили первые звезды. Земля, разморенная солнцем, парила. И воздух на улице был мутноватый, как в прокуренной комнате.
Товарищ Каиров, с перевязанной рукой, – разорванная кожанка внакидку – хитро посмотрел на меня и спросил:
– Как настроение?
За его спиной маленький и желтый, точно привяленный, человек, в очках со сломанной дужкой, монотонно диктовал машинистке:
– Захвачено сорок орудий, сто шесть пулеметов, четыре бронепоезда, тридцать аэропланов... Общее количество пленных составляет...
– Боевое, – ответил я.
– Добре. Дело для тебя есть.
– Наконец-то.
– Время пришло, – сказал Каиров. – Не зря же я тебя четыре месяца готовил. Посиди минут пять в коридоре. – И добавил с улыбкой: – Больше ждал.
Не знаю, почему он назвал прихожую коридором. Никакого коридора в этом барском особняке я не увидел. Двери с улицы – возле них стоял часовой-красноармеец – заглядывали прямо в широкую прихожую, выложенную цветным паркетом. На паркете тускнел пулемет. Усатый дядька протирал его ветошью.
В глубоком, обшитом золотым плюшем кресле небрежно, словно барин, сидел молодой парень. С толстыми губами, мясистым носом. Взгляд у парня был ленивый и немного презрительный. Он курил толстую вонючую сигару. Потом ему надоело дымить, и он затушил ее, вдавив в золотистую плюшевую обшивку.
– Друг, – сказал я, – мебель портишь.
– Буржуазную рухлядь жалеешь, – окрысился парень. И сморщился, и заморгал ресницами, словно в глаза ему угодило мыло.
– Мебель не виновата, – возразил я. – Теперь она наша. Революционная... Рабоче-крестьянская.
– Отвали, – сказал парень. – Ты мне свет застишь. И мешаешь сосредоточиться.
И он опять, уж, конечно, назло мне, ткнул в плюш кресла, правда, на этот раз загашенную сигару. Вывел какую-то закорючку. Возможно, расписался.
– Ты откуда такой умный? – спросил я.
– Откель надо, – ответил он. – Вот поднимусь, между глаз приласкаю. Полная ясность появится. И твой интерес ко мне пропадет.
Тут я тоже нахохлился:
– Интерес мой к тебе разбухает. Может, выйдем?.. Потолкуем.
– Выйдем, – равнодушно ответил парень. Поерзал в кресле. И достал из кармана наган.
– Кравец! – товарищ Каиров высунулся в приоткрытую дверь. – Давай-ка...
На этот раз мы не задержались в комнате, где стучала пишущая машинка, а прошли дальше, в узкий кабинет, стены которого сплошь были заставлены книгами.
Мы находились в кабинете только вдвоем. И товарищ Каиров спросил:
– Готов ли ты, рискуя собственной жизнью, спасти Миколу Сгорихату от смертельной опасности?
– Если смогу...
– Надо смочь.
Каиров присел на краешек письменного стола, широкого, ровного, обшитого хорошим зеленым сукном. И кожанка его коснулась мраморной доски с бронзовыми чернильницами, большими и массивными, точно ядра.
– Слушай меня, Кравец. Сутки назад Микола через горы ушел в Туапсе к белым... Я дал ему явку. А сегодня, два часа назад, мне сообщили, что явка провалена, что пользоваться ею нельзя... Туапсе – город маленький. Ты должен разыскать там Миколу. И сказать ему от моего имени, что задание остается в силе, но явка... недействительна. Понял?