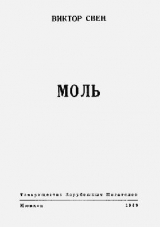
Текст книги "Моль"
Автор книги: Виктор Свен
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Встреча Суходолова с Воскресенским, пролетаркой Мешковой и агентом Ступицей
Она очень любила советскую власть, сама себя уважала за свою преданность партии, а выступая на собраниях коммунальных жильцов или появляясь в милиции с очередным доносом, говорила гордо: «Пролетарка Мешкова».
Пролетарка Мешкова слыла сознательной и очень бдительной. Обо всем, что происходило в районе Каланчевской площади, она знала в подробностях и потому пользовалась уважением и покровительством начальника отделения милиции. Сама Мешкова слышала, как этот начальник сказал милиционерам: «Учтите: товарищ Мешкова – непримиримая пролетарка».
В этом не было никакого преувеличения. Она была действительно «непримиримой» и в особенности ненавидела интеллигентов. Считая всех их «врагами народа», она следила за ними и никому спуску не давала. От этого страдал даже вечно голодный и оборванный старик с явно подозрительной фамилией Воскресенский.
Когда же пролетарка Мешкова дозналась, что Воскресенский сидел в концентрационном лагере, ее возмущению не было предела.
– Выпустили! Это проверить надо: а вдруг блат какой? А если действительно выпустили, так это же совсем зря, – горячилась Мешкова, подбивая жильцов коммунальной квартиры послать в органы коллективную просьбу о выселении старика из занимаемой им темной каморки.
В коммунальном муравейнике шептались, конечно, о том, что Воскресенского надо выкинуть. С этим все были согласны. Ну, а дальше что? Начальство считает Мешкову «непримиримой пролетаркой». Начальство, само собой разумеется, отдаст каморку не кому другому, а только ей.
Такая перспектива была не по душе коммунальному миру. К тому же все искоса посматривали на активистку, умудрившуюся даже в битком набитой квартире развернуть очень сложную, темную и бесспорно выгодную деятельность.
Зависть привела к тому, что коммунальные жильцы стали рассуждать трезво и на провокационные уговоры Мешковой отвечали дипломатичным пожиманием плеч.
Обо всем этом, конечно, не знал Воскресенский. Он продолжал ютиться в темной каморке, хотя не мог не заметить, что в последнее время его встречают и провожают откровенно злые глаза. Потом, и очень скоро, жильцы свою социальную отчужденность от бывшего превратили в закон, запретив Воскресенскому пользоваться общекоммунальной уборной. Когда старику в дурные осенние дни приходилось спускаться вниз и шагать по грязи двора, почти всё население квартиры прилипало к замызганным стеклам окон и со злорадством смотрело на бывшего, в худом пальто, истертой солдатской папахе и разбитых красноармейских ботинках бредущего под дождем в дальний угол, откуда всегда неслась вонь запущенной выгребной ямы.
В один из таких осенних дней, и совершенно случайно, в этот двор заглянул Суходолов. Он уже хотел было повернуться и выйти на улицу, но остановился, что-то знакомое почувствовав в фигуре старика, топчущегося у выгребной ямы. Потом он узнал его: то был Воскресенский.
Суходолов не вдруг подошел к старику. Сначала он издали разглядывал его, и чем больше всматривался, тем яснее и яснее восстанавливались те, теперь уже такие далекие дни.
Так произошла встреча Суходолова с его собственным прошлым. Он не сомневался, что перед ним тот самый старик, которого надо было вывести в расход, и которого он, Суходолов, неизвестно почему, спас от подвала.
Старик сильно изменился, Худой, обветшалый – он походил на свою тень.
«А всё-таки жив», – подумал Суходолов, испытывая мягкое, почти нежное чувство жалости к обиженному судьбой человеку.
Потом, когда Воскресенский оторвался от выгребной ямы, Суходолов остановил его и спросил:
– Не узнаете знакомого?
Старик поднял большие, равнодушные глаза и тихо ответил:
– У меня, братец, знакомых нет. Давно нет. В одиночку доживаю.
– А кормишься где? – спросил Суходолов и пожалел о своем вопросе.
Действительно, голова старика была похожа на череп, на который с трудом натянули тонкую кожу. Когда старик говорил, вместе с губами двигалось всё его лицо, похожее на маску. За шевелящейся маской наблюдал Суходолов и, видимо, понял бы слова Воскресенского, если бы в этот момент не появилась Мешкова. По ее решительным движениям и кое-как накинутому на плечи платку можно было догадаться, что мчалась она сюда с намерением устроить хороший скандал.
Увидев Суходолова, она смутилась, вспомнив, что тот однажды был в милиции и что перед ним почтительно стоял начальник отделения.
«Тот самый Суходолов», – с тревогой подумала она, хотя в точности не знала, кто он. Но что Суходолов «личность ответственная» – в этом она не сомневалась, и потому принялась разыгрывать привычную роль «пролетарки Мешковой».
– Да что вы, товарищ Суходолов, с ним толкуете! Он же бывший, присосался к нашей коммунальной квартире и никаким чёртом его не выселишь… Кубатуру занимает! А чем живет – не поймешь! Отбросами, что ли, питается. Таких бы ликвидировать, как классово вредных, а его подержали-подержали в концентрационном лагере и по блату выпустили. А зачем нам такие!
Она еще долго говорила, искоса и со злобой посматривая на Воскресенского. Потом льстиво обратилась к Суходолову:
– Вы бы, товарищ Суходолов, помогли нам. Освободили бы нас от классового интеллигента и буржуазного прихвостня.
– Заткнись, стерва! – Суходолов шагнул к Мешковой. – Забудь про старика! Не то…
Мешкова застыла на месте. Когда же Суходолов прохрипел «ну!», она опрометью кинулась в свою коммунальную квартиру, из окон которой за всем происходившим у выгребной ямы с большим вниманием наблюдали любопытные глаза.
Попав в свою закутку (бывшая гостиная фанерой была разделена на три отдельные жилплощади), Мешкова тут же вызвала компаньонку по спекуляции.
– Что стряслось? – заволновалась Толстая Варвара.
Мешкова излагала события, не стесняясь всё искажать и преувеличивать. Когда дошло до громадного пистолета, который, якобы, Суходолов собирался пустить в ход, Мешкова подвела свою наперсницу к форточке.
– Видишь? Видишь? – шептала Мешкова на ухо Толстой Варваре. – Гляди!
Тискаясь у форточки, им удалось заметить, что Суходолов взял старика под руку и вместе с ним направился к подворотне. Наблюдения на этом закончились, и потому они не знали, конечно, что Суходолов вывел Воскресенского на площадь и через десять-пятнадцать минут уже сидел с ним в небольшой пивнушке. На столе, у которого они расположились, скоро появился чай и хлеб с колбасой.
– Ешьте, пожалуйста, – сказал Суходолов.
Старик сначала погрел руки на горячем стакане. Потом поднял глаза на Суходолова и совсем обыкновенно признался:
– Я забыл о тепле. Живу, понимаете, в холоде.
– В холоде? – спросил Суходолов.
– В холоде, – подтвердил старик. – Это очень тяжело.
Суходолов вздрогнул. От испуга или удивления, он и сам не знал, и стараясь преодолеть дрожь, пробовал разобраться, почему старик говорит о «холоде», а не о «голоде». И вдруг пришла мысль, что холод страшнее голода. И не тот холод нетопленной комнаты, а другой какой-то, особенный холод, злой холод, жестокий и черствый холод.
Суходолов посмотрел на старика, осторожно пережевывающего маленькие кусочки колбасы и хлеба. Заметив, что стакан уже пуст, Суходолов наполнил его чаем и сказал:
– Пейте! Пейте, профессор.
– Что? Такого слова я уже давно не слышал. Профессор. Даже странно, – зашептал старик и отломил кусочек хлеба.
– Почему? – Суходолов сделал попытку говорить весело. – Да это же совсем просто. Мы, ведь, с вами, вроде бы где-то и когда-то познакомились.
Старик перестал жевать, и, словно извиняясь за чужую ошибку, начал оправдываться:
– Нет, тут какое-то недоразумение. Я вас совершенно не знаю. Вы, полагаю, принимаете меня за кого-то другого, обманувшись сходством, какими-то внешними признаками. Нет! – воскликнул Воскресенский, отодвинув от себя чай и положив на тарелку кусок хлеба. – Нет! Вы ошиблись. Понимаете: знакомых у меня уже давно нет. И я вам скажу правду: меня хотели казнить… ну, как они говорят: расстрелять! Но раздумали, в концентрационный лагерь отослали. И опять, должно быть, раздумали. Вот и всё. Так что я лучше уйду. Извините.
Старик еще дальше отодвинул от себя тарелку с хлебом, и Суходолову стало ясно, что этот, случайно встреченный им, бывший профессор действительно его не узнает.
– Пейте чай. Я это по-честному. Безо всякого..
– Спасибо, – уже натянув на голову солдатскую папаху, сказал старик. – Спасибо. Я пойду…
«Да куда вы пойдете!» – хотелось крикнуть Суходолову. Но он сдержался, и после тяжелого раздумья, произнес:
– Что ж. Идите. Может быть даже лучше, что не признали вы меня знакомым и не вспомнили, где мы познакомились. Только… хотелось бы мне что-то такое… вы, вот, сами говорили, что в холоде живете, так мне бы и хотелось сказать что-то теплое, человечье. Да только слов подходящих у меня нет. Не имеется у меня таких слов. И всё. Жалость к вам есть. Настоящая жалость, ну, как к отцу, что ли… Отец у меня тоже старик… А я сам… ждет меня конец бешеной собаки. К бешеному концу дело у меня идет, – говорил Суходолов и казалось ему, что слова падают, как свинец. – Так что всё правильно. Правильно и то, что не знаком я вам, потому что я дерьмо и падаль..
Старик слушал, и в то же самое время копошился пальцами под подбородком, пытаясь застегнуть рваное пальто на единственную верхнюю пуговицу.
Потому ли, что с пуговицей удалось справиться, или потому, что Суходолов замолчал, старик строго сказал:
– Так не бывает. В каждом и обязательно есть что-то человеческое.
По шевелящимся губам Суходолова можно было догадаться, что он повторяет стариковские слова. Слова были немудрящие, но Суходолову почудилось, что после них в нем самом вздрогнул остаток этого самого человеческого. «Человеческое», надо думать, и заставило Суходолова посмотреть в глаза старика и напомнить:
– О человеке в человеке вы говорите потому… потому самому, что вы – профессор богословия.
– Вы даже это знаете? – без удивления спросил Воскресенский и протянул руку. – Прощайте.
Суходолов, пожимая стариковскую руку, представил себе те далекие дни. «Это я, Суходолов, сохранил его для жизни», – мелькнула радостная мысль. Радость не исчезла и после того, как он подумал, что, конечно, старик липший на этой земле и доживает свои последние дни… «До чего было бы хорошо, – сам себе сказал Суходолов, – если б его можно было похоронить в правильной могиле, в могиле и под крестом»… «А почему бы так и не похоронить, – это тоже сам себе сказал Суходолов, и добавил: – Похороню»..
Когда старика уже не было в пивной, к столику Суходолова подсел Ступица. Как будто прицеливаясь, он разглядывал задумавшегося Суходолова, и когда тот опустил голову на грудь, спросил:
– Ты, товарищ Суходолов, даже не примечаешь, что я возле тебя кручусь уже с полчаса?
Суходолов скосил глаза и далеко не вдруг сообразил, что рваный пиджак и рыжеватые космы на голове подсевшего – это камуфляж, маскировка, под которой прячется второсортный агент Ступица, работающий «втемную» не по особо важным, но весьма нужным для чека заданиям.
Еще раз окинув Ступицу взглядом, Суходолов презрительно бросил:
– Чего тебя примечать! Вот тут только что был человек. Ушел. Мне хотелось с ним посидеть. Не для разговору, а так, понимаешь, как… с человеком. А человек – ушел.
– А я – не человек, что ли? – обиделся Ступица.
– Ты? – Суходолов внимательно и словно бы впервые рассмотрев Ступицу, равнодушно сказал: – Ты? Падаль.
Ступица хотел было всё это повернуть в шутку, но заметив, как наливается кровью лицо Суходолова, пересел за другой столик.
Подробно изложенный эпизод со встречей Суходолова с Воскресенским, потом – с пролетаркой Мешковой и второстепенным агентом Ступицей Автору кажется не случайным, наоборот – имеющим большое значение для развития дальнейших событий. Хотя бы потому, например, что в те самые дни, когда Суходолов наткнулся на профессора Воскресенского, Решков был приглашен на обед к Председателю. За обедом, и, в особенности, после обеда, в кабинете, толковали о разных делах и весьма откровенно.
– Знаете, – в конце концов сказал Решков, – верить даже самым преданным нельзя, а народу…
– Что народу! – дернул бородкой Председатель. – Народом надо управлять! Ведь вы же сами, Леонид Николаевич, как-то приводили мудрые слова одного из французских королей: «Пусть ненавидят, но боятся». Главное – чтоб боялись. К чему-чему, а к страху мы этот самый «народ-богоносец» приучили!
Решков не стал спорить. К тому же он сам – и с давних пор – чувствовал себя как бы приросшим к Председателю.
– Мы, – шутя признался Решков, – вроде сиамских близнецов.
На это признание Председатель ответил дружеским похлопыванием по плечу.
«Сиамские близнецы» жили, на удивление, по-разному. Это «по-разному» и заставило Решкова не сказать Председателю, что один из вернейших и преданнейших, то есть Суходолов, потерян для Октября. Промолчал Решков и о том, что это он довел Суходолова до мысли оглянуться на свое прошлое, поковыряться в своей душе и как бы под увеличительным стеклом совести посмотреть на себя, на своего отца, на м ельникову дочку Ксюшу, и сказать:
– Спасибо, Леонид Николаевич. Правильно и верно вы рассуждаете. Нельзя жить без оглядки. Так что я поеду к отцу.
– Надолго? – спросил Решков, хотя был убежден, что поездка эта – для Суходолова – уже навсегда.
Об этом тоже не говорил Решков, хотя и вспомнил свою квартиру, свой письменный стол, на котором лежал календарь. Календарь показывал 22 января 1922 года… 22 января 1922 года Решков перечеркнул красным карандашом.
Это несколько нервное перечеркивание календарного ли стка позволяет Автору начать –
Рассказ о ночной беседе Суходолова с отцом
В поезде, а потом сидя в санях, Суходолов пытался разобраться в том, какая же, всё-таки, сила заставила его тронуться сюда, на Тамбовщину. Ну, да, она родная – Тамбовщина. Но о ней он не любил вспоминать. Может быть даже и потому, что сознавал: Тамбовщина тоже хочет забыть о своем сыне, в 1920 году начальником Особого Отдела носившимся по тамбовским деревням и селам и кровью тушившим крестьянский пожар восстания.
Так было тогда. С тех пор прошло два года. Что теперь?
«Что теперь? – спросил себя Суходолов, идя по прячущейся в сумерки улице своего родного села. – И зачем я здесь?»
Он даже остановился, потрясенный простотой вопросов. Но вместо ответа припомнился Решков, с тяжелой настойчивостью расспрашивавший его, Суходолова, о его молодости, об урожайных полях Тамбовщины и о песнях, которые пелись на тамбовской земле. Решков поднимал брови, удивлялся, как это можно забыть родной дом, не взглянуть на старика отца. Когда же Суходолов признался, что страшно смотреть в глаза отцу, Решков вроде бы всё понял, и сказал:
– Отец же он тебе. Какой отец не простит сыну? А потом… у тебя, Семен Семенович, там девушка была? Ты мне говорил о ней. Как ее? Ах, да: Ксюша. Имя-то какое: Ксюша!
– Ксюша, – прошептал Суходолов, и только теперь заметил, что стоит на деревенской улице.
Подняв глаза к небу, он увидел звезды. Свои звезды. Над тамбовской землей.
– Вот я и дома, – глубоко вздохнув, громко произнес Суходолов и зашагал мимо темных домов.
Дома он узнавал, хотя многие из них стояли без окон и дверей. Вывороченные рамы, разбитые калитки, валяющиеся кой-где обломки еще недавно таких добротных мужицких сундуков – всё это было последним памятником прошлому.
Чем дальше он шел, тем двигался всё неувереннее, а перед воротами отцовского дома и вовсе остановился, с тоской думая, что всё это – ни к чему, зря придуманная затея. Не правильнее ли повернуться, уйти на станцию, дождаться первого поезда и уехать.
Куда? Не всё ли равно! Лишь бы уехать, спастись от того, что спрятанным спокойно лежало в глуби памяти, а вот теперь начинает шевелиться, чтобы подняться и показать ему знакомые, близкие лица, но теперь уже с мертвыми глазами.
Суходолов, весьма возможно, и ушел бы, если бы вдруг из-за двери избы не раздался голос:
– Да кто там топчется? Заходи, что ли.
Суходолов протянул руку и открыл дверь. У стола, при слабом свете крошечной керосиновой лампочки, сидел отец.
– Да ты кто? – спросил старик. – Давай поближе. Разглядеть не могу. А по голосу – не угадываю.
– Это я, отец..
– Семен!? Ты?
– Я, отец. Видишь, приехал. Чтоб помог ты мне. Чтобы слово такое сказал, от которого полегчало бы мне.
Как слепой, посмотрел старик и сурово сказал: – Нету у меня для тебя слова.
– Да как же так? Ведь отец ты?
– Уйди, Семен, – простонал старик. – Спорить мне с тобой не об чем. Что было – то было. Не вороши минулое. Уйди!
– Батя, – Суходолов протянул руки. – Отец. Ну посмотри. Видишь, душой я совсем изломанный. Не гони! Ведь отец ты мне!
Старик опустил голову. Молчал он так томительно долго, что Суходолов не выдержал.
– Отец. Помилуй. Вот я у тебя… Думал, услышу доброе слово, отпустишь, думал, ты грех мой. Простишь. И таким прощенным я пойду искать себе могилу.
Старик поднял подслеповатые глаза, и Суходолову показалось, что сейчас они затянутся пленкой и навсегда потухнут.
– Семен, – чуть слышно прошептал отец, и Суходолов увидел, как по щеке старика скользнула слеза. – Семен. Ты сын мне, а вот как мне за тебя перед моим Богом ответ держать? Что я Ему скажу? А за тебя, Семен, я бы на крест пошел, чтоб милость к тебе была.
Суходолову стало страшно, но каким-то особым, облегчающим страхом.
— Видишь, Семен, – доносились тихие слова, – какой стороной жизнь повернулась? Чувствуешь, к какому берегу тебя прибило? А начиналось всё как? Ты по лугам тамбовским мальчонкой шнырял, и вырос тут, и – может помнишь? – с мельниковой дочкой Ксюшей семью затевал строить. А потом что? Эх, ты! От жизни отвернулся. От людей. А ты знаешь что с нею, с Ксюшей, сталось? Не знаешь! Так я тебе скажу. Когда тут красные с Антоновым, с нашими мужиками расправлялись, ты тут главным по Особому Отделу состоял. Об том мне известно. И об том, что ты Ксюшу искал, тоже знаю. Да только не нашел ты ее. А почему – я тебе открою. По большой причине ты не нашел ее. Был у тебя помощник Мохов. А при Мохове такой чекист Семыхин верховодил. Семыхина может помнишь? Так вот, они у меня на постое стояли, вместе с комиссаром. Они, значит, днем свирепствовали над мужиками, над антоновцами, а вечерами самогонку лакали и, охмелевши, друг перед дружкой похвалялись, кто и чего стоит. А я сижу в пристройке, и что в горнице творится – мне всё слышно. Мохов и говорит комиссару, конечно, впереди будущее мировое торжество. Да только, говорит, за это за самое торжество… за это торжество, говорит Мохов, у меня, дорогой товарищ комиссар, полный трудовой стаж и руки по самые плечи в крови. Так что на торжестве мирового господства, говорит Мохов, вы меня с узкого края праздничного стола показывать будете. А комиссар, значит, ему похвалу шьет, действительно, подтверждает, ты того заслужил. Не зря тебе и орден дали. А Мохов пьяный-распьяный как засмеется и с визгом спрашивает, объясни, спрашивает, как кровь-то с рук смывать будем? Комиссар тоже смеется, чего, дескать смывать, кровь для ради победы коммунизма. А, ведь, правильно, опять смеется Мохов, и говорит, значит, кровь под стать знаменам – она красная, кровь рабоче-крестьянская да плюс к тому и отцов-братьев родных и вон той девушки одной. Ладная да складная, говорит Мохов, была такая девушка. Ксюша, говорит, по имени. Ксюша своего батьку-мельника грудкой прикрывала, своими руками от меня отрывала, а я вот, говорит Мохов, вот я, дорогой товарищ комиссар, и приказываю ему, смотри на него, вот этому Семыхину: «А ну-ка, Семыхин, стрельни!» А Семыхин – в эту самую Ксюшину грудку да из нагана..
– Семыхин? – склонившись к отцу, спросил Суходолов.
– Он самый. Он тоже тогда вот в этой горнице сидел, где мы сейчас. Он самый Семыхин и пистолет вытащил, и так играючи пистолетом, объяснял, как, значит, пулею достал Ксюшу, – ответил старик и скользнул мутными глазами по стенам избы. Потом, словно впервые увидев перед собою сына, тяжело вздохнул:
– Эх, Семен, Семен.
Суходолов кинулся к отцу, и теперь они, прижавшиеся друг к другу и лицом схожие, казались крепко уставшими, присевшими передохнуть после трудного пути или вспомнить что-то очень нужное. Суходолов, действительно, начал рассказывать про то, уже давнее время, когда он был главным по Особому отделу. Картина наплывала на картину. Одна страшнее другой.
– Перед моими глазами, отец, – говорил Суходолов, – вроде бы стоит один мужик. Наш, тамбовский. Уже после Антоновщины. Понимаешь, батя, вот этого мужика, Акима, забрали как кулака и противника власти. И ко мне доставили. Аким никак не мог понять, за что его арестовали и за что расстреливать будут. «Ты пойми, – говорил мне Аким, – я человек конченный. Мне шестой десяток завтра закругляется, а ты мне шьешь дело, контрреволюцию и вообще антисоветскую вылазку. Ты хочешь меня к стенке поставить, так ты опоздал: тебе надо было чуток пораньше счет со мною сводить. А ты теперь вздумал. Когда у меня ни винтовки, ни пулемета, ничего. Безоружного вы меня взяли и ребра мне на радостях поломали. С таким-то вот ты и горазд на расправу. Это когда у вас всё – а у нас ничего».
Обнявшись, они так и сидели и не обращали внимания, что в лампочке уже к концу подходил керосин, а в окно заглядывало утро. Суходолов всё говорил и говорил. Самому себе или отцу?
– Вот этого Акима я забыть не в силах, батя, – признавался Суходолов. – Вот и сейчас вижу этого тамбовца, всего в крови, изуродованного и взаправду конченого. Да только и конченый, он шевелил черными губами и даже подмигивал выбитым глазом. Просто не верилось, что такой еще может говорить. А он не молчал… «Ты, вот, – говорил он мне, – со своей партией заставляешь народ жить по-вашему, по коммунизму, по программе, по какой-то категории. А народу всё это ни к чему. Народу желательно жить сегодня, и сегодня сидеть за столом и жевать свой хлеб, пить свой квас, пахать свою землю. Ты сокрушаешь наше сегодня и для вашего завтра отбираешь хлеб, землю, волю и жизнь. И приказываешь: работай на партию, молись на партию, забудь себя – для ради программы, для устава, по которому будут жить потом, когда никого из нас не будет на свете. А мы так не хотим. Я тебе даже скажу, – говорил этот Аким, – что если б ваш Маркс нынче сидел вот тут, рядом с тобой за этим столом, и послушал бы, о чем я толкую, он бы тебя самого уничтожил, а меня… по-твоему я – „кулацкое отродье“… меня бы он разгадал до конца. Потому что Маркс жил по-человечески, дай Бог каждому, и деток плодил, и счет рублям знал, и дочек замуж выдавал, и аккуратно бороду подстригал, и книжки про людей писал. Про людское дело. Про какое? Да про то самое что ни на есть простое, про то, про мое, чтоб я жевал свой хлеб, чтоб около меня были и сыны мои и внуки. Вот это и есть справедливая жизнь. А вы к чему Маркса приспособили? По учению Маркса – даешь коммунизм! Под знаменами Маркса – по мужикам „пли!“ Для торжества идей Маркса – кровь, кровь, кровь…»
Признавшись, что всё-таки был расстрелян этот тамбовец по его, суходоловскому приказу, Суходолов сказал:
– Вот, батя, в эту самую минуту, вроде бы я слушаю прилетающие из давности слова мертвого теперь человека, слушаю, и не могу перестать слушать. Понимаешь, батя, о чем он еще говорил? О том, значит, что в Царствие Небесное можно верить или не верить, это дело такое, а вот тут заставляют в царствие коммунизма верить. Да еще без разговора и сомнения, придет оно или не придет. Сказано: придет! А сколько можно ждать? Сплошные победы и достижения? Ура партии и правительству? А за что? «Действительно, – говорил Аким, – достижения у вас имеются. В расстрелах. Да только об этих достижениях вы не объявляете, сами где-то втихомолку подсчитываете миллионы. Вот и меня, – говорил Аким, – ты в расход выведешь. В какой, спрашиваю, меня миллион впишешь? Молчишь? Или, может, скажешь, что этот очередной миллион называется строительством? Без думки о том, что в таком строительстве гибнет живая жизнь».
Уже перед самым рассветом собрался Суходолов покинуть отцовский дом. Поднявшись со скамьи, он хотел было поцеловать полуслепые стариковские глаза. Да не осмелился и тихо сказал:
– Так, отец, я слушал Акима. А вот теперь летят ко мне его слова. От слов этих невмоготу мне и хочется крикнуть: «Перестань!» Да кричать-то некому: Акима нет в живых, в какой его миллион вписали, не знаю, и потому больно мне, что взаправду уничтожали жизнь. И не только Акимову и Ксюшину, да и мою. А жизнь могла быть другой. За ту жизнь и шевелится во мне совесть и холодно мне. Прощай, отец. Холодно мне.
Он пошел к двери, и почувствовал, что на его спине выступил пот, собрался каплей и ледяной каплей покатился меж лопаток вниз.
– Семен… Сеня.
Шепот отца услышал Суходолов, но не остановился и не вернулся. Правильно ли он поступил, он не знал, хотя был уверен, что случился нужный, последний и справедливый разговор и что за захлопнувшейся с жалобным скрипом дверью остался мир, в котором ему уже нет места.
Тут Автор, совершенно не настаивая на бесспорности своих доводов, склоняется к мысли, что вдруг родившееся у Суходолова ощущение утраты места в обычном мире – пусть и по другим мотивам – волновало и Решкова.
Решков, конечно, не мог знать о подробностях встречи Суходолова с отцом, об их ночной беседе и о том как, в конце концов, Суходолов – вслед за жалобным скрипом крестьянской двери – очутился на деревенской улице, потом шел по тяжелой снежной дороге чуть ли не весь день, чтобы добраться до железнодорожной станции.
На станции – опять была ночь – к задумавшемуся Суходолову с разных сторон осторожно двигались два местных чекиста. Они приняли в расчет широкие плечи Суходолова и его суровое лицо, опасно похожее на лица крепких тамбовских крестьян. Чекисты были готовы к операции. Операция не состоялась.
– Не бойсь! – сказал Суходолов. – Давайте знакомиться.
На приглашение к знакомству они ответили поднятыми пистолетами.
– Правильно, – похвалил Суходолов, и протянул даже не удостоверение, а мандат, на котором была и подпись Ленина.
– Мы столько о вас слышали, товарищ Суходолов, – слегка волнуясь и перебивая друг друга, говорили чекисты.
– А познакомиться и увидеть вас пришлось при таких обстоятельствах.
Потом они сидели в ОТЧК – отделении транспортной чрезвычайной комиссии. До красна раскаленная «буржуйка» и густой махорочный дым напомнили Суходолову о былых кратковременных привалах карательных отрядов в тамбовских деревнях. Сходство усиливалось и готовым к действию пулеметом и висящими у дверей гранатами.
Суходолов поморщился, узнав, что выбраться отсюда можно будет только днем.
– До утра никакого движения? – спросил он.
Начальник ОТЧК помялся и нерешительно объяснил, что ночью ходят лишь маршрутные, особого назначения, составы.
– С живым грузом, – добавил он. – Место назначения – Тульский Централ. Идут без остановки на нашей станции. Скоро такой маршрутный и пройдет. Из Козлова. Так что, если хотите, на минутку задержим. Только вам придется ехать в теплушке, с конвоем, в духоте.
Поезд, сорок товарных вагонов которого были набиты козловскими мужиками и бабами, вывез Суходолова с Тамбовщины.
Бабьи вопли, долетавшие до теплушки и вызывавшие у конвоя смех и дружную ругань, Суходолову казались плачем над его полуслепым отцом, оставшимся доживать свои дни в мире, из которого он, Семен Семенович Суходолов, сам себя выключил.
Жалел ли он об этом? Автор не осмеливается сказать «да» и воздерживается от категорического «нет».
Автора больше привлекает убеждение, что пусть и далеко отличное от суходоловского «выключения» – своеобразное «выключение» из привычного мира испытывал и Леонид Николаевич Решков.
Сложность этих двух «выключений» – в будущем – отразится на судьбах некоторых героев «Моли», почему Ав тор находит нужным рассказать о том —








