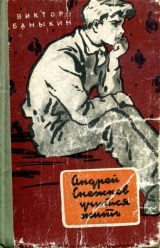
Текст книги "Андрей Снежков учится жить"
Автор книги: Виктор Баныкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Возвратившись однажды под вечер из леса, куда они ездили с Константином за дровами, старик вошел в избу, обирая с усов сосульки, да так и замер у порога.
Маша мыла полы. Она была в красной коротенькой юбке и полинялой синей косынке. Косынка вот-вот могла развязаться, и тогда тяжелые косы, сложенные на затылке кольцами, развернулись бы и упали на плечи. Маша проворно возила влажной тряпкой по желтым как воск половицам, и так увлеклась своей работой, что не заметила свекра.
Дмитрий Потапыч почесал переносицу и, переминаясь с ноги на ногу, сказал:
– Мареюшка, неужто нынче суббота?
Сноха выпрямилась, поправила мокрыми тонкими пальчиками косынку и улыбнулась.
– Нет, папаша, среда.
– А чего же ты уборкой занялась? – недоумевал старик. – Может, завтра праздник какой?
– Просто так, чтобы грязи не было.
И она снова легко и весело принялась за работу. И хотя у старика болела поясница и он собирался перед обедом полежать на печке, он отворил дверь и вышел. В сенях старик столкнулся с Константином.
– Обожди, – сказал Дмитрий Потапыч, – там Мареюшка пол моет.
Соседям Дмитрий Потапыч после говорил:
– Мне, слава богу, в снохах везет. Что старшая, что младшая – цены нет. Жалко – старуха не дожила. Покойнице на том свете, должно быть, и во сне не снится, что ее старик из тарелки ест... Мареюшка каждому по тарелке да по ложке алюминиевой купила, даже внукам – Егору и Алеше. Надо, говорит, по-культурному жить. Слышали? Что значит городской человек! Ну, с тарелкой я еще туда-сюда свыкся, а уж с ложкой – нет. Так деревянной и ем. Гневайся, говорю, Мареюшка, али еще что делай, – не могу.
VЗимой у старика было много свободного времени, и на досуге он любил рассказывать внукам про старые времена и своего деда – волжского бурлака Мартьяна.
Примнет пальцем табак в окованной медью трубке, не спеша возьмет из подтопка уголек, прикурит и заговорит:
– Сам дед Мартьян был из-под Вологды, а поселился у Волги, в Отрадном. По ту пору, сказывал, тут дворов не больше полста было. И народ все удалой да бедовый...
Как-то раз Дмитрий Потапыч сидел на расстеленной на полу кошме, протянув к подтопку ноги, и сосал трубку. Старший внук Егор играл с неуклюжим большеголовым щенком. Егор валил его на спину, и щенок силился перевернуться, перебирая в воздухе мягкими мохнатыми лапами, но у него ничего не получалось. Щенок начинал сердиться, старался поймать Егора за руку и укусить.
Младший, Алеша, тихий, болезненного вида мальчик, полулежал на кошме, подперев кулаками щеки и пристально смотрел в открытую дверку подтопка на яркое пламя. И оттого, что он долго и внимательно глядел на огонь, мальчику начинало казаться, что он видит какие-то фантастические картины, и у него сверкали от возбуждения глаза.
Вдруг Алеша поднялся, схватил Дмитрия Потапыча за рукав.
– Дедушка, – громко сказал он. – Вчера Егорка синичку поймал и дал ее мне подержать. Она клюв открывает и шипит, и сердце у нее шибко-шибко колотится. Спрашиваю ее: «Ты испугалась?» – а она молчит. Ничего не сказала, а глазами сердито смотрит, и вижу я, она все понимает, а говорить не хочет. Дедушка, почему птицы не говорят с нами, а только сами с собой?
– Так уж в мире устроено, Алеша, – молвил старик. – Ты говорить можешь, кузнечик стрекотать, а чайка летать горазда. А о чем она думает да кричит – того никто не знает... В том-то и штука, что никому не дано все знать. А то что было бы, когда человеку при его рождении вся жизнь как на ладони открылась? Скучно тогда было бы! Вот шестой десяток подходит, а мне многое еще не ведомо, и хочется допытаться, что к чему, будто бы и старости нет.
Он замолчал, и старое от долгой жизни лицо его отдыхало, ничего не выражая, кроме покоя, а быстрые и пытливые глаза были сощурены, смотрели в себя, но казалось, что старик только так – притворяется, а сам думает о чем-то очень важном, о чем не говорят, но думают все люди, и каждый по-своему.
– Потерпи, Алеша, вырастешь большой, многое узнаешь, – сказал Дмитрий Потапыч и погладил мальчика по голове.
В подтопке нет-нет да и стрельнет сучок, в фиолетовые окна ветер бросал горстями сухой снег, вокруг становилось все темнее, а по углам уже прятался мрак, и детям чудилось, что там кто-то притаился и слушает, и от этого им было немножко страшно.
Изредка вечерами, когда у Маши было свободное время, а читать что-то не хотелось и Павел все еще не возвращался с промысла – через день он посещал курсы бурильщиков, – она выходила на кухню послушать Дмитрия Потапыча. Она тихо опускалась возле Алеши и подолгу сидела не шевелясь: у нее было покойно и радостно на душе.
Иногда Маше казалось, что она маленькая девочка, а Егор и Алеша – ее братья и они домовничают с дедушкой. Скоро придет мать, и Маша, опередив мальчишек, бросится ей на шею... Или Маше представлялось, что их с Павлом впереди ждет какая-то большая, яркая жизнь, и она начинала волноваться, и у нее учащенно билось сердце. Летом они с мужем возьмут отпуск, надо только решить, как лучше его провести. Поехать ли им на пароходе до Астрахани или бродить по горам, отыскивать глухие уголки, удить рыбу на заре, когда Волга так тиха и спокойна, словно стоит на месте?.. А потом у них родится ребенок. Об этом Маша больше всего любила мечтать.
В один из таких тихих вечеров к Фомичевым пришел Евсеич.
Старик снял с большой лысой головы шапку и, держа ее в вытянутой руке, низко поклонился в передний угол, потом хозяевам и громко, нараспев, проговорил:
– Мир вашему сидению, не рады ли нашему появлению?
Алеша засмеялся, а Егор крикнул:
– Рады, рады, Евсеич, садись!
– То-то мне – рассумерничались, дедовы бывальщины все слушают, а он и рад соврать по дешевке, – пошутил Евсеич.
Старик сел на скамейку, и короткие ноги его не достали до пола.
– А где у вас другие домочадцы? – спросил он.
– Павел с работы не вернулся, а Константин со своей ушел к соседям в карты баловаться, – ответил Дмитрий Потапыч. Набив табаком трубку, он подал кисет Евсеичу, сказал: – Закури-ка моего забористого, в твоем крепости мало.
Гость свернул козью ножку. С минуту старики сидели молча, с наслаждением глубоко затягивались, потом Евсеич начал крутить головой и кашлять до слез.
– Ну и ну, пес тебя подари, – промолвил гость и, бросив цигарку в лохань, вытащил из шубы свой кисет. – С такого табачку немец сразу бы околел, истинный господь!
Ребята засмеялись, а Дмитрий Потапыч, попыхивая трубкой, сказал:
– С немцами я в прошлую войну воевал...
– Да-а... Какой пожар в мире раздувают эти фашисты... Ты газеты, лежебока старый, видно не читаешь? – с упреком заметил Евсеич.
– Нет, – сказал Дмитрий Потапыч. – Мареюшка с Павлом читают, а я нет. Пусть их там воюют, если им того хочется, нам-то что до этого? Мы другим дорогу не загораживаем, пусть и нам не мешают жить, как мы хотим.
Евсеич хлопнул рукой по колену и стал быстро расстегивать шубу.
– Меня от этих твоих слов даже в жар бросило, садовая твоя головушка, – укоризненно проговорил он. – Сразу видно, что в международных делах ты вроде как ребенок...
Гость поднял согнутый палец и убежденно добавил:
– С Гитлером у нас мира долгого не будет, потому что никогда такого не было, чтоб зло с правдой вместе ужились... Все дело в том, что в мире зла много и всегда оно хочет правду одолеть.
Дмитрий Потапыч нагнулся к дверке подтопка, выстукал трубку, повертел ее в руке – старую, с обкусанным мундштуком, и в раздумье медленно проговорил:
– Зачем загадывать вперед, поживем – увидим.
В избе сразу стало тихо-тихо. Все почувствовали какую-то тревогу. Словно большая беда и в самом деле должна была вот-вот разразиться.
Тягостное молчание нарушил Евсеич, ему сделалось неловко за то смутное волнение, которое он принес в этот дом, и он сказал:
– У берега уж майна появилась. Весна зимушку торопит, а старухе не хочется уходить, она ночью возьмет да ледком майну и затянет.
Евсеич поманил к себе Алешу и, когда тот подошел, зашептал мальчику на ухо какую-то смешную сказку. Лицо у Алеши посветлело, он прикрыл рукой рот и тотчас весело захохотал.
VIС возвращением Павла, особенно же с его женитьбой, в доме Фомичевых начались разные перемены, и заведенные когда-то порядки стали рушиться. Уже не завтракали и не обедали вместе, как раньше, разве только по воскресеньям, когда Павел и Маша не работали. Теперь в горнице всегда было чисто, появились пестрые дорожки. И шелуху от семечек на пол бросать не полагалось.
Тяжелее всех приходилось Константину: он никак не мог привыкнуть к новым порядкам и с нетерпением ждал весны, чтобы уехать на бакены.
И оттого, что он все свои переживания таил в себе, он сделался еще молчаливее. За зиму Константин всего один раз пообедал с удовольствием, и то не у себя, а у кума, потому что там ели из общей миски.
Каждое утро он вставал с одной мыслью: «Как снег сойдет, дом начну строить. Пора и самому хозяином быть».
А весна шла медленно. Уже стоял конец марта, а по ночам еще гулко трещал от мороза лед и утренники были крепкие, забористые.
Но к полудню снег все-таки начинал таять, на унавоженных дорогах змейками извивались быстрые ручьи, и на них, как и на солнце, невозможно было смотреть. На завалинках появились старики, они расправляли бороды и грелись на солнышке, полузащурив слезящиеся глаза.
С Волги доносился стук топоров и молотков. По берегу рыбаки конопатили, чинили и смолили лодки, готовясь к путине. В большой майне ребятишки удочками ловили рыбу.
Над берегом и майной летали стаями вороны, они садились на кромку льда и грелись, ощипывали взъерошенные перья. Вода в майне текла тихо, и река была еще безмолвна в зимнем своем одеянии, хотя позеленевший лед с каждым днем становился все тоньше и тоньше и на нем проступали лужицы чистой воды, в которые любило засматриваться солнце.
Пришел на берег и Дмитрий Потапыч с Алешей. Мальчик держал в руках удилище и баночку с червями. Всю дорогу он шел важно, как заправский рыбак, и не обращал никакого внимания на своих сверстников, у которых не было удочек.
Завидев Волгу, он забыл о напускной солидности и во всю прыть пустился к майне, высматривая себе удобное для рыбалки место.
– Васька, – закричал он, приметив среди мальчишек своего товарища. – У меня леска волосяная, лучше твоей!
Дмитрий Потапыч здоровался с рыбаками, приподнимая над головой малахай, с одними перебрасывался словцом, с другими останавливался поговорить, и шел по берегу дальше, к своим лодкам. Лодки у них с Константином были новые, в ремонте не нуждались, но старика тянуло на Волгу, хотелось повидать Евсеича, уже третий день пропадавшего на берегу.
В сдвинутой на затылок шапке Евсеич конопатил перевернутую вверх днищем лодку, ловко орудуя долотом и маленьким топориком.
– Бог в помощь, годок! – приветствовал Дмитрий Потапыч своего друга.
Евсеич проворно выпрямился и протянул подошедшему руку.
– Тружусь, как жук вожусь, – улыбнулся он нестареющими, веселыми глазами.
– Припекает? – спросил Дмитрий Потапыч, заглядывая в раскрасневшееся лицо приятеля с проступившими капельками пота у широкого приплюснутого носа.
– Эге, весна свое берет, – ответил Евсеич и, сняв с головы шапку, посмотрел на влажную, пропахшую потом, засаленную тулью.
И старики постояли минуту-другую молча, нежась под солнцем.
* * *
Константин с каждым днем становился беспокойнее. Ночами он плохо спал, и во сне ему все мерещился сруб нового дома. Проснувшись, он ощущал запах влажной смолистой щепы.
Целые дни он проводил во дворе, отрывал из-под снега бревна, ходил к плотникам и подолгу рядился с ними о плате за постройку. Потом возвращался домой, перебирал в сарае тес, прикидывал в уме: хватит ли его на крышу и другие работы.
Уставший и взволнованный, он усаживался на ступеньку крыльца, грелся на солнышке и все думал о своем доме.
Из кухни выходила Катерина босиком, в подоткнутой юбке и просила мужа пойти в избу и отдохнуть.
Константин неохотно отвечал:
– Ладно, приду, – и продолжал сидеть.
Пришел из школы Егор, как-то сразу выросший за эту зиму. На нем был короткий и узкий в плечах суконный пиджак нараспашку. Константин сказал:
– Давай-ка, Егорка, перевернем бревнушки, чтобы их лучше просушило.
Отец с сыном взяли колья и начали ворочать лес. Ворочали они его долго и старательно.
Отворилась калитка, и во дворе появилась Маша.
– А вы все работаете? – приветливо улыбнулась она. – Может, помочь?
– Где уж тебе, – снисходительно засмеялся баском Егор и важно добавил: – Не женское дело!
Маше не хотелось идти в дом, она остановилась на крыльце и, ни о чем не думая, долго смотрела на горы, сверкающие снежными вершинами. Но она не видела Жигулей, она совсем не замечала ничего вокруг, она даже забыла, казалось, о своем существовании.
На работе Маша тоже часто теперь впадала в такое состояние. Она отодвигала в сторону арифмометр и, оболокотившись на расчетные ведомости, минутами глядела в окно. На Машу обращал внимание бухгалтер, лысый, в очках, пожилой мужчина, страдавший изжогой, а она по-прежнему была где-то далеко со своими мыслями. Чтобы избавить ее от неприятного объяснения, смелая, бойкая девушка Валентина Семенова громко говорила:
– Мария, дай мне резинку!
Маша оборачивалась к подруге – бледной, угрястой девушке, – и вместо резинки протягивала ей карандаш, а Валентина изгибалась и весело шептала в заалевшее Машино ухо:
– В тебя наши очки влюбились...
Постояв на крыльце еще некоторое время, Маша прошла в свою комнату. Она сняла шерстяное платье и надела домашнее, с короткими рукавами, поправила перед зеркалом волосы, пристально разглядывая появившиеся около носа веснушки.
С замужеством Маша вся как-то изменилась. Она стала задумчивее и медлительнее в движениях. Миловидное лицо с ямочками на пухлых, слегка разрумянившихся щеках кротко и застенчиво улыбалось, когда к ней кто-нибудь обращался.
Если нечего было делать в кухне, Маша садилась в комнате перед окном, возле столика с кружевной скатертью, брала книгу, читала одну-две страницы, потом опускала книгу на колени и смотрела на голубую с белыми лилиями фарфоровую вазу для цветов – подарок Павла.
Она думала о наступающей весне, и в груди теснились неопределенные желания: глухая тоска о чем-то несбывшемся и какие-то стремления к неизвестному, загадочному, к тому, что не имеет имени, но волнует и тревожит.
Павел все больше и больше втягивался в работу. С промысла он нередко возвращался поздно. Он заметно похудел, серые глаза его ввалились и под ними появилась синева, но домой он приходил возбужденным и бодрым, будто и не уставал. Павел рассказывал Маше о своей учебе на курсах, о соревновании между вахтами, о новом оборудовании и о многих других делах бригады, которые принимал близко к сердцу.
Как-то под вечер, в один из последних дней месяца, он пришел особенно оживленный.
– Машенька, поздравь, – весело сказал он. – Наша буровая план выполнила. Первой на промысле!
За обедом Павел много и с охотой ел и все находил вкусным: и щи, и пшенную кашу, и оладьи в сметане.
– Устал? – спросила Маша.
Павел поднял на нее глаза, и они загорелись юношеским огоньком, и он вдруг так преобразился, что Маше захотелось обвить его ребячески тонкую шею и целовать его долго-долго.
– Когда работа спорится, не замечаешь усталости, – сказал Павел, опуская глаза. – А нынче проходка скважины шла хорошо. Оглянуться не успел, как и дня нет.
Покончив с обедом, Павел обычно шел в комнату и, почитав газету, садился готовиться к очередному уроку. Когда из района привозили новые фильмы, он с Машей ходил в клуб. Но на танцах они не бывали: не хватало времени. Маша записалась в кружок кройки и шитья и теперь не пропускала ни одного занятия.
В этот вечер Павел особенно долго читал «Правду». А потом, опустив на колени газету, задумчиво сказал:
– Да-а... Плохи же там дела...
– О чем ты? – спросила Маша, занятая вышивкой дорожки.
– Война в Европе все разгорается. Немцы Англию каждый день бомбят.
И он снова углубился в чтение. Маша бросила работу и промолвила:
– Павел, неужели и нам придется воевать?
– Кто знает? Может быть... – Павел взглянул в побледневшее лицо жены и замолчал.
Ему вдруг стало жалко Машу: ну зачем, зачем он ее так растревожил?
В другие вечера, случалось, устав от занятий, Павел снимал со стены гитару и спрашивал Машу:
– Сыграешь?
Маша брала из рук Павла гитару, пробовала струны и начинала играть что-нибудь протяжное и грустное. Если она была в настроении, то негромко подпевала. Пела Маша с чувством, и слушать ее было всегда приятно. Павел нежно обнимал жену, откидывал назад голову, и замирал, довольный своим счастьем.
Маша расходилась все больше и больше. Немного кокетничая, она пела, ласково заглядывая в лицо Павлу:
Меж крутых бережков
Волга-речка течет,
А по ней на волнах
Легка лодка плывет...
«Кажется, я его люблю», – растроганная и возбужденная, говорила себе Маша.
А Павел думал о том, какая у него хорошая, милая жена и какое большое выпало ему счастье.
Но такие вечера случались не часто. Почти постоянно Павел бывал уравновешенным и даже, когда Маша мечтала вслух, например, о том, как летом во время отпуска они будут жить на тихой Усе, он рассудительно замечал:
– Надо к тому времени полог брезентовый достать.
– Зачем?
– Палатку сделаем, чтобы дождь не промочил, ежели ненастье случится.
Рассуждения мужа Маша находила будничными, скучными, и ей уже не хотелось после этого ни о чем говорить.
А Павел продолжал:
– Тебе тогда придется беречься да беречься!
Маша молчала. Павел не допускал мысли, что у них может не быть ребенка. Каждый вечер, ложась в постель, он спрашивал Машу:
– Ничего не чувствуешь?
– Нет, – смущенно и подавленно отвечала она.
И это неведение уже начинало тревожить и угнетать Машу, а вопросы Павла больно кололи в самое сердце.
Как-то после работы он поспешно вошел в комнату в промасленной спецовке. Маша шагнула к нему навстречу, но вдруг взялась руками за шею и отвернулась, прижалась лбом к спинке кровати.
Павел бросился к жене.
– Что случилось? – испуганно спросил он, боясь дотронуться до жены, чтобы не причинить ей лишнюю боль.
– Плохо... тошнит меня... – неожиданно Маша повернула к нему бледное лицо и закричала: – Уходи скорее, от тебя нефтью пахнет... Ой, не могу!
С этого раза Маша не могла переносить запаха нефти. Возвращаясь с промысла, Павел на кухне снимал спецовку, долго и старательно умывался с мылом. Теперь, когда он появлялся в комнате, она наполнялась тонким ароматом спелой земляники.
Однажды Маша совсем отказалась от ужина.
– Может быть, тебе кислого молока принести, Мареюшка? – участливо спросила Катерина.
– Нет, – покачала головой Маша. – Я хочу моченых яблок. Третий день только о них и думаю. Целое блюдо съела бы!
Катерина вдруг просияла. Потом понимающе закивала головой, но ничего не сказала.
Павел озадаченно потрогал небритый подбородок и недовольно проговорил:
– Что это с тобой?
Дмитрий Потапыч, строго посмотрев на сына, сказал Катерине:
– Ты уж, милая, расстарайся, а яблочков завтра достань.
– Знаю, – ответила та. – Со мной тоже такое было...
Лицо у Маши порозовело, она встала из-за стола и убежала в свою комнату.
Когда на следующий день она вернулась с работы, Катерина, светясь улыбкой, поставила на стол тарелку с мочеными яблоками.
– Ешь на здоровье, Мареюшка. Бегала, бегала, кое-как нашла.
Не раздеваясь, Маша присела к столу и нетерпеливо взяла первое попавшееся яблоко. Съела его с жадностью и принялась за другое. Откусила два раза и почувствовала, что уже сыта.
– Наелась, Катюша, – сказала Маша, не зная, что делать с яблоком: есть больше не хотелось, а положить его обратно на тарелку было жалко. – Думала, никогда не наемся, а вот смотри...
– Когда я первенького понесла, меня на грецкие орехи позвало, а в лавке их не случилось. Пришлось Косте в Ставрополь ехать, – проговорила Катерина, подперев щеку большой морщинистой рукой с потускневшим серебряным колечком на безымянном пальце.
– Неужели, Катюша... – взволнованно начала Маша и, не договорив, закрыла руками лицо.
Всю домашнюю работу Катерина старалась теперь делать сама, а Маша этого не хотела, она помогала ей и даже научилась доить корову. И за то, что она не сторонилась самой грязной работы, Катерина все больше привязывалась к ней.
После смерти свекрови всем хозяйством управляла Катерина. И хотя у нее много прибавилось новых забот, она даже пополнела и разрумянилась.
Катерине казалось, что счастливее ее нет никого на свете. Единственно, чего она еще желала, это родить дочь. Детей она любила маленькими – до двух-трех лет, а когда они начинали вырастать, Катерина немного остывала к ним. После первого, Егора, у нее все дети скоро умирали и только восьмой, хилый мальчик Алексей, остался жить. Но с тех пор Катерина уже больше не рожала.







