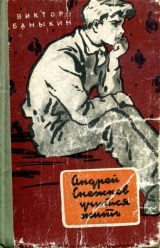
Текст книги "Андрей Снежков учится жить"
Автор книги: Виктор Баныкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
6 марта, четверг.
Почти всю большую перемену Елена Михайловна проговорила с девчонками. Наши тараторки о чем-то с ней секретничали, а она, стоя у двери в класс, то чему-то улыбалась, кивая головой, то что-то негромко говорила, все время держась рукой за дверную скобу.
Я прохаживался по коридору из стороны в сторону, будто ничего не замечая, а сам все украдкой смотрел и смотрел на Елену Михайловну... Кто бы только знал, как мне хотелось постоять в это время рядом с ней! Ходил и завидовал Маше Гороховой – самой тихой девочке из нашего класса, которую Елена Михайловна обняла за плечо.
А когда минут за пять до звонка Елена Михайловна ушла в учительскую, а девчонки разбежались кто куда, я подошел к двери и с замиранием сердца провел ладонью по железной скобе. Скоба была еще совсем-совсем теплой, согретая маленькой, нежной рукой... ее рукой.
В тот же день.
Теперь расскажу, что было вчера вечером. Из школы я вернулся злой и голодный. И только присел за стол поесть, как в сенях – стук-стук!
Открываю дверь, а на пороге парень, длиннущий – вроде меня.
– Тебе кого?
А он мнется, переступает с ноги на ногу и молчит.
Смотрю, а парень чуть ли не босиком: на голых ногах рваные брезентовые ботинки. Это в марте-то!
– Есть хочешь? – спрашиваю без всяких церемоний.
Мотнул головой, а сам опять молчит. Хватаю его за рукав и волоку в прихожую.
– Раздевайся, – говорю, – и мой руки.
Стащил он с плеч мохристенький пиджачишко, а под ним – ну и ну! – дырявая майка без рукавов.
– И умыться можно? – спрашивает. – А то я... уж не помню, когда умывался.
– Валяй, – отвечаю и бросаюсь в комнату за полотенцем.
А когда вернулся в прихожую, смотрю, а мой парень руки о волосы вытирает – длинные и жесткие, как солома.
– Это ты что делаешь?
– А они у меня... вроде полотенца! – улыбается.
Прошли в комнату.
– Давай теперь знакомиться, – говорю. – Меня Андреем, а тебя как?
– Ванькой! – А сам на стол украдкой озирается. Догадался: голоден, видать, Иван, как самый последний бездомный кутенок.
– Садись, – киваю, – и безо всякого Якова ешь до завязочки!
Улыбается, а глаза синие такие – прямо по плошке.
Пока обедали, ни о чем не расспрашивал его. Пусть уминает за обе щеки. Ведь вон какой – кожа да кости: шея длинная, тонкая, лицо прямо-таки прозрачное, а на висках, будто паутина, голубые жилки.
Насытился, и улыбка на лице еще светлее, еще шире.
– Спасибочко! – говорит. – Как у мамки, на праздник повечерял! Право слово!
– А мамка-то есть? – спрашиваю.
– Была когда-то...
– Умерла?
– А бис ее знает! – Иван помолчал, на лбу собрались гармошкой морщины, совсем как у взрослого. – Все ничего жили – она на работе в конторе, бабка в хате возится... С Украины я, из-под Запорожья... А пришло извещение: убит под Берлином отец, ну, и мамка того... сорвалась с катушек. Через год двойняшек принесла от святого духа. Ребятишек в детдом отволокла, а сама опять пить да гулять. А потом и совсем укатила... в неизвестном направлении... с типом одним – директором какой-то базы.
Иван наклонил голову и осторожно колупнул ногтем большого пальца крышку стола – будто слегка прикоснулся к только что затянувшейся ране.
Я сказал первое, что пришло на ум:
– А не сходить ли тебе, Иван, в баню?
Он поднял на меня глаза и мгновение-другое смотрел, ничего как будто не понимая. А потом, краснея, проговорил, разводя руками:
– Я бы с радостью... да у меня ни копейки за душой и бельишка тоже... Как из колонии отпустили, я сразу сюда – к вам на стройку. Да в дороге беда случилась: обокрал меня урка – он вместе со мной из колонии вышел. Тоже хотел на стройку, да обманул, сука! Ну и пришлось мне свою новую робу загонять... не помирать же с голоду!
Я проворно вскочил и бросился к старому пузатому комоду (мама даже любит этого смешного уродца – он был куплен когда-то давным-давно бабушке в приданое!). Выдвигаю скрипучий ящик. Нет, не тот. Выдвигаю другой – кряхтит, как неподмазанная телега. Здесь мое белье. Выхватываю из ящика рубашку, трусы, носки... Попались на глаза лыжные штаны в заплатах – их тоже в кучу. Наскреб по карманам и рубль сорок мелочью.
– Валенки надевай пока мои, – говорю Ивану. – А там придумаем что-нибудь. И вот этот шубняк тоже. А свое барахло выброси... во дворе бани ящик для мусора стоит. Ясно?
Иван смеется.
– Ясно. Ты только заверни мне все это... в газету, что ли. Я уж после бани надену – и валенки и полушубок... А как ты думаешь, на работу я тут устроюсь?
– Устроишься. У нас тут люди нарасхват.
Иван опять смеется.
– А примут меня... такого?
– Вот чудак, конечно, примут!
Запихал я все «снаряжение» для Ивана в рюкзак, рассказал, как дойти до бани.
– А теперь дуй давай! – и шлепнул Ивана по плечу.
Иван вышел уже в сени, когда я кинулся вслед за ним:
– Стоп! – кричу. – А мыло и мочалку? Забыли!
Проводил, наконец, парня, перемыл посуду – и за уроки. А на душе как-то тревожно. А вдруг, думаю, мой Иван не вернется? В чем я тогда завтра в школу пойду? Гоню от себя эти противные мысли – ну, можно ли не верить в человека? – и еще ниже склоняюсь над учебником истории.
И не услышал, как мама после работы вернулась.
– Андрюша, – спрашивает, – что с тобой?
Я даже вздрогнул. Ну надо же! И в лицо-то еще не посмотрела, а сама догадывается о чем-то.
– Разве не видишь? – говорю. – Уроки учу.
– Вижу, – мама улыбается и больше ни о чем не спрашивает.
А мне уж и самому невтерпеж, так и тянет рассказать ей про Ивана. Не прошло, наверно, и пяти минут, как я решительно так поворачиваюсь вместе со стулом к маме и заявляю:
– Пожалуйста, только не перебивай!
Она выслушала меня и ничего не сказала. Лишь вздохнула.
Прошел час, а Иван все не возвращается. Решаю задачи, а сам нет-нет да на будильник посмотрю. Проходит еще полчаса. Тут уж окончательно не выдерживают мои нервы, и я вскакиваю и направляюсь к вешалке. Хватаю старенькую телогрейку, в которой вожусь по хозяйству, и вдруг слышу из кухни мамин голос:
– Андрей, ты куда?
– Да вот, понимаешь... хочу сходить Ивана встретить... может ведь и заплутаться.
– Ну, что ты! У нас дом приметный, найдет.
Я захожу нерешительно на кухню и, остановившись возле мамы, заглядываю ей в глаза – в добрые, карие глаза, всегда почему-то немного грустные.
– Ты на меня сердишься?
Мама качает головой:
– Нет.
И только я снова сел к своему столу, как он и заявился – пропадущий Иван. У меня сразу от сердца отлегло.
«Эх, болван, – обругал я себя, – и надо ж было нехорошо о человеке подумать!»
А Иван уже снимает шубняк. Гляжу на него... ну и ну, будто подменили парня! Весь чистый, сияющий: волосы приглажены, рубашка в самую пору, штаны тоже. Щеки чуть порозовели, а глаза – глаза Иван тоже, казалось, промыл: они совсем поголубели и смотрели сейчас мягко и доверчиво так. Только вот залихватский чубик, свисавший на лоб, был совсем-совсем ни к месту. Тут мама из кухни вышла и говорит:
– С легким паром, молодой человек!
– Спасибо, – кивает Иван смущенно.
Знакомлю их и приглашаю Ивана к своему столу – он у меня у окна, рядом с тахтой притулился. Раньше, когда мы жили одни, у меня в той, другой, комнате и тахта и стол этот стояли. И полочка с книгами. Теперь у Глеба вместо полочки книжный шкаф. Он в каждую получку столько книг покупает! И не одну лишь беллетристику, но и разные научные, да с такими иногда названиями, что, пока прочтешь, раза три споткнешься!
– Садись, – говорю Ивану. – Будь как дома.
Иван присаживается на краешек тахты и молчит. Наверно, стесняется мамы. А мама ходит по комнате туда-сюда и, чтобы не смущать Ивана, старается не смотреть в нашу сторону.
Все молчим. А будильник отстукивает минуты. Ну что бы такое придумать, о чем заговорить? Выручает Глеб. Он, как медведь, вваливается с шумом, широко распахивая дверь, и еще от порога приветствует:
– Добрый вечер! Только у меня он не очень добрый – в полынью чуть не угодил.
Выходит на середину комнаты, приглаживая копну густых черных волос, и добавляет, скаля сверкающие зубы:
– Никак в нашем полку прибыло?
И по-приятельски подмигивает Ивану.
Первой заулыбалась мама, за нею Иван. А я подлетел к Глебу и напал на него сбоку.
– Андрюша, как не совестно, – говорит мама. – Глеб устал, а ты... Перестань сейчас же!
Но мы ее не слушаемся. Немного погодя я зову на помощь Ивана. И такая начинается веселая возня!.. Воспользовавшись оплошностью Глеба, мы, наконец, валим его на пол.
– Сильны мужички, нечего сказать! – отшучивается Глеб. – Подождите малость, подзаправлюсь, я вам покажу! Узнаете, почем фунт лиха! – И, обращаясь к Ивану, добавляет: – Только знай, парень, мы эдаких силачей, как ты, на стройку не берем. Беды от вас не оберешься – все покалечите!
– А ты откуда знаешь, что он на стройку к нам приехал? – спрашиваю я с удивлением.
Глеб отрезает от буханки добрый ломоть, солит его круто и смеется.
– По глазам вижу. Вон они у него какие – озера!
И снова смеется.
– Нет, правда, Глеб, ты поможешь Ивану куда-нибудь устроиться на работу? – пристаю я к нашему квартиранту.
Иван смотрит на Глеба с надеждой и тревогой. А тот с минуту молчит, а потом спрашивает, уже совсем серьезно:
– Паспорт имеешь?
– Имею, – кивает Иван. – И справку еще и грамоту...
– Ого, и грамоту даже! Тогда, парень, твое дело в шляпе. Только знай: стройка наша особая, передовая. На нее весь мир смотрит. Не подведешь?
Иван опускает глаза и негромко говорит:
– Нет.
И щеки его опять загораются, как час назад, когда он вернулся из бани.
Спать мы легли с Иваном на моей тахте. Уснул он сразу, лишь только опустил на подушку голову.
Интересно, куда Глеб его пристроит? Если бы шел разговор обо мне, я попросился бы к самому Глебу в ученики. Очень уж по душе мне его работа!
7 марта, пятница
Неудача! Собирался в большую перемену проделать эксперимент насчет сличения девчачьих почерков, да помешали Борька Извинилкин, Колька Мышечкин и кто-то еще из ребят – уж не помню сейчас кто.
Сидели на подоконнике и всю перемену гадали: красится Римка или не красится?
Борька говорил – да, другие – нет. Решили заманить Римку в класс и проверить. А она не пошла. Вырвалась и убежала.
В тот же день.
После уроков высыпали на улицу целой оравой: наших сорванцов десятка полтора да чуть ли не столько же из девятого «А». Едва отошли от школы, как началось «Бородинское сражение»: задиры «ашники» (так мы зовем ребят из девятого «А») двинулись стенкой на нашу братву. Бой был принят. Скоро в ход пошли портфели, шапки, фуражки. Мы, конечно, не дрались, а так, ради забавы, тузили друг друга – чтобы поразмяться. Смех, крик, гогот на всю улицу!
Вдруг Данька Авилов как заорет:
– Полундра! Голубчик на горизонте!
Смотрю, и верно: от часовой мастерской прямо на главные борющиеся силы величественно шествует Голубчик в своих скрипучих, до блеска начищенных сапогах.
Кто-то из ребят бросился подбирать рассыпавшиеся по снегу тетради, кто-то, схватив шапку, метнулся в первую попавшуюся калитку. Но самые горячие головы, войдя в азарт, даже и не подумали разбегаться, а продолжали баталию с прежней силой.
До поля боя оставалось шагов с полсотни, когда Голубчик, подняв воротник, перешел на противоположную сторону. И так же величественно прошествовал до самой школы.
Когда смельчаки из нашего класса, победив «ашников», отряхивались от снега, в дверях часовой мастерской показался улыбающийся Борька Извинилкин.
Ребята встретили его криками «приветствия»:
– Ура нашему Кутузову!
– Да здравствует победитель!
– Отставить! Вольно, храбрые воины! – попытался отшутиться Борис, но его подхватили на руки и начали качать.
Вид у Бореньки после усердствования его «храбрых воинов» был отнюдь не блестящий.
– Ну вас к черту, пошутить не умеете, – ругался растрепанный Борька, приводя себя в порядок.
Но через минуту смягчился и всех щедро одарил сигаретами.
– А ты, Андрюшка? – Борис размахивал перед моим носом оранжевой, с золотым ободком коробкой. – За компанию!
– Выдумал! – заржал Колька Мышечкин. – Наш Андрюха Каланча праведник! Он и не курит и за девчонками...
– Заткнись! – сказал я и, чтобы унять зубоскала, кивнул Борьке: – Давай!
Прикурил и, ни на кого не глядя, принялся дымить, как лесопилка. Не скажу, чтобы мне было приятно: в горле першило, на глаза навертывались слезы, но я не обращал внимания на эти пустяки. Пусть все знают: я тоже умею курить!
И все бы, кажется, кончилось благополучно, если бы на углу, после того как распрощался с мальчишками, мне вдруг не стало плохо... Закружилась голова, закружилась так, что едва не упал. Хорошо хоть один был. А то бы на всю школу завтра просмеяли!..
Вечером опять ходил в школу – на занятия спорткружка. А когда, собравшись домой, вышел из раздевалки, в полутемном коридоре наткнулся на Машу Горохову.
– Ты чего тут скучаешь? – спрашиваю.
– Так... подружку поджидаю, – приветливо заулыбалась Маша: видно, ей надоело одной стоять.
Неожиданно в голове мелькает мысль: а не поцеловать ли Машу? Я ведь еще ни разу, ну, совсем ни разу, ни одной девчонки в жизни не целовал.
Пришвартовываюсь к Маше и осторожно так начинаю обнимать ее за плечи.
– Не балуйся, ну тебя! – поводит плечом Маша. – А то еще увидят.
– Так уж и увидят? – говорю, а сам думаю, что у меня все как-то неуклюже получается – наверно, от неопытности.
Нагнулся, чтобы поцеловать, а Маша вся как-то сжалась, зажмурилась и прямо-таки не дышит. Тут я и целоваться передумал. Еще расплачется! И, ничего не сказав, пошел к двери.
Всю дорогу до дому ругал себя на все корки. Правда, ну разве я нормальный человек! Все ребята как ребята, а я? Ростом вымахал с пожарную каланчу, а сам ни курить не научился, ни с девчонками обходиться... Эх, горе да и только!
8 марта, суббота.
Пропал Максим. Вот уже два дня нет его в школе. Перед началом последнего урока Елена Михайловна спросила:
– Кто знает, что случилось с Брусянцевым?
Римка, только что собиравшаяся вручить учительнице горшок с чахлой геранью, вручить торжественно, с прочувственными словами, сразу как-то скисла.
– Ну, кто же знает, что стряслось с Брусянцевым? – снова повторила Елена Михайловна.
Все переглядывались, но молчали. Вдруг поднялась чья-то рука.
– Разрешите, Елена Михайловна?
– Говори, Иванова.
Встала Зойка. Тряхнула кудряшками и сказала:
– Мне кажется, Елена Михайловна, к Максиму может сходить... – Зойка лизнула кончиком языка губы и добавила: – Снежков. Они как-никак друзья.
И Зойка, краснея, уколола меня пронизывающим взглядом.
Вертя в руках карандаш, Елена Михайловна посмотрела внимательно вначале на Зойку, уже севшую на свое место, а потом на меня.
Чувствуя, как загораются щеки, я опустил глаза и пробурчал:
– Ну да, если какое поручение... так всегда Снежкова вспоминают.
Но в душе я был рад, что именно меня вспомнила Зойка.
Борька Извинилкин с задней парты крикнул:
– Прошу извинить, но кандидатура вполне подходящая!
Кто-то засмеялся. Елена Михайловна постучала карандашом по столу:
– Тише, продолжаем урок.
Прямо из школы я пошел к Максиму. Шел и думал: Максим, конечно, мне друг, но странный он все же какой-то человек. Скрытный, молчаливый... Бывало, зимой, только кончим готовить уроки, Максим сразу же начинает собираться домой. Мама оставляет чай пить, а он одно: «Спасибо, мне домой пора». Скажу: «Я провожу тебя», – а он опять: «Спасибо, один дойду». А если, случалось, я и увязывался с Максимом, то всегда прогулка кончалась так: дойдем до его квартиры, постоим у ворот и разойдемся. Правда, почему он такой... такой не совсем понятный?
Ну, вот и шатровый домик с покосившимся парадным крыльцом. Тут-то и живет Максим. Брусянцевы занимают вторую половину, и вход к ним со двора.
На мой негромкий стук в дверь никто не ответил... Первым, кого я увидел, войдя в дом, был Максим. Он стоял у стола и... гладил белье. Да, проворно и ловко водил по белоснежной мужской сорочке тяжелый утюг, водил так, будто всю жизнь только этим и занимался!
В школе все думают: заболел Максимка, а он – нате вам, чертом пляшет вокруг стола, размахивая утюгом, и, по всему видно, готовится пойти на какой-то бал!
У меня, наверно, была идиотски смешная рожа, когда Максим, подняв от стола всклокоченную голову, глянул на дверь. Короче, он растерялся еще больше, чем я.
Тонкая рука Максима, водившая утюг по рукаву сорочки, вдруг приросла к одному месту, а глаза, не мигая, уставились на меня.
– Максимушка, утюг... убери скорее, спалишь сорочку.
Я невольно повернул голову и... вздрогнул. На простой железной койке лежала женщина, прикрытая до подбородка байковым одеяльцем. Продолговатое лицо ее с ввалившимися щеками казалось неживым. Живыми были на этом гипсовом лице только глаза – светлые, тихие – вылитые Максимкины глаза.
«Мать! – подумал я. – Но почему же Максим ни разу не обмолвился, что она у него такая больная?»
Максим поставил утюг на конфорку от самовара и покосился на дверь в соседнюю комнату. А там, за дверью, кто-то весело напевал:
Незабудки, эх, незабудки,
До чего ж ми-илые цветы...
– Не прожег? – снова шепотом спросила женщина. Максим яростно затряс вихрами.
Внезапно дверь из комнаты распахнулась, и в Максима полетела стоптанная сандалия.
– Эй, ковыряло-шевыряло, подавай сорочку! – Грубый этот выкрик, раздавшийся вслед за шлепнувшейся у Максимкиных ног сандалией, совсем не был похож на приятный, бархатистый тенорок, только что заливавшийся соловьем.
Я ничего не понимал. А Максим, осторожно взяв сорочку – двумя пальчиками правой и двумя пальчиками левой руки, – понес ее в комнату.
Женщина проводила Максима жалостливым и любящим взглядом и негромко сказала, обращаясь ко мне:
– А вы проходите, присаживайтесь.
Я не знал, что делать: бежать ли мне или пройти к столу и сесть на табуретку? Тут из комнаты вышел Максим. Притворил дверь и сказал:
– Садись, садись, Андрюша, он сейчас уйдет.
Помолчал и обратился к матери:
– Ты, мам, пожалуйста, ничего ему не говори.
Я присел. Максим принялся убирать со стола утюг, конфорку, простыню...
Немного погодя в дверях комнаты показался стройный, очень моложавый мужчина лет сорока, распространяя вокруг себя крепкий запах духов. На нем было синее дорогое пальто с серым каракулевым воротником. Ноги, обутые в белые бурки, ступали мягко, бесшумно, словно лапы кота.
Заметив меня, он тотчас растроганно заулыбался и – как пишут в книгах – галантно раскланялся. Ну совсем-совсем молодой человек этот изысканный с виду... отец Максима или кто-то другой. Только волосы чуть подкачали: на самой макушке вылезли, и там стыдливо розовела большая, с чайное блюдце, лысина.
Проходя мимо Максима, улыбающийся франт ласково потрепал его по голове. Максим весь вспыхнул, отвернулся.
Оба – мать и сын – облегченно вздохнули, когда синее пальто окончательно скрылось за дверью.
Я как-то не решился спросить Максима, почему он не был в школе, а молча достал из полевой сумки книги и тетради и стал их раскладывать по столу.
Когда сделали все уроки, я сказал Максиму:
– Ну, а теперь давай помогу тебе... Какие на очереди хозяйственные дела? Говори!
– Не-ет, я сам, – Максим замахал руками. – Спасибо, что пришел вот...
– О тебе сегодня Елена Михайловна спрашивала. А Зойка сказала: пусть Снежков сходит.
Максим как-то смутился и потупил блеснувшие радостью глаза.
– Ты уж... извини, – немного погодя сказал он, все еще не поднимая глаз. – У отца работа нервная, он все время на людях... ну и, случается, выходит из себя.
У меня чуть не сорвалось с губ: «Да неужели... это был твой отец?» Но сдержался. И только спросил:
– А где он работает?
– В ресторане... заведующим.
Ушел я от Максима часа через два. За это время мы с ним и голландку истопили, и воды натаскали, и раскололи десятка два сучкастых сосновых чурбаков.
Максим совсем оттаял и, провожая меня до ворот, шепнул на ухо:
– А ты... ты теперь приходи! Ладно?
Я уже, дошел до своего дома, когда вдруг подумал: «А тот синяк у Максимки под глазом... может, отец ему тогда поставил? В припадке «нервного расстройства»?
Не знаю, как помочь Максимке, а как-то надо бы. Ох, видать, и нелегко, ох нелегко живется Максимке с матерью! А болеет она, оказывается, уже несколько лет. Несколько лет не встает с постели, и все хлопоты по дому лежат на худых костлявых Максимкиных плечах. А он никогда, ни разу за всю зиму не пожаловался на свою невеселую жизнь...
Дома был один Иван. Едва я переступил порог, как он бросился мне навстречу – возбужденный, сияющий.
– Андрюха, с понедельника работать начинаю!
– Да ну? – закричал я, подбрасывая к потолку малахай.
– Право слово, бис рогатый! Мы с Глебом Петровичем все кадры обошли... На земснаряд матросом меня зачислили. И земснаряд этот самый видел. У-у, скажу тебе: махина! Прямо как крейсер... право слово!
На Иване была широченная спортивная куртка, висевшая мешком. А на ногах – тяжелые солдатские ботинки, и тоже богатырских размеров. Препотешно выглядел Иван в этом наряде из «гардероба» Глеба.
Так и хотелось от души рассмеяться.
А Иван, ничего не замечая, поймал мою руку и крепко сжал ее в своих жарких руках.
– Век не забуду, Андрюха... Поверь моему слову! И в первую же получку и с тобой, и с Глебом Петровичем...
– Перестань! – не на шутку рассердился я. – И как тебе не совестно?
Не успел я еще повесить на вешалку шубняк, как заявился Глеб, нагруженный разными свертками. Я сразу догадался: у квартиранта получка.
– Держите, ерши, еловы ваши головы! Чуть донес! – сказал Глеб, топчась у порога.
Мы с Иваном перетащили на стол кулечки, пакеты и свертки. И чего тут, оказывается, только не было! И банки с рыбными консервами и сгущенным молоком, и сахар, и пакеты с крупами, и большущая тяжелая книжища «Русское искусство первой половины XIX века», и даже... шоколад. Красивую коробку с шоколадом Глеб бережно протер носовым платком и положил в буфет, в самый угол, за чашки.
– Теперь, – сказал он, – давайте чай пить. Кипяток у нас есть?
– Сейчас будет, – сказал я и побежал на кухню. Признаюсь, я и сам здорово проголодался.
Когда пили чай – густой, крепкий, настоящий китайский чай (Глеб никому не доверял заваривать чай, даже маме), пришел Борька.
– Извините, – проговорил он от порога, снимая котиковую шапку. – Я не помешал?
– Никак нет, милости просим, товарищ изобретатель! – с притворной изысканностью заговорил Глеб, почему-то не любивший Извинилкина. – Может, с нами чайку откушаете?
– Спасибо, благодарю, – вежливо ответил Борис, распахивая, но не снимая кожаную куртку. – Вы, Глеб Петрович, каждый раз все по-новому меня величаете. Я уж и профессором у вас был, и художником...
– Уважаю, – хохотнул Глеб, хитро щуря глаза. – Не уважал бы – не величал!
Борис прошел вперед и сел на тахту.
– Держи, Андрей, тебе.
Я взял из рук Бориса книгу. Она была, как и все книги, которые приносил Борька, в газетной обертке. Посмотрел на первую страницу и чуть не подпрыгнул: «Русский лес» Леонида Леонова, – вот здорово! Этот роман Леонова у нас в Старом посаде невозможно было нигде достать. В библиотеках – длинные-предлинные очереди. Через полгода и то не дождешься!
– Ой, Борис, какой же ты молодец! – сказал я, присаживаясь рядом с товарищем. – Где это ты раздобыл?
Борис чуть снисходительно улыбнулся и тронул ладонью заботливо расчесанные на косой пробор волосы – редкие, какие-то пепельные.
– Книги не по моей части. Отец с матерью за ними охотятся. Между прочим, им этот фолиант что-то не по душе пришелся... Хочешь, возьми насовсем. А гроши как-нибудь потом отдашь.
Борис опять улыбнулся.
– А вот взгляни-ка, что я раздобыл нынче.
И он вынул из кармана миниатюрный, поблескивающий никелем и лаком фотоаппарат.
– Немецкий. На толкучке по случаю купил. Оборванец носил. Спрашиваю: «Сколько просишь?» А он: «Сколько дашь?» Я возьми да и скажи для смеху: «Две бумажки». А этому аппарату самая меньшая цена шесть сотен. Бродяга даже глазом не моргнул: «По рукам!» Денег со мной не было, и я пошел дальше. Но бродяга не отстает. Догнал и цап за руку: «Давай, парень, полтораста, и дело с концом!» Пришлось, знаешь ли, домой его вести... Уж очень мне понравилась вещица.
Иван, со вниманием слушавший рассказ Бориса о его коммерческой сделке, убежденно заметил:
– Вещица, может, и хороша, но ясно как день – ворованная!
Борис сощурился и посмотрел куда-то в угол, мимо Ивана:
– Я не милиционер и в тонкостях такого рода не разбираюсь.
Глеб захохотал, взявшись руками за бока.
– Пригож гусь, нечего сказать! Напрасно я тебя изобретателем назвал, ты, оказывается, просто комбинатор! Ну и ну!
Я осерчал на Глеба. Ну что он, в самом деле, пристает к парню? Действительно, откуда мог знать Борька – краденый аппарат или не краденый? Уже совсем собрался сказать об этом Глебу, как вдруг Борис встал и тронул меня за плечо:
– Проводишь, Андрюша?
Удивляюсь ледяному Борькиному хладнокровию и выдержке. Я бы на его месте сейчас так вспылил! На улице, пожимая плечами, Борис сказал:
– Не понимаю, ну что он всегда ко мне привязывается... А этот... другой, что за тип? Неужели еще квартиранта пустили?
Не знаю почему, но мне что-то не захотелось ничего говорить Борису про Ивана. Ответил уклончиво:
– Один знакомый парень... Приехал поступать на стройку.
Борис взял меня под руку, и мы прошлись до угла.
– А не сходить ли нам завтра на зайчишек? А? – сказал Борис, останавливаясь. – Ведь выходной. Пойдем на Телячий?
Мне уж давно хотелось побродить по острову. Но я не знал, говорить ли Борьке о появившемся у меня ружье или нет? Да и к ружью мне не хотелось пока прикасаться.
– Ну как? – опять спросил Борис.
– Только, знаешь... давай и Максима позовем с собой. Втроем еще веселее!
Борис с минуту молчал, негромко посвистывая.
А я уже загорелся желанием во что бы то ни стало вытащить Максимку на прогулку. Он всю зиму никуда с нами не ходил – ни на экскурсии, ни просто так на Волгу или в бор, на лыжах.
– Пожалуйста, я разве против? – сказал наконец Борис. – А он не болен? Ты у него нынче был?
– Мать у него болеет... Я еще раз схожу к нему. Идет?
– Идет!
Мы условились, где утром встретимся, и я побежал к Максиму. Максим вначале и слушать не хотел об охоте, но на мою сторону встала его мать, и он сдался.
Ура! Уж завтра погуляем вволю!







