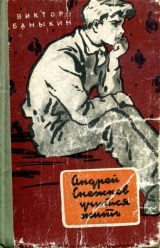
Текст книги "Андрей Снежков учится жить"
Автор книги: Виктор Баныкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
23 марта, воскресенье.
Мама расщедрилась и напекла пирожков – с картошкой и с капустой. Неплохо начинаются каникулы! За стол сели вдвоем: ни Глеба, ни Ванюшки нет дома. В последние дни Глеб наш совсем перестал приходить ночевать. А Ивана утром срочно вызвали на работу: кто-то у них там не явился на вахту.
Сидим скучные. Это, наверно, потому, что мы уже отвыкли от тихой жизни. А с тех пор как Глеб перестал заглядывать домой, мама почему-то стала раздражительная, нервная. И даже не улыбнется.
Вот и сейчас: держит в руке пирожок, а сама смотрит в окно и о чем-то думает. Весь лоб в морщинах, как разлинованная бумага.
– Слушай, мам, – говорю, – а не отнести ли Глебу пирожков? А? Хочешь, в момент слетаю?
Но она не слышит. Тогда я еще раз окликаю ее. И тут мама сразу оживляется. Забывает про свой пирожок и бежит к плите.
– Да ты поешь вперед сама, – говорю ей, но она громыхает кастрюлями и знать ничего не хочет!
Когда собрался в дорогу, мама вручает мне самую большую кошелку, какая только у нас есть.
– И чего ты туда насовала? – ворчу я, разглядывая пузатую кошелку.
– Иди, иди, да побыстрее! – Мама смеется. Она преображается на глазах. – Смотри не застуди пирожки! Скажи ему – прямо со сковородки!
На улице тихо. С низкого белесого неба сыплет снежок. Сыплет неохотно, словно по принуждению.
Город остался позади, когда из сосняка, громыхая колесами, показался железнодорожный состав. (Эту новую ветку, соединяющую областной город с нашей стройкой, протянули в начале зимы.) Вагоны, платформы. Казалось, им не будет конца.
Все эти мелькающие в глазах тракторы, самосвалы, штабеля труб и стройматериалов железнодорожники везут Гидрострою.
Как-то на днях я прошелся мимо очередного состава, прибывшего на станцию, и был прямо-таки ошарашен. Вся страна, от края и до края, включилась в строительство Волжской ГЭС!
«Волга. Гидрострою. Ленинград» – было написано на одном из вагонов. На платформе с громоздкими частями экскаваторов – другая надпись: «Уралмаш – Волга». Грузы на стройку поступали отовсюду: из Москвы, Саратова, Выксы, Сибири, с Прибалтики, из Армении.
Когда я, глазея, брел мимо состава, между железнодорожниками, стоявшими возле новенького, сверкающего краской вагона, происходил такой разговор:
– Скажи на милость, а этот вагон, видать, по ошибке сюда заслали.
– Почему по ошибке?
– Ну как же не по ошибке: написано – «удобрение». К чему оно здесь, удобрение это самое?
– А сады? Тут же, паря, новые города начнут строить. А какая красота жизни без садов?
Шагал дальше и думал: вот уже кто-то позаботился и о тех садах, которые через несколько лет расцветут здесь, на берегах нового Волжского моря, радуя глаз кипенью нежных лепестков. Как это здорово!
...Состав, наконец, кончился. А снежинки все летят и летят, тихо кружась.
Иду быстро. И вот уже место сварки трубопровода. Черная кишка огромного дюкера четко выделяется на белой, припорошенной поверхности льда. Эта первая километровая нитка трубопровода уже готова к спуску на дно Волги. Сейчас электросварщики варят вторую нитку Работа не замирает даже ночью.
Глеба разыскиваю не сразу. Все электросварщики на удивление похожи друг на друга в своих грубых брезентовых комбинезонах, натянутых на ватные куртки и штаны. Лица их закрывают серые щитки, чем-то напоминающие корыта, в которых хозяйки рубят мясо. Попробуй-ка тут разыщи нужного тебе человека!
И все же я без посторонней помощи отыскиваю Глеба. Толстый и неуклюжий, словно водолаз в полном снаряжении, он лежит на досках, положенных прямо на лед, и варит потолок трубопровода.
Невольно замираю на месте, ослепленный мириадами шипящих искр, разлетающихся во все стороны.
А распластавшийся под трубой Глеб ничего не видит, ничего не замечает, кроме своей «волшебной» палочки – держателя с электродом. Это из-под нее-то и вырываются крошечные голубоватые молнии.
По всему чувствуется: работа у Глеба трудная, требующая большого напряжения воли и, может, даже большого виртуозного мастерства! В самом деле, попробуй полежи в мороз час, да в неудобной позе на льду, беспрерывно сжимая в застывшей руке держатель с электродом.
Электросварщик должен точно, очень точно рассчитывать каждое свое движение. Водя держатель у стыка труб, он обязан так наловчиться расплавлять металл, чтобы пенящийся, раскаленный до белизны сплав успевал быстро застыть и затвердеть в нужном месте. (Обо всем этом я вычитал из Глебовой книжки.)
А какие швы красовались там, где уже прошлась «волшебная» палочка Глеба: ровные, плотные! Крепко сварено, ничего не скажешь!
Проходит, наверно, с полчаса, прежде чем я вспоминаю про свою кошелку с пирожками.
– Глеб! – кричу, закрываясь рукой от слепящих искр-молний. – Вылезай, я обед тебе принес!
Он даже не шевелится. Лишь свободной рукой дает знать: обожди, мол, торопыга, – недосуг!
Но вот, наконец, Глеб неуклюже поворачивается на бок, вытаскивает из-под трубы ноги, садится на доски. И медленно, будто у него одеревенели руки, приподнимает над головой щиток. Я не сразу узнаю Глеба. Предо мной незнакомое, залубенелое от долгого пребывания на холоде лицо, с лиловыми пятнами на опавших щеках. Вдруг по этому незнакомому, как бы отлитому из металла лицу пробегает широкая, светлая улыбка. Ощеривается до самых ушей и рот, блистая зубами молочной белизны. Теперь передо мной уже не кто-нибудь, а настоящий Глеб – веселый, добрый медведь, которого я так люблю!
– Ты чего это, елова голова? – спрашивает Глеб, все также медленно и неуклюже вставая и разминая ноги. – У нас ведь тут буфет. Жратвы хватает!
Но моим приходом он все же доволен, хотя, видимо, и пытается это скрыть.
– Ты лучше угадай, чего я принес! – говорю Глебу, размахивая кошелкой. – Ну, попробуй!
– Знаю, знаю, пирожки! – Глеб весело хохочет. – Любовь Сергеевна, она... Славная, брат Андрюха, у тебя мать!
Глеб на миг отворачивается. А потом берет меня за плечо и ведет в будку-теплушку, стоящую тут же на льду.
В будке чадно и жарко от раскаленной докрасна чугунной печки. Пока Глеб расправляется с пирожками, все еще дымящимися парком, я разглядываю неприхотливое убранство теплушки. Рядом с печкой тянутся в два яруса нары. У окна крохотный столик. В простенке доска соревнования. Глеб Петрович Терехов первый на этой доске... Ого, шесть норм в смену! Ну и Глеб! А ведь дома – ни слова. Рядом с доской небольшой плакатик, написанный на скорую руку:
«Равняйтесь на Глеба Терехова – лучшего электросварщика великой стройки!»
В эту минуту меня неудержимо тянет броситься к нему, Глебу, на шею и задушить его в своих объятиях. Но я стесняюсь: ведь не маленький! Но руку все-таки тяну и, незаметно для Глеба, глажу ладонью холодную полу его брезентовой куртки (садясь обедать, он так и не разделся).
Когда собираюсь домой, Глеб говорит, вытирая шапкой лицо – лобастое, все в крапинках пота:
– Спасибо, Андрюха. Теперь еще часиков пять отмахаю – и на боковую... Жуть как хочу спать!
– Домой придешь? – спрашиваю.
– Не-ет, здесь вот притулюсь. Нам сейчас, елова голова, много спать не положено.
Всю обратную дорогу думаю о Глебе. А перед глазами – его лицо, лицо простого рабочего человека, страшно уставшего, но такого еще сильного, упрямого и волевого, которому все нипочем!
И мне хочется быть похожим на Глеба.
В тот же день.
Вечером ходили с Иваном в кино на «Чапаева» – старую, но такую нестареющую картину. Не помню, сколько уж раз ее видел! Иван говорит: знает наизусть. А смотрели с таким захватывающим волнением, будто впервые видели и будто не с кем-то там, на экране, а с нами все это происходит.
Когда вышли из кинотеатра, какой-то шкет, пробегая мимо нас, закричал:
– Эй, Петька! Айда завтра в клуб строителей. Говорят, там Чапай не тонет!
Из кинотеатра мы шли с Иваном быстро, обгоняя разные парочки, не обращавшие никакого внимания на сыпавший хлопьями снег, – возможно, последний в эту зиму. С широкой и многолюдной Советской свернули на тихую Садовую.
Возле одного уютного палисадничка стояли двое: высокий парень в длинном пальто и девушка в шубе. Плечи того и другого были запорошены снежными хлопьями. Они так увлеклись поцелуями, что не заметили подкравшегося к ним Ивана.
– Ре-бемоль! – встав на цыпочки, басом прокричал Ванюшка над ухом парня. Прокричал и, тотчас отбежав в сторону, присел за решетку палисадника.
Девушка испуганно вскрикнула, а разъяренный парень обернулся, чтобы надавать тумаков непрошеному шутнику.
В это время по кочкастой дороге прогромыхал грузовик. Молочновато-оранжевый сноп света вдруг так ярко осветил стоявших у палисадника, что я сразу признал в высоком отца Максима, а в девушке... Нельку. Да, это была она. Ослепленная ярким светом, Нелька зажмурилась и уткнулась лицом, показавшимся мне неестественно бледным, в грудь Семена Палыча.
Я не стал ждать, что будет дальше, и быстро пошел прочь. За мной топал Иван, озорно крича:
– Суюнчу, суюнчу ярату!
И откуда он столько знает киргизских, казахских и татарских слов? Да еще в придачу к ним какие-то музыкальные термины! В другой бы раз я вместе с Иваном посмеялся над его проделкой, но сейчас мне было вовсе не до смеху.
25 марта, вторник.
Ночью на скорой помощи привезли Ивана. Увидав его опоясанную бинтами голову, мама чуть не разревелась.
– Не беспокойтесь, – говорила сестра в белом халате, помогая Ванюшке снимать ватник. – Ваш сын легко отделался: одними царапинами.
Мы стояли с мамой в стороне – перепуганные, кое-как одетые, не зная, что нам делать.
– Сейчас укладывайте его спать, – продолжала сестра, – а завтра из поликлиники заглянет врач... Пусть только лежит и не снимает бинты.
Она ободряюще улыбнулась маме, попрощалась и направилась к двери. Я вышел ее проводить.
– Очень и очень ему повезло, – заговорила полушепотом сестра, спускаясь с крыльца. – Милиционер, который в больницу его привез, говорил: если бы постовой вовремя не подоспел, ухлопали бы бандиты вашего брата.
И лишь наутро, уже от самого Ванюшки, узнал подробности его ранения.
Он возвращался с вечерней вахты домой, когда возле ресторана заметил каких-то людей, показавшихся ему подозрительными. Иван не пошел дальше своей дорогой, а повернул в обратную сторону, к площади, где было отделение милиции.
Вдруг его окликнули. Не отвечая, он ускорил шаг. Тогда за Иваном побежали двое. Он тоже припустился что было мочи. До площади оставалось не больше сотни шагов, когда кто-то из преследовавших бросил Ивану под ноги кол. Падая, он закричал... Очнулся Ванюшка в больнице. Оказывается, его крик услышал постовой милиционер. Он-то и подоспел вовремя.
Нынче мне не пришлось идти на работу в артель: весь день сижу возле Ивана. Он все пытается что-то рассказывать... Врач, приходившая в полдень, посоветовала ему меньше говорить! Тут же она дала Ивану выпить какой-то порошок, после чего мой говорун вскоре заснул.
На улице метет метель – такой и зимой даже не было! По железной крыше грохочет ветер, будто разъяренный слон топает ножищами. А в окна лепит и лепит сырой снег. Ничегошеньки не видно, что делается на белом свете. По стеклам сползает, тая, жидкая кашица.
Смотрю на эти белесые бельма и думаю о Глебе. Неужели он и сейчас, когда вокруг не видно ни зги, а под ногами хлюпает вода, неужели он и сейчас с прежней неутомимостью колдует своей «волшебной» палочкой?
И что бы этой взбесившейся метели повременить малость? Кончили бы электросварщики варить трубопровод, опустили бы его на дно Волги, вот тогда бы и милости просим! (Первый еще в субботу опустили. Такая жалость – не видел.)
Завтра – в любую погоду – непременно навещу Глеба. Завтра же... нет, послезавтра отнесу Максиму в подарок «Русский лес» Леонова (с Борькой уже давно рассчитался за книгу). У Максима послезавтра день рождения. А узнал я об этом случайно – сам он ни за что бы не сказал. Думаю, обрадуется подарку. Максимке давно хотелось иметь роман Леонова.
Под вечер просыпается Иван и просит есть.
– Сейчас, сейчас, – говорю и бегу на кухню.
Он съедает тарелку супа, пару морковных котлет и стакан клюквенного киселя. Заодно с ним и я навертываю за обе щеки из солидарности. Радуюсь Ванюшкиному аппетиту – значит, скоро поправится!
Мою посуду, а он, глядя на меня в марлевые щелочки, говорит:
– Эх, у нас и случай был вчера, Андрюха! Прихожу на вахту, а ребята рассказывают... Ты моего сменщика знаешь? Сашко его зовут.
Пожимаю плечами:
– Откуда мне знать? Я и был-то на твоем земснаряде всего раз.
Иван машет рукой:
– Знаешь, знаешь! Когда мы с тобой на мостике стояли, к нам поднялся хлопец такой... такой плюгавый с виду. Вспомнил?
Тут я и на самом деле припоминаю этого Сашка – узкоплечего, невысокого.
– Наш Сашок, Андрюха, героем вчера стал. Право слово. Настоящим героем!
Иван так воодушевляется, что ему уже не лежится. Он приподнимается на локте, но я быстренько его укладываю.
– Смотри, – говорю, – не станешь слушаться, отлуплю!
– А ты слушай, не перебивай! – сердится он. – Вчера утречком команда решила наращивать пульпопровод... Смекаешь, для чего? Чтобы земснаряд продвинулся дальше в глубь острова. Он теперь у нас, бисова душа, такую длиннущую траншею прорыл. Приходи как-нибудь на днях, ахнешь!..
Помолчав, Ванюшка продолжал:
– Вначале все шло как обычно: подогнали запасный понтон с трубой, потом слесари стали разъединять магистраль пульпопровода. И тут-то как назло эдакая волнища ударила в понтон! Так ударила, что понтон накренился, и шаровое соединение – большущее стальное кольцо – сразу ухнуло в воду. Чуешь, какая беда стряслась? В этом шаровом соединении ни мало ни много, а пятнадцать пудов! Багром такое колечко не подцепишь и на свет божий не вытащишь. Кто-то из слесарей говорит: «Водолазов надо вызывать». А механик головой качает: «Раньше завтрашнего дня они не появятся. А мы ждать никак не можем». Пока шли тары-бары да растабары, мой сменщик Сашок приволок с палубы стальной трос и давай разоблачаться. Разнагишился до самых трусиков и нырять собирается. Механик и слесари в один голос: «Вода – огонь, ты умом, хлопец, рехнулся!», – а Сашок конец троса в руки и – чебурых в воду! Глубина метра три с половиной, но Сашок не растерялся. Оказывается, он с детства ныряльщик отменный. Нащупал под водой кольцо, просунул трос, завязал узлом, и был таков! Закутали ребята Сашка в тулуп и в машинное отделение поволокли, а он зуб на зуб попасть не может. Еле выговорил: «Тащите лебедкой трос, и порядок будет!» Так и сделали. Заявляюсь на вахту, а земснаряд как ни в чем не бывало робит себе, сопит насосами!
Ванюшка устал: на подбородке выступили бусины пота. Облизав языком припухшие губы, он со вздохом прибавляет:
– У нас там столько всякого дела, мне и лежать-то некогда. Послезавтра, вот увидишь, сбегу на земснаряд! Право слово, сбегу!
Я молчу. Собираю со стола перемытую посуду и тащу ее на кухню. Ничего не скажешь – молодец этот Сашок, сменщик Ванюшки! Молодец!
Немного погодя на цыпочках возвращаюсь в комнату. Ванюшка спит, подложив под забинтованную щеку ладонь. Но сон его беспокоен: припухшие губы шевелятся, нос морщится...
А за окнами по-прежнему бушует неугомонная метель. И я опять начинаю думать о Глебе. О нем, наверно, и мама сейчас думает на работе, крутя ручку своего арифмометра.
13 апреля, воскресенье.
С чего начинать? Даже не знаю... Мама принесла мне чистую тетрадку, в ней-то я сейчас и пишу. Бедная мама, как она изменилась за эти две недели: вся-то, вся поседела. Еще бы! Столько переживаний свалилось на ее плечи...
Вчера я первый раз поднялся с постели. Больница стоит на бугре у дубков, и отсюда, из окна палаты, и Старый посад, и Волга, и Жигулевские горы видны как на ладони. Смотрел на синеющие вершины Жигулей, на фиолетовые ущелья с белыми языками снега на дне, смотрел на зеленую, вспученную Волгу (не нынче-завтра начнется ледоход), а нетерпеливое воображение уже забегало вперед, и перед глазами рисовалась иная картина.
Вот здесь, у левого берега, поднимутся высокие-высокие ворота судоходных шлюзов, а через всю. неоглядную ширь Волги протянется железобетонная сливная плотина. (Стоит на секунду смежить ресницы и представить себе эту плотину, как в ушах возникает яростный рев низвергающегося водопада.) А вот у правобережья, в Отважинском овраге, где сейчас работяги-экскаваторы роют котлован, будет красоваться из стекла и камня здание самой мощной в мире гидроэлектростанции. И где-то здесь же, возможно у входа в шлюзы, возможно на самой плотине, встанет на века, как часовой, Глеб Петрович Терехов, изваянный из бронзы или гранита, – один из рядовых многотысячной армии великой стройки.
Глеб мне представляется таким, каким я его видел последний раз – 27 марта, в день гибели. На нем неизменная брезентовая роба, в правой руке «волшебная» палочка, в левой – щиток.
Последний шов варил на трубопроводе Глеб, когда под ним обрушился лед и он упал в обжигающую огнем студеную воду, все еще не выпуская из рук держателя с электродом.
Вблизи, кроме меня, никого не было. А я так растерялся, так перепугался. Что тут делать, как помочь Глебу?
– Доску... доску, елова голова! – хрипло, задыхаясь, выкрикнул Глеб, показываясь из воды.
Он хватался за ноздреватую, хрупкую кромку льда, но лед под ним обламывался, и он снова с головой уходил под воду.
Бросив на лед доску, одним концом к майне, я и сам, поскользнувшись, упал на нее. Но когда огрузневший Глеб, совсем выбившийся в последние дни из сил, навалился грудью на доску, она затрещала и... Не знаю, как это случилось, но в тот же миг я тоже ухнулся с головой в ледяную купель.
Вынырнув, я не увидел Глеба. Хватаясь стынущими пальцами за обломок доски, я закричал что было мочи:
– Помогите! Помогите!
В это время над крошевом льда показалась рука Глеба.
«Тонет!» – мелькнуло у меня в голове.
Студеная вода знобила тело, невидимыми путами сковывала руки и ноги... Летом я переплывал Волгу, а тут с трудом преодолел каких-то три-четыре метра, отделявшие меня от Глеба. Обхватил Глеба за плечи и повалил себе на грудь так, чтобы его голова держалась над водой. Но Глеб был очень и очень тяжел в своей намокшей спецовке, и мы оба пошли книзу...
Больше я ничего не помню. Пришел в себя лишь несколько дней назад. А о гибели Глеба мама рассказала только вчера. Прибежавшие на мой крик рабочие вытащили его из майны уже мертвым.
Рассказывая о том, как вся стройка хоронила нашего Глеба, мама не сдержалась и зарыдала.
Когда она ушла, я подошел к окну. Слезы текли по щекам и капали, капали на подоконник. В этот миг я думал только об одном: как бы другие больные по палате не заметили моей слабости...
Нынче у меня было много гостей: Алексей Алексеич – мастер из «Красного мебельщика», Ванюшка, Максим.
У Ванюшки на память от стычки с бандитами на виске остался красный рубец, но он его мало тревожит. Как и мама и я, Ванюшка не может все еще смириться с мыслью, что среди нас уже никогда-никогда больше не будет Глеба.
А Максим так вытянулся за эти две недели, так возмужал!
Мой хороший Максимка тоже много пережил за это время. Еще бы, такой удар: в один прекрасный день Семен Палыч, забрав свои чемоданы, ушел из дому.
На прощание он сказал жене, и сыну:
– Хватит, посидели на моей шее, пора и совесть знать!
Школу Максим уже бросил. Он поступил на шестимесячные курсы электромонтеров. Теперь не кто-нибудь, а он, Максим, кормилец больной матери (сто пятьдесят рублей стипендии плюс двести десять за вечернюю работу в проектном отделе стройки).
Максим принес мне целый веник распушившейся вербы. От этих белых, обрызганных желтком трогательно-нежных шариков пахнет молодой, светлой весной.
– Где, – спрашиваю, – наломал веток? У Черного мыса?
Максим почему-то краснеет. Мнется, мнется и говорит:
– Зойка... это она тебе прислала. Она со мной до больницы дошла, а потом... убежала. Это, знаешь ли, ее отец меня... и на курсы и на работу.
Лицо Максима – словно маков цвет. Опуская взгляд, он еле слышно добавляет:
– Она такая... такая хорошая. Лучше всех на свете!
Мне тоже что-то хочется сказать Максиму. Да, спросить... но разве это возможно? А вдруг я чем-то выдам себя, как только что выдал себя Максим? И я молчу, стиснув губы.
Но вот уходит и Максим. Я с завистью смотрю ему вслед. Через шесть месяцев он будет настоящим рабочим. И не просто рабочим, а строителем небывалого в мире гиганта!
Если две недели назад я только еще смутно думал о профессии электросварщика, то теперь – и это я точно знаю – непременно им буду! Сразу же после окончания школьных занятий пойду, как и Максим, на курсы. А когда выучусь на электросварщика, поступлю на стройку (десятый класс буду кончать в вечерней школе).
Но что это! Чей это голос за дверью:
– Скажите, к Снежкову можно?
– Пожалуйста, – отвечает сестра.
Сердце проваливается куда-то в пятки. Елена Михайловна... Она, это она! Вот сейчас откроется дверь, и она войдет... войдет в палату! Мне и радостно и страшно. Что делать? Как быть? Не притвориться ли спящим?







