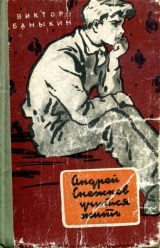
Текст книги "Андрей Снежков учится жить"
Автор книги: Виктор Баныкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
ФОМИЧЕВЫ
Роман
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
IДмитрий Потапыч Фомичев двадцать один год работал на Волге бакенщиком, и на четвертом техническом участке пути его считали самым старым, бывалым волгарем. Ему много раз предлагали должность обстановочного старшины, но старик всегда отказывался.
– Мне так лучше, – смущенно говорил он, почесывая переносицу. – Тут я сам над собой хозяин. Надо что – сделал. А спрашивать с других не умею. Старшине же без этого нельзя. Порядок свое требует.
Пост Дмитрия Потапыча находился в семи километрах от деревни, вверх по реке, возле небольшого, но с крутыми, почти отвесными склонами Задельного оврага, по соседству с Молодецким курганом.
Маленький, в два окна домик стоял на высоком каменистом берегу, и от него на много километров хорошо была видна Волга.
Каждую весну домик заботливо белили и над окнами черной краской крупно выводили цифру «1420» – номер поста.
Дмитрий Потапыч любил порядок: около поста всегда было чисто и опрятно. В гору поднималась лесенка в несколько ступенек из серого камня, перед домиком стояла врытая в землю скамья, возле которой Дмитрий Потапыч в погожие дни вязал сети. Тут же в ряд стояли красные и белые запасные бакены, а около сеней чернел таган с закопченными и обгорелыми рогульками для котелка.
– Любы-дороги мне наши тихие места, – улыбался старик, глядя с кручи вниз. – Они, Жигули-то, одни такие на всю Волгу.
Сам старик был тоже тихий и добрый и больше всего на свете боялся шума и скандала. Даже когда Дмитрий Потапыч бывал навеселе, что с ним непременно случалось в дни посещения Ставрополя, районного городка, куда приходилось изредка ездить на базар, он не буянил, а спешил скорее лечь спать.
Жена, немного ворчливая, но тоже с мягкой, кроткой душой старуха, встречала подгулявшего мужа неодобрительными словами:
– Ах, грех-то какой, опять старик напился!
Дмитрий Потапыч молча проходил в горницу, долго снимал сапоги, а потом тут же, не успев положить на кровать ноги, засыпал.
У старика было два сына.
Старший, Константин – женатый, имел уже двух сыновей. Константин вышел весь в отца: и ростом и привычками. В затруднительном положении он так же, как и старик, почесывал широкую переносицу и хмурил белесые негустые брови.
Константин работал бакенщиком, на одном посту с отцом. Ему тоже по душе были и глухой Задельный овраг в Жигулях и ежедневные, вошедшие в привычку, поездки на бакены.
Жена его, Катерина, сухопарая, рослая женщина с сильными мужскими руками и наивными тихими глазами, никогда не сидела без дела, будто не знала усталости.
Она любила мужа, считала его красивым и ревновала к другим женщинам.
Если, случалось, Константин не являлся домой двое суток, Катерина начинала волноваться, думая, что он утонул. Зато, когда муж приходил, она обретала покой и счастье.
Проворно собирала на стол обед, подавала мужу чистый ручник, ставила перед ним кружку холодного хлебного квасу, то и дело спрашивая: «Костенька, еще чего подать?», чем приводила его в смущение.
Младший, Павел, служил в Красной Армии. Осенью его ждали домой. Особенно тосковала по сыну старуха. Павел все виделся ей во сне, и она любила об этом рассказывать соседкам.
– Придет Павел, – говорил иногда Дмитрий Потапыч, – женю его, и тогда моей жизненной линии можно подводить черту.
Старик заготовил бревен для нового дома, который решил выстроить Константину; младшего сына он собирался оставить с собой.
– Нам со старухой и кухни хватит, а ему с молодушкой в комнате да в горнице не тесно будет, – говорил он.
Август прошел в ожидании Павла. Наступил сентябрь, а парня все не было. Старуха так истомилась в тоске по сыну, что заболела. Тревога жены передавалась и Дмитрию Потапычу. Ему стали приходить в голову всякие мысли; но больше всего он боялся, как бы Павел не попал в крушение. Старик никогда не ездил в поезде и считал, что на железных дорогах каждый день происходят крушения. Самым надежным транспортом, по мнению Дмитрия Потапыча, был водный.
Но вот, наконец, явился и Павел. Он приехал в субботу, когда старуха с Катериной топили баню.
Павла первым увидел Егор – шустрый краснощекий мальчишка, игравший во дворе с пятилетним братом Алешей.
– Бабушка, – закричал Егор, бросаясь в предбанник, – дядя Паша приехал!
Старуха перестала мешать в кадушке золу и как была с ковшом в руках, так и выбежала во двор.
Павел стоял у крыльца и подкидывал на руках визжавшего от восторга Алешу, а на земле валялись брошенные впопыхах вещевой мешок и скомканная солдатская шинель.
Утром на следующий день у Фомичевых долго стряпали, потом в горнице долго ели, пили водку, настоянную на черной смородине, и Дмитрий Потапыч все любовался Павлом.
Сын сидел за столом прямо, выпятив грудь, увешанную разными значками, и после каждой рюмки жмурил широко расставленные, как у матери, глаза и гладил ладонью короткие, бобриком остриженные волосы.
– Что скажешь про моего сына, Евсеич? – заговорил вдруг Дмитрий Потапыч, обращаясь к своему приятелю, тоже бакенщику, веселому, непоседливому старику. – Чем не красавец, а?
– Прямо скажу, всем обличием первой статьи жених, – охотно согласился Евсеич и, проворно вскочив из-за стола, высоко поднял стакан. – Выпьем за героя Красной Армии. Дай бог не последнюю!
А немного захмелевший, улыбающийся Павел откинулся на спинку стула и спросил:
– Ну, а как в Яблоновом? Бурят?
Дмитрий Потапыч от такого вопроса оторопел, поморщился.
– И не говори... Загадили совсем Яблоновый, – медленно произнес он. – А ведь какая тишь и благодать была! Эх!..
Старуха, уставшая от больших хлопот и свалившейся на нее радости, после первой рюмки совсем ослабла и уже не могла сидеть за столом. Она ушла на кухню, где у нее за печкой стояла кровать, и ее отсутствия никто не заметил. Только часа через два Павел неожиданно вспомнил о матери, взял в обе руки по рюмке и направился на кухню.
– Выпьем, матушка, со свиданием! – сказал он.
Мать не ответила. Она сидела на кровати, привалившись спиной к стене. Глаза у нее были закрыты, и казалось, что она спит, – так спокойно было ее старое лицо с тонкими в строчку губами, слегка тронутыми улыбочкой.
Павел вдруг понял, что произошло, и, страшно закричав, метнулся к двери.
На шум из горницы пришли Катерина и Дмитрий Потапыч. Старуху бережно положили на кровать и до пояса накрыли одеялом.
IIПошла вторая неделя со дня приезда Павла в Отрадное, а ему уже не сиделось дома. Тянуло в горы, в Яблоновый овраг, где зарождалась новая, такая необыкновенная для этих мест жизнь.
Нефть в Яблоновом овраге, расположенном в трех километрах от деревни, была открыта еще перед уходом Павла в армию. Тогда в овраге, вглубь прорезавшем Жигулевские горы, стояла одна вышка. Сейчас их было около десятка. С каждым месяцем промысел увеличивал добычу нефти, и овраг, когда-то тихий, заросший дикими яблонями и орешником, все больше и больше оживлялся.
В давние годы деревенские бабы с ребятами каждое лето набирали в овраге мешки яблок. Яблоки были до невозможности кислые, но моченые они становились вкусными, и зимой на праздники их подавали к столу как лакомое блюдо. Потом год от года яблок в овраге стало родиться меньше, и в эти места, кроме мальчишек, никто не ходил.
Подростком Павел любил бегать с товарищами в овраг. Они играли в «разбойников», искали клады, ловили силками синиц и горихвосток.
На левом склоне горы из расщелин ключом била студеная, волшебной прозрачности вода. Мальчишки жадно, помногу пили, черпая воду пригоршнями из неглубокого колодца у подножия скалы...
Как-то утром после приезда Павел пошел к конторе промысла, чтобы с попутной машиной отправиться в Яблоновый овраг.
На крыльце конторы сидел пожилой, в засаленном ватнике и грязных сапогах усатый мужчина. Внимательно оглядев из-под густых лохматых бровей Павла, он негромко кашлянул в увесистый кулак и спросил:
– Случайно, не на промысел пришел устраиваться?
Павел покосился на усача, сказал:
– Не собирался пока.
– А стоит! – оживляясь, продолжал незнакомец. – К чему интерес имеешь?
– Могу в ремонтную мастерскую, могу на движок. Я в армии танкистом был, – сухо ответил Павел.
– Танкистом? Молодчина! – взяв Павла за руку, усач взглянул ему в лицо: – А на буровую, к примеру, не хочешь? А? Мне как раз человека нужно.
– А вы кто сами будете?
– Мастер. Фамилия моя Хохлов.
К зданию конторы подкатил запыленный грузовик. Из кабинки высунулся шофер и прокричал, обращаясь к усачу:
– Прошу, Авдей Никанорыч!
Мастер потянул Павла за рукав:
– Поедем, на месте и потолкуем.
Машину нещадно трясло, бросало из стороны в сторону. Извиваясь и петляя, дорога тянулась по берегу Волги мимо гор.
Река была прозрачного синего цвета – кроткая и задумчивая. Такой ее можно видеть только в сентябре.
И в эту безмятежную водную гладь смотрелись Жигули. Горы уже оделись в осенний пестрый наряд. По склонам багрово-малиновыми кострами полыхали клены. Густым частоколом стояли у зубчатых вершин неприступные молчаливо угрюмые сосны. В оврагах среди иссиня-зеленых дубков красовались молоденькие березки, щедро увешанные круглыми, похожими на золотые монеты листьями.
Павел смотрел то налево – на Жигули, то направо – на их четкое отражение в воде, и ему казалось, что машина несется по горному ущелью.
Широко расставив ноги и навалившись грудью на кабину, Хохлов громко говорил:
– Через несколько лет большой промысел, парнище, тут будет! А теперь... самое начало. Ни дорог, ни других условий. Глушь, матушка!
Помолчав, он засмеялся:
– Ничего, мы калачи тертые. И не в таких переплетах бывали!
Мастер сказал это просто, без всякого бахвальства, и Павел сразу понял, что Хохлов – человек, видевший всякое.
Буровая Хохлова стояла на расчищенной от орешника площадке. Выкорчеванные пни еще не были убраны и валялись по краям поляны.
Остановившись вблизи вышки, поднимавшейся к голубеющему небу, мастер сказал Павлу, взмахнув рукой:
– Вот оно, мое хозяйство!
Павел еле расслышал слова Хохлова: от буровой разносился лязгающий грохот станка.
Широким, неторопливым шагом Хохлов направился вперед. Павел вслед за ним поднялся по отлогим мосткам к буровой.
– Две сотни метров пробурили. Третью начали, – крикнул мастер, наклонившись к Павлу. Заметив, что тот смотрит на вращающийся в центре вышки круг, похожий на низенький стол, который, оказалось, и производил такой грохот, Хохлов добавил: – Ротор. Он вращает на забое бурильные трубы с долотом... А у лебедки бурильщик. Всей этой техникой управляет.
Через полчаса, после осмотра буровой, насосного сарая, глиномешалки, котельной, Павел подумал: «Хозяйство и, верно, немалое!»
– Ну, что теперь скажешь? – спросил Хохлов как бы между прочим, свертывая цигарку. – Нефть добывать, чего и говорить, нелегкое дело. Сразу ее за хвост не поймаешь!
– Я, пожалуй, согласен, – сказал Павел. – Только дома надо с отцом поговорить... Старик у меня уж больно такой... – Павел замялся, – не любит он шуму. Бакенщиком всю жизнь работает.
Хохлов перебил Павла:
– Постой. Ты Фомичев?
Павел кивнул головой.
– Тогда я знаю твоего отца. Дмитрием Потапычем его звать? Ну-ну!
Мастер покрутил ус, сощурился.
– Я с ним прошлым летом на рыбалку как-то ездил. Славный старик. Но нас, нефтяников, это верно, недолюбливает.
Вечером, помогая Дмитрию Потапычу выгребать из коровника навоз, Павел сказал:
– Думаю, папанька, на нефтепромысел пойти.
Старик разогнул спину, хмуро посмотрел сыну в лицо.
– В Яблоновый, говоришь? – через силу спросил он и, помолчав, прибавил: – А я-то другое думал...
Неожиданно Дмитрий Потапыч швырнул в угол вилы и торопливым шагом зачастил к двери.
В эту ночь Павел долго не мог заснуть. Он все думал о размолвке с отцом. Но своего решения – наутро отправиться на буровую к Хохлову – он не изменил.
IIIПервое время Павлу приходилось трудно на буровой. Здесь для него все было в новинку. Да и сама работа оказалась тяжелой. Он так уставал, что дома, едва переступив порог, тотчас валился с ног.
Но прошла неделя, вторая, наступила третья... И вот Павел стал своим человеком в бригаде. Он уже не терялся, когда бурильщик отдавал приказание: «Подготовить элеваторы!» Он уже не путал один инструмент с другим, он научился с полслова понимать товарищей.
А вечером, старательно умывшись и с аппетитом пообедав, Павел садился за толстую, как библия, книгу «Бурение».
– И что с парнем такое творится? – со вздохом говорила мужу Катерина. – Ему бы с девками гулять, а он в книжку уткнется и сидит себе и сидит, как старик! Этакому молодцу да самую наилучшую невесту...
– Подожди, подцепит еще какую-нибудь. За этим дело не станет, – отмахивался Константин.
Дмитрий Потапыч совсем не разговаривал с сыном. И Павел старался реже попадаться на глаза отцу. Он делал вид, будто не замечает ни косых взглядов старика, ни его молчаливости.
Раз Хохлов – случилось это после смены – спросил Павла:
– Как живет-может Дмитрий Потапыч?
Павел махнул рукой.
– Осерчал на меня старик... Хоть бы вы потолковали с ним, Авдей Никанорыч.
– Отойдет, – ободрил рабочего мастер и, чуть помедлив, добавил: – Может, загляну как-нибудь в выходной.
– Вот бы хорошо! – обрадовался Павел. – Непременно заходите, Авдей Никанорыч.
* * *
В воскресенье Катерина пекла пироги. Завтракать сели поздно.
Все хотели есть, а худенький белоголовый Алеша, давно занявший свое место за столом, нетерпеливо поторапливал:
– Мамка, ну скоро ты там? У меня кишочки подводит!
Наконец из кухни показалась Катерина с большим блюдом, на котором лежали горячие пироги.
– Алешеньке первому, – сказала она, подходя к столу.
– Мне самый большой кусок, – потребовал мальчик, сверкая перламутровыми белками.
– Самый большой! – засмеялась Катерина.
Павел сел между Алешей и Егором – подальше от Дмитрия Потапыча.
Во время завтрака пришел Хохлов.
– Вот и гостя хорошего нам бог дал, – сказал Дмитрий Потапыч, вылезая из-за стола и направляясь навстречу кряжистому мастеру.
– Хороший или плохой, а уж раз пришел – не выгоните, – посмеиваясь в усы, заговорил Хохлов, протягивая хозяину широкую с мосластыми пальцами руку.
Павел, почему-то смутившись, тоже встал и с полыхающим лицом подошел к Хохлову.
– Садитесь, Авдей Никанорыч, с нами завтракать, – сказал он, когда тот разделся.
Мастера усадили за стол, и Катерина, особенно любившая принимать гостей, поставила перед ним тарелку с разными угощениями: тут были и пирог с осетриной, и румяные ватрушки с творогом, и сдобные плюшки.
– Напрасно беспокоитесь, – Хохлов расправил большим пальцем густые усы. – Я ведь позавтракал.
– И пироги кушали?
– Нет, пирогов не было. Блины и картошка жареная со свининой... Насчет картошки я особенный любитель.
– А теперь пирога нашего попробуйте, – настаивала Катерина. – Только из печки. Ну, прямо живой – дышит! Кушайте на здоровье.
Взяв большой кусок горячего пирога с глянцевитой масляной корочкой, Хохлов сказал:
– Уговорили. Выходит, блинам и картошке потесниться придется и нового жильца на уплотнение пустить!
– А ты ешь себе, Авдей Никанорыч, не сумневайся, – успокоил гостя хозяин. – В животе для такого кусочка всегда место найдется.
Катерина схватила со стола полведерный самовар и унесла его подогревать.
– Поживаешь как, Авдей Никанорыч, здоровьице как? – спросил Дмитрий Потапыч гостя, наливая в блюдце чай. – Давненько тебя не видел.
– Мое здоровье от бурения зависит. Есть меры проходки – значит, и на сердце поспокойнее, – Хохлов вытер масленые губы, посмотрел на Павла. – А с бурением у меня сейчас вроде как ничего... Трудностей всяких, само собой, не оберешься. Тяжелая тут местность для нашего брата-бурильщика. Горы, овраги, дорог никаких. А зимой и подавно. Куда как трудно зимой! – Мастер вздохнул, наморщил лоб. Но прошла секунда-другая, и в глазах у него сверкнул упрямый огонек. – Да, скажу вам, мне даже по душе эти места. Люблю, когда мозгами надо шевелить, расторопность проявлять. Природа свои капризы выставляет, а ты ей все наперекор да наперекор, да все по-своему делаешь!
Появилась Катерина. Она поставила пыхающий самовар на прежнее место, налила всем чаю и отошла к подтопку.
– Иной раз эдак думаешь, – после некоторого молчания проговорил Хохлов, водя пальцем по клеенке, – я, скажем, тридцать лет жизни бурению отдал, а другой человек про мою профессию толком ничего не знает. И обидно сделается. Как же это так? Я дня не проживу без своей работы, а он о ней и понятия не имеет.
Мастер насупил лохматые брови, отпил из стакана.
– В девятьсот одиннадцатом в Баку начинал, – не спеша продолжал он. – Тогда на дно в скважину или, по-нашему, на забой, долото опускалось на железных прутьях или на канате. Долото падало на забой и врезалось в породу. Потом его опять немного приподнимали вверх и опять опускали. А самые первые скважины вручную бурили – при помощи ворота и коромысла. А уж когда я попал в Баку, стали паровой машиной приводить в движение коромысло. В то время глубина скважины была не больше двухсот метров. Целый год уходил на бурение такой скважины. А породу из скважины вынимали желонками. Ведрами, по-другому говоря... Слабых да больных на промысел не брали. Потому как тяжело. А мне тогда все нипочем было! Раз мастер – лютой человек – кулачищем в лицо со всего размаха ударил. Другие от такого благословения к стене отлетали, а я на ногах устоял. Кровь лишь из носа потекла. Посмотрел мастер на меня выпученными глазищами да как заорет: «Сволочь деревенская!». Ну, думаю, сейчас еще обласкает. А его как не было на буровой. До конца вахты не появлялся. А потом уж меня больше не трогал. Ребята все смеялись: «Мастер о твою внешность кулак расшиб...» Помню, даже обратно на родину вернуться как-то хотел. Я ведь тоже волгарь. В Симбирской губернии, в деревне Бураловке отец хлебопашеством занимался. Да тоже не жизнь была, а маята одна. Из года в год неурожаи, а семья в восемь душ. Так, значит, и не собрался на родину.
Авдей Никанорыч посмотрел на притихших мальчишек и продолжал:
– Оглянешься этак на прошлое, и самому удивительно сделается, до чего это мы теперь совсем другими стали! – Он взял Павла за руку. – Ты верно как-то сказал – завод. Так оно и есть. В наше время буровую по-другому и не назовешь... Длинные теперь стали руки у бурильщиков. Лежит в земле нефть на глубине, скажем, в две тысячи метров, а мы и до нее добираемся.
Катерина, по-прежнему стоявшая у подтопка, вдруг негромко сказала:
– Матушка моя, и надо ж!
Все посмотрели на Катерину, и она, смутившись, покраснела.
Авдей Никанорыч погладил по голове Алешу.
– Кем, глазастый, будешь, когда большой вырастешь? – спросил он мальчика. – Бурильщиком, как дядя Паша?
– Нет, – сказал Алеша, – я капитаном хочу. На самом большущем пароходе.
– Тоже дело, – похвалил мастер. И, наклонившись к мальчику и хитровато подмигнув, он полушепотом спросил: – Капитаном-то когда будешь, нас с дедушкой хоть разок бесплатно прокатишь, а?
Алеша отвернулся, прикрыл рукой лицо.
Егор, уже давно проявлявший беспокойство и все что-то порывавшийся сказать, наконец сбивчиво проговорил:
– Скажите... сколько надо работать, чтобы таким быть, как вы?
Мастер внимательно посмотрел на мальчишку.
– В каком это смысле – как я?
– Ну, чтобы... – Егор отбросил с широкого лба спутанные волосы и смело глянул в глаза Хохлову. – Чтобы мастером быть?
– Ни много ни мало, а уж четырнадцать лет мастером работаю, – задумчиво сказал Авдей Никанорыч. – Ну, а ежели бы раньше... раньше до бурильщика дотянул бы – и крышка. Все! А вот в настоящее время, если с головой да старание есть, легко можно все тонкости бурения постигнуть и мастером стать. Я ведь, скажу тебе, лишь в двадцать седьмом году грамоте научился. А теперь... Техника, она, милок, крупно шагает. За ней только успевай! А отстал – значит, в хвосте будешь плестись и пользы от тебя, как от гроша ломаного...
– Да-а, – протянул Дмитрий Потапыч, обращаясь к Хохлову. – Все бы ничего... и заработки у вас большие, только работа вот, того... грязная больно. И беспокойная. И для себя беспокойно и для других. Что с Яблоновым-то делаете, а?
Старик крякнул, встал и, ни на кого не глядя, зашагал в чулан.
IVПрошел еще месяц. У Павла стало находиться время и для отдыха. То он пойдет в клуб на кинокартину, то на танцы, то на вечер самодеятельности.
Некрасивый, молчаливый, Павел выделялся своей опрятностью, вежливым обращением. Девушки танцевали с ним охотно.
На танцах Павел и познакомился с молоденькой восемнадцатилетней девушкой Машей. Она работала в конторе промысла счетоводом. Это была, не в пример Павлу, живая, веселая девушка с длинными, темными косами.
Когда поздними вечерами Павел провожал Машу до дому, она всегда без умолку болтала. Павел внимательно слушал ее, улыбался и молчал.
Маша удивлялась молчаливости Павла и пыталась заставить его о чем-нибудь рассказывать – о детстве, о службе в армии.
– Служба, она и есть служба. Чего о ней можно еще сказать? – натужно выговаривал Павел. – В шесть часов подъем, физзарядка, завтрак, а потом идем на заправку машин и тренировку...
Говорил Павел неинтересно, односложно, и Маша перестала мучить его своими расспросами, а чтобы не было скучно дорогой, рассказывала что-нибудь сама.
У девушки рано умерли родители, и она воспитывалась в детском доме большого степного города. Проучившись десять лет, она поступила работать в трест «Востокнефть» ученицей машинистки. Машинистка, пожилая, молодящаяся особа, была злой и нервной женщиной. Она не учила Машу работе на машинке, а заставляла ее только резать бумагу, менять изношенную ленту на новую, разносить по кабинетам напечатанный материал да по два раза в день бегать в «Гастроном» за булками и чайной колбасой.
Так продолжалось около года. Наконец Маше все это надоело, и она поступила на курсы счетоводов при тресте.
Когда Маша окончила курсы, ей предложили два промысла: Сызрань и Яблоновый овраг в Жигулях. Она выбрала последний. Девушке показалось в названии этого промысла что-то романтическое. Маша собиралась в Яблоновый овраг словно в далекую Сибирь, в затерявшийся в тайге поселок.
Приехала она сюда в мае и сразу была очарована и Волгой, и Жигулями, и тихой деревенской жизнью.
Отрадное лежало в широком устье долины, с трех сторон защищенное от ветров горами.
С тех пор как в соседнем Яблоновом овраге открылся нефтепромысел, Отрадное начало преображаться. Появились бараки, пекарня, столовая для рабочих и служащих, большое двухэтажное деревянное здание конторы.
Но все же это была деревня, окруженная лесистыми горами, на берегу широкой привольной реки. Ночи здесь стояли глухие, без единого шороха и звука, только изредка в горах ухал филин, и эхо далеко разносило его стон, потом снова наступала такая тишина, что если долго прислушиваться к ней, то начинало звенеть в ушах.
* * *
Была вьюжная ночь, густо падал снег. Ветер с Волги метался по деревне, сырыми хлопьями осыпая с головы до ног выходивших из клуба.
Павел поднял беличий воротник Машиной шубки, крепко прижал к себе руку девушки, и они пошли по безлюдной улице в конец Отрадного, где Маша снимала комнату у одинокой вдовы.
– Что нового на буровой? – спросила девушка.
– Бурим! – коротко ответил Павел.
– А у вас как идут дела? – снова спросила Маша.
– У меня? Как всегда... – внезапно Павлу захотелось рассказать девушке о том, что уже второй день он выполняет обязанности помощника бурильщика и что не всякого так быстро переводят на такую ответственную работу, но не решился.
«Не стоит, – подумал он. – А то еще покажется ей, будто я хвалиться люблю».
– А я вот знаю, – начала Маша и засмеялась.
– Что же вы знаете? – смутился Павел.
– Ай-яй! Работает уже помбуром, а сам – «как всегда!» Не знала, что вы такой...
– Да нет... Я просто... мне... – начал он сбивчиво и, окончательно растерявшись, замолчал.
– Так и быть, на первый раз прощаю! – сказала Маша, весело улыбаясь.
И тут же переменила разговор:
– Скоро открываются курсы бурильщиков. Не думаете поступать?
– Давно жду таких курсов.
– Но они будут без отрыва от производства. Пожалуй, трудно.
– Ничего. Меня в армии научили не бояться трудностей!
Около домика с двумя деревцами под окнами Павел остановился.
– Маша, вы не озябли? – спросил он девушку, всю засыпанную снегом.
– Я не слышу. Что вы говорите? – засмеялась она и попыталась откинуть воротник.
– Подождите, я сейчас... – сказал он.
И когда поднял руки, чтобы помочь Маше, на него повеяло таким волнующим теплом и запахом расцветающей сирени, что, не владея больше собой, он обнял девушку и поцеловал ее в холодные-холодные губы.
Маша не знала – любит ли она Павла, но он был добр и ласков с ней, она уже мечтала о замужестве и ребенке, а девушке еще никто не говорил слов любви. Сбивчивое, путаное объяснение Павла она приняла с радостью и так разволновалась, так разволновалась, что даже заплакала.
* * *
Вечером, за ужином, не поднимая от стола взгляда, Павел сообщил, что он женился. Нынче зарегистрировался, а завтра собирается перевезти домой вещи невесты.
За столом вдруг наступила тишина. У Дмитрия Потапыча выпала из рук ложка. Всем стало неловко.
Старик кое-как поел, не проронив ни слова, поспешно перекрестился на иконы в переднем углу и ушел к себе за печку.
Молчал и Константин. Тут же после ужина он начал вязать сеть и весь углубился в свою работу.
Зато сообщению Павла обрадовалась Катерина. Она давно поговаривала о женитьбе деверя и теперь привязалась к нему с расспросами, позабыв про неубранную со стола посуду.
Павел, краснея, отвечал односложно, скупо и все порывался уйти в горницу, но Катерина не отставала.
За этой сценой внимательно наблюдал Егор, то и дело пряча в учебник расплывавшееся в улыбке лицо. Наконец он не выдержал и сказал:
– Мама, ну чего ты приклеилась к дяде Паше?
Катерина обернулась к сыну и, взявшись руками за бока, покачала головой:
– И чему вас учат в школе? Ума не приложу!
Павел благодарно посмотрел на племянника и торопливо ушел в горницу.
Дмитрий Потапыч всю ночь не спал. Видно, он стал никому не нужен, всем мешает, думалось старику. А сыновья смотрят на него, как на пустое место. Взять Павла. С каким нетерпением он ждал сына, как много думал о поездках с ним на бакены, о его женитьбе. О женитьбе Павла он думал, наверно, больше, чем сам сын... Дмитрию Потапычу представлялось, что это произойдет совсем не так, как у других, а гораздо лучше. А Павел даже не посоветовался с отцом и решил все один. Старик не помышлял женить сына на нелюбимой девушке, нет, но эта городская – кто ее знает, что она за птица? Уж больно скоро вскружила парню голову, а сама, пожалуй, и прореху не зашьет на рубахе.
Дмитрию Потапычу стало жарко, и он сбросил с себя полушубок. Он пытался ни о чем не думать, заставлял себя слушать однотонную музыку сверчка, но на полатях громко, на всю кухню храпел Егор, мешая старику забыться. Дмитрий Потапыч опустил на пол ноги, достал из горнушки трубку и кисет с табаком.
– Зря я, пожалуй, плеснул себе на каменку, – тихо сказал он, набивая табаком трубку, – зря огневался.
А на душе все же не светлело.
Рано утром старик вышел во двор. Хотя и стоял январь, но было тепло. Ночью выпал снежок, он лежал ровным мягким слоем, и во дворе стало чисто и просторно. Около коровника жеманно прогуливалась сорока. Завидев старика, она с неохотой взмахнула крыльями и медленно полетела.
Дмитрий Потапыч разыскал деревянную лопату и принялся расчищать тропинки.
За горой всходило солнце. Блеклое, бесцветное небо, на котором томились редкие, еще не угасшие звездочки, озарили первые лучи, и оно запунцевело.
Скоро на крыльце появился Павел. Он взглянул вверх и вдруг зажмурился. На лице появилась кроткая улыбка.
Дмитрию Потапычу сын в это время показался подростком, каким он его больше всего любил, и неожиданно тяжесть, всю ночь давившая на сердце, пропала, старику сделалось легко.
– А ведь солнышко будет, – сказал Павел, застегивая ватник.
– Обойдется денек, – ответил старик и оперся о лопату.
Сыну показалось, что отец хочет что-то сказать, и он нарочно медленно стал спускаться по ступенькам вниз.
– Сейчас на зайца хорошо бы пойти, – снова сказал Павел.
– Это ты верно. На зайца сейчас в самую пору, – согласился старик, и когда сын проходил мимо, направляясь к калитке, добавил, как бы между прочим: – Ты, Павел, повремени с перевозкой ее барахлишка. Негоже так сразу. Надо свадьбу сыграть, как положено в таких случаях.
– А я думал, без этого обойдемся, – усмехнулся тот.
– Нет, это ты оставь. Нельзя, чтоб люди потом говорили про нас всякое... И вам было бы что вспомнить.
– А я не против, папанька, можно и так, – согласился сын.
– Так и сделаем, – облегченно вздохнул Дмитрий Потапыч и, взглядом проводив сына до калитки, покачал головой.
– Уж такая теперь пошла молодежь! – сказал он себе и снова взялся за лопату.
* * *
Свадьбу сыграли веселую и богатую. Было много гостей, много всяких закусок, пирогов и вина. Бурильщик с промысла, молодой татарин Саберкязев, играл на баяне, парни с девушками танцевали, а посаженый отец невесты – колхозный пчеловод Максимыч пустился в пляс и так развеселил всех, что уж другие гости, степенные и солидные, не могли удержаться и тоже пошли вприсядку.
Разошлись по домам под утро, многие еле стояли на ногах, а баянист Саберкязев и друг Дмитрия Потапыча Евсеич не могли идти, их уложили на полу в горнице возле комнаты молодых, и они тут же заснули.
Бодрее других выглядела Катерина; она советовала всем пить огуречный рассол, проворно бегала из кухни в чулан и обратно, мыла посуду, и в одиннадцать часов у нее был готов завтрак.
Во время завтрака опохмелялись. И только молодушка не хотела пить и все прижимала к вискам носовой платок.
– А ты выпей, ангелочек наш бесценный, и с тебя всю дурноту как рукой снимет, – приставала к Маше захмелевшая Катерина. – Выпей, Мареюшка!
– Выпей, – сказал Павел жене и, проколов вилкой соленый груздочек, подал ей на закуску.
Маша поднесла к губам рюмку и зажмурила глаза.
– Одним духом, Мареюшка! – закричал старик.
Она выпила. Дмитрию Потапычу понравилась сговорчивость молодушки.
* * *
В доме Фомичевых к Маше скоро привыкли. Она как-то сразу к себе расположила. В один из первых дней ее замужества, когда немалая теперь семья села обедать и Катерина поставила посреди стола большую эмалированную миску, до краев наполненную рыбными щами, Маша с искренним удивлением сказала:
– Ой, да тут целое ведро будет!
Константин негромко засмеялся и тут же покраснел. А Дмитрий Потапыч ласково сказал, поглаживая мягкую волнистую бороду:
– Ешь, сношенька, на здоровье да поправляйся!
И та стесненность, которая всегда появляется за столом при новом человеке, неожиданно пропала, и все стали вести себя непринужденно.









