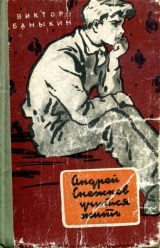
Текст книги "Андрей Снежков учится жить"
Автор книги: Виктор Баныкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
В Яблоновый овраг Маша и Валентина Семенова отправились поздно, часов в одиннадцать.
Светило солнце, и все вокруг искрилось от инея: и деревья, и телеграфные столбы с толстыми белыми шнурами проводов, и розовые каменные глыбы, нависшие над головой.
Валентина всю дорогу много говорила, размахивая колючей сосновой веточкой.
– Вчера в парткоме был разговор о нашей шефской бригаде, – рассказывала Маше подруга. – Нас вовсю расхвалил сам секретарь парткома! Не веришь? Мне бурильщик Кирем Саберкязев передавал.
Семенова заглянула Маше в глаза:
– Довольна?
– Мы еще так мало сделали... И расхваливать нас, Валюша, пока совсем не за что, – сдержанно сказала Маша.
– А ну тебя! – отмахнулась Валентина. – Вечно всем недовольна!.. Ты лучше послушай, что я тебе еще скажу. Про Саберкязева. Он за мной напропалую ухаживает...
Валентина захохотала.
Маша посмотрела на горы, на прямые с красными стволами сосны, с которых изредка срывались пушистые комки снега, дымя белой пылью, и отстранилась от Семеновой. Стараясь не обидеть подругу, она мягко сказала:
– Но ведь у него, говорят, жена и ребенок?.. И вообще, Валюша, никак не могу тебя понять. Перед войной ты дружила с техником Борисом Русиным. Борис тебе и сейчас пишет с фронта.
Семенова резко взмахнула сосновой веткой, и та сломалась. Валентина посмотрела под ноги на рассыпавшиеся по снегу сочные зеленые иголки, потом перевела свой недовольный взгляд на оставшийся в руках обезображенный голый черенок.
– Кто мне скажет, когда вернется Борис? И вернется ли еще... Скоро уже два года, как идет война, – она отбросила в сторону оставшийся от ветки черенок, и все лицо ее сморщилось и сразу как-то поблекло и постарело. – А Кирем очень добрый и внимательный... Мне его даже жалко... Жену с девочкой он вынужден был оставить... Она ему отравляла всю жизнь своей бабьей ревностью.
Валентина замолчала и, прижимая к губам скомканную варежку, отвернулась.
– Перестань серчать, – первой заговорила Маша, нарушая затянувшееся молчание. – Ты говоришь: кто знает, когда вернется Борис? А мне кажется, если любишь по-настоящему, крепко, можно ждать и ждать. Ждать и ждать!
Впереди показалась грузовая машина. Она неслась стремительно, громыхая на ухабах, с каждой минутой вырисовываясь все отчетливее и отчетливее.
Подруги сошли с дороги и сразу чуть ли не до колен увязли в рыхлом, сыпучем сугробе. Машина пролетела мимо, обдавая их холодным ветром и снегом из-под колес. В пустом кузове стоял, вцепившись руками в крышу кабинки, бригадир вышкомонтажников Устиненко.
– О-го-го, трясогузки! – прокричал он, размахивая лад головой рукавичкой.
– Шальной черт! – как-то неестественно громко рассмеялась Валентина. Отряхнув с плеча жесткие белые комочки, она добавила: – А скоро ведь Яблоновый.
Когда подошли к промыслу, Маша сказала:
– Мне надо в лабораторию глинистых растворов зайти.
– Это тебе зачем? – спросила Семенова.
– Поручение одно есть, – Маша замялась. – Видишь ли, одна знакомая девушка – ты ее не знаешь – собирается на промысел поступить. Ну и просила подыскать работу.
Лаборатория помещалась в небольшом деревянном домике, стоявшем в стороне от дороги, почти у склона горы. Маше не хотелось, чтобы подруга сопровождала ее. Не доходя до тропинки, поднимавшейся в гору, она поспешила передать Валентине сверток свежих газет.
– Иди, Валюша, на буровую, а я на минутку забегу.
– И я с тобой. Время у нас есть, все успеем сделать, – ответила Семенова и первой зашагала по тропинке к домику с растворенной сенной дверью.
В лаборатории было жарко как в бане. У высокого стола, обитого железом и заставленного какими-то приборами, суетилась полная низенькая женщина в синем халате.
– Да тут изжариться можно, – сказала шепотом Валентина, толкнув Машу в бок.
Женщина повернулась к вошедшим, и на ее уставшем и совсем еще не старом лице появилась приветливая улыбка.
– Мы к вам, товарищ Обручева, посоветоваться, – проговорила Маша, поздоровавшись. Она немного знала заведующую лабораторией: несколько раз встречалась с ней на буровой Хохлова.
– Рады гостям, присаживайтесь, – все так же приветливо улыбаясь, заговорила Обручева и тряпочкой провела по лавке, которая и без того была чистой, выскобленной до восковой желтизны. – К нам сюда редко кто заглядывает. Присаживайтесь.
Валентина и Маша сели. Заведующая тоже опустилась на табуретку и положила на колени пухлые белые руки.
Маша сбивчиво рассказала о цели прихода.
– Правильно. Совершенно правильно объяснила вам товарищ Каверина, – сказала Обручева, внимательно выслушав Машу. – Наша работа очень интересная. И, я бы добавила, чрезвычайно ответственная. Ведь роль глинистого раствора в бурении очень и очень велика, девушки.
Из лаборатории подруги вышли минут через пятнадцать. Пройдя несколько шагов, Семенова насмешливо проговорила, распахивая полушубок и подставляя грудь свежему ветерку:
– Ну и нашла же ты работу своей знакомой! Хорошую, нечего сказать!
– А чем же она плоха? – произнесла Маша и посмотрела на расстилавшуюся перед ней долину Яблонового оврага.
– Каждый день шататься по всему промыслу, лазить по горам... Буран ли, дождь ли на улице, а ты иди! И зачем, спрашивается? Чтобы взять на буровых пробу жидкой грязи! – У Валентины искривились в брезгливой усмешке накрашенные губы. – Уж-жасно увлекательное занятие!
Немного погодя она приблизилась к Маше и, подцепив ее под руку, продолжала – теперь уже вкрадчиво и ласково:
– Знаешь, Мария, мне на днях одна наша сотрудница говорит: «Совершенно не понимаю Фомичеву! При ее положении – ведь она жена Героя Советского Союза – и сидеть в бухгалтерии счетоводом! На месте Машеньки я потребовала бы себе какое-нибудь теплое местечко. Скажем, должность секретаря директора промысла. Там и ордера всякие под рукой и положение!»
У Маши красными пятнами покрылись щеки. Некоторое время она шла молча, часто-часто моргая веками. А на глаза все набегали и набегали слезы и, уже не имея больше сил их сдерживать, она вдруг заплакала, заплакала навзрыд, закрывая ладонями мокрое лицо.
– Что с тобой, Мария? – озадаченно воскликнула Семенова.
Маша не ответила. Тогда Валентина, растерянно говоря какие-то слова, которых Маша совсем не слышала, попыталась отнять от ее лица руки с негнущимися пальцами, такие узкие и такие холодные.
– Ну, отчего это ты ревешь коровой? Я прямо понять ничего не могу! – говорила Валентина Маше, медленно шагавшей по глубокому, сверкающему синими искорками снегу.
Внезапно Маша сама отняла от лица ладони и, прямо держа голову, глянула на Семенову через плечо.
– Можешь передать этой... этой сотруднице, – голос у Маши окреп и стал сильным и звонким, – пусть обо мне не беспокоится! И еще скажи ей, что я уже нашла себе... вполне хорошее место!
Маша заправила под шаль выбившуюся на лоб волнистую прядь волос и быстро зашагала к буровым, прямо через снежное поле, пробиваясь к тянувшейся невдалеке большой широкой дороге, которая так манила ее к себе.
XIВсю первую половину марта держались морозы – забористые, палящие. А в горах сутками бушевали снежные метели, и как-то уж не верилось, что со дня на день должен наступить конец долгой, наскучившей всем зимушке-зиме.
Чуть ли не каждый день Дмитрию Потапычу приходилось расчищать во дворе тропинки. Выйдя ранним утром на крыльцо и сразу увязнув в рыхлом сугробе, старик говорил:
– Загостилась зимища! Пора бы и совесть знать... Эко сколько опять навалило!
Старик глядел на тусклое, белесоватое небо, на занесенный снегом двор и недовольно крякал. А потом, схватив широкую деревянную лопату, размахивал ею над головой, пугая тощих, горластых ворон, сидевших на коньке сарая.
– Кыш, проклятые! – кричал Дмитрий Потапыч. – Того и гляди опять несчастье накличете!
Вороны нехотя поднимались в воздух. Пролетая над двором, каркали еще громче, как бы дразня старика.
Но весна все же пришла, и пришла внезапно – дружная, веселая, говорливая. Еще двадцать второго марта сыпал снежок и ночью потрескивали от стужи деревья, а наутро из-за туч выглянуло солнышко. Выглянуло и больше не захотело прятаться за тучами. И уж к полудню так развезло, так раскиселило, что в валенках нельзя было нигде пройти.
Снег сразу осел и налился тяжелой синевой. С крыш домов стремительно, с глухим уханьем срывались огромные засахаренные глыбы, пугая разозоровавшихся воробьев. А по улицам бежали светлые, бурливые потоки, и шустрые, бедовые ребятишки пускали в них свои легкие кораблики.
Маше, ушедшей на работу в валенках, Катерина отнесла в середине дня туфли с ботиками.
– Глянь-ка в окошко, Мареюшка! Моря-океаны разлились! – певуче говорила Катерина, уставясь на Машу чистыми, точно омытыми снеговой водой глазами. – Ну и веснушка-красавица! В один день с зимой расквиталась.
Выйдя вечером из конторы, Маша несколько минут простояла на крыльце, дыша глубоко, всей грудью. Согретый солнцем воздух был напоен терпкими запахами талого снега, отпотевших крыш и какими-то другими, еле ощутимыми, но такими волнующими ароматами молодой светлой весны.
«Вот и зиме конец, – улыбнулась Маша и направилась домой. – Вот и конец моей работе в бухгалтерии. Завтра в это время я буду возвращаться из Яблонового оврага».
Маша, взглянула на высокое небо, сияющее голубизной, и снова улыбнулась, прижимая к груди руки. Сердце билось сильными, порывистыми толчками.
Она шла медленно. Ноги тонули в зернистом снегу, и глубокие ямки с ясными отпечатками каждой клеточки подошвы тут же наполнялись студеной водой.
«Так бы и не уходила с улицы. До чего же все вокруг хорошо!» – думала Маша, прислушиваясь к переливчатому звону быстрых ручейков.
Прежде чем войти во двор, она задержалась у калитки и еще раз огляделась вокруг.
Вдоль улицы стояли гладко выструганные сосновые столбы с туго натянутыми проводами. Столбы, фарфоровые изоляторы, проволока – все блестело в лучах заходящего солнца, и улица выглядела необыкновенно праздничной. Маша вспомнила, как они всей семьей копали в промерзлой земле ямы вот для этих красавцев столбов с застывшими струйками прозрачной смолы на нежно-кремовой гладкой поверхности, и рассмеялась.
Дома к Маше, лишь успела она переступить порог кухни, вприпрыжку бросился Алеша.
– А я нынче пароходики-кораблики пускал! – закричал мальчишка, повиснув у Маши на руках. – И сам капитаном был! Право слово!
У окна Дмитрий Потапыч перебирал рыбачьи сети. Ему помогал Егор. Внук сидел возле старика на корточках и громко, с юношеской горячностью рассказывал:
– Завтра вечером будем слушать Москву. Включим репродуктор – и пожалуйста: «Говорит Москва. Передаем последние известия...» Здорово, правда, дедушка?
– Я тоже хочу слушать Москву, – сказал Алеша, освобождаясь из объятий Маши.
– Коленька, – позвала Маша, останавливаясь в нескольких шагах от сидевшего на войлоке сына, – иди скорее к маме.
Мальчик проворно встал и торопливо и неуклюже зашагал, широко растопырив ручонки.
Подхватив сына, Маша подняла его высоко над головой.
Перед обедом Маша сказала Катерине:
– А меня нынче в гости приглашали.
Она наклонилась к невестке и шепотом продолжала:
– Валентина приглашала. «Нынче, – говорит, – день моего рождения. Двадцать лет исполняется. Обязательно надо отметить!»
– Сходи, сходи, Мареюшка, – закивала Катерина, ставя в угол ухват. Она взглянула на Машу и вздохнула. – Как подумаю про твою новую работу, ну прямо вся душа изболится... Тяжело ведь тебе будет, Мареюшка. Ох, как тяжело! И Коленька еще такой крошечный, такой крошечный...
– А кому теперь легко, Катюша? – спросила Маша. – Константину Дмитриевичу на фронте? Мастеру Хохлову? Папаше на лесозаготовках? Или, может быть, тебе?
Катерина вдруг обняла Машу и поцеловала ее в щеку.
Пока Маша собиралась к подруге – гладила праздничное шерстяное платье, которое ни разу не надевала с тех пор, как уехал на фронт Павел, доставала из чемодана туфли на высоких каблуках, отыскивала шелковое кашне, – ее все сильнее и сильнее охватывало какое-то тревожное и в то же время радостное волнение.
«И что это такое со мной? – думала Маша, заглядывая в зеркало, а сердце замирало в груди сладко-сладко. – А у меня снова появились веснушки. Разве припудрить их немножко?»
Провожая Машу, Катерина вышла в сени и сунула ей в руки какой-то сверток.
– Тут, Мареюшка, я хлеба завернула, леща соленого и два кома сахару. Теперь ведь у всех не густо, – зашептала невестка. – А сахарок нынче по твоим карточкам получила.
Когда Маша подошла к небольшому домику в три окна и постучала в наличник, дверь открыла мать Валентины.
– А вот и Машенька! – ласково сказала старуха. – А моя-то уж беспокоится. Все-то уж в сборе, а тебя нет и нет.
– Держите, Петровна, – Маша притворила дверь. – Разве можно развязкой выходить?
– Экие, право, вы все озорницы, – вздохнула старуха, покорно принимая от Маши сверток. – Приходит каждая, и знай одно: «Возьми, Петровна, пригодится!» Узнает Валентина, разбушуется!
В маленькой горенке было тесно и шумно. На тумбочке у окна играл патефон, оглушая всех хриплыми звуками вальса.
– Машенька, Машенька пришла! – закричала одна из девушек, помогавшая хозяйке накрывать на стол.
Маша обняла подлетевшую к ней Валентину.
– Тебя, Валюша, просто не узнать, – негромко сказала она подруге. – В этом платье и с этой прической... Ты нынче всех затмишь!
Глянув на дверь, Маша вдруг замолчала.
В горенку вошел бурильщик Саберкязев, всего лишь неделю назад назначенный мастером, а вслед за ним неловко, как-то боком, в дверь протиснулся Федор Трошин.
На мгновение смех, разговоры смолкли, и все устремили свои взгляды на вошедших. Маше показалось, что смотрят только на Трошина, которому так шел этот серый в полоску костюм, красиво облегавший его широкую в плечах фигуру.
И то волнение, которое не покидало Машу во время сборов к Валентине, снова нахлынуло на нее с прежней силой.
«А со мной... ну, что это такое делается со мной?» – опять спрашивала она себя и опять не находила ответа.
– Вот и кавалеры наши пришли. Должна была еще Каверина... да она под вечер выехала в Сосновку – срочно в райком вызвали. Теперь все в сборе, и можно садиться за стол. – Валентина вышла на середину комнаты и развела руками. – Надеюсь, и Федю Трошина, и Кирема Саберкязева все знают?
– Маленько подожди, Валя, – сказал Саберкязев, и черные, горячие глаза его весело заблестели. – Скажи наперед: ты нас женить надумала-придумала?
Все засмеялись.
– А ты что же, Кирем, разве больше не собираешься жениться? – спросила Саберкязева толстушка-чертежница из геологического отдела.
Саберкязев глянул в сторону бойкой на язык девушки и погрозил ей пальцем.
– Зачем мне, сдобнушка, жениться, когда вон сколько вас!.. Холостому куда свободнее!
Снова поднялся хохот. Стали усаживаться за стол.
– Угощений сколько всяких... Ну, прямо как в довоенное время, – толкая Машу локтем в бок, зашептала чертежница, любившая поесть. – Даже колбасу вижу. Ужасно люблю колбасу!
Опустившись на стул возле не отстававшей от нее толстушки, Маша поправила волосы и огляделась вокруг. Прямо перед ней, по другую сторону стола, сидел Трошин.
– Вы что-то, Мария Григорьевна, совсем перестали ходить на буровую в мою вахту, – сказал бурильщик, устремив на Машу внезапно просиявшие глаза. И щеки его тотчас заалели, как у конфузливой девушки.
– Нет. Почему же? – ответила Маша и тоже покраснела.
– Валька, у тебя вино настоящее? – спросила чертежница молодую хозяйку, разливавшую из графина по рюмкам какую-то жидкость рубинового цвета. – Настоящий портвейн?
– А как ты думаешь? – сощурилась Валентина и расхохоталась. – Портвейн собственного завода. Это мы с мамулькой... из сушеной ежевики!
– Есть предложение, – сказал Саберкязев и, подождав, когда наступит тишина, продолжал: – Мое предложение такое: выпить сначала маленько-маленько беленькой.
И он поставил на стол бутылку с водкой.
– Присоединяемся, – тотчас вслед за мастером проговорил только что появившийся тракторист, ухажер чертежницы, и тоже поставил на стол бутылку.
– Боже мой! И что теперь с нами будет? – с преувеличенным испугом вскричала Валентина. – Это тут... все водка?
– Нет, – с серьезным видом сказал Трошин. – Тут, девушки, просто-напросто святая вода из церковного алтаря.
Чертежница засмеялась и, прижимаясь к Маше, тихо сказала:
– Этот Федор такой весельчак... Вот увидишь, скоро всех уморит со смеху!
А Трошин в это время чувствовал себя страшно неловко. Ему подумалось, что Маша даже поморщилась, услышав его глупый каламбур. Пока сидели за столом, бурильщик не произнес больше ни слова. Он выпил рюмки три, но ничем не закусывал и все только украдкой поглядывал на Машу.
Маше казалось, что она сидит на раскаленных угольях – так смущали ее эти взгляды.
Но вот наконец Саберкязев заиграл на баяне, и первые пары закружились в вальсе. Маша тоже встала, намереваясь поскорее уйти домой никем не замеченной, но ее кто-то окликнул. Она оглянулась и увидела Трошина.
– Выпьем, Мария Григорьевна, – сказал бурильщик. останавливаясь рядом с Машей и протягивая ей рюмку.
– Да вы... что с вами? – смутилась Маша и слабо улыбнулась. – Я и так... не знаю даже, сколько выпила! Голова кружится.
– Не хитрите, – усмехнулся Федор. – Я же все видел. Видел, как вы в чашку сливали... Не подумайте, что я пьян. Просто, когда я вижу вас... Но с вами мне хочется выпить. За ваши успехи на новом месте.
Маша взяла рюмку.
– У меня нет еще никаких успехов. А вот за ваши...
Они чокнулись и выпили. Бурильщик поспешил подать Маше ломтик соленого огурца, но она замотала головой, морщась и прижимая к губам носовой платок.
– Мария Григорьевна... Мария Григорьевна, – растерянно, скороговоркой произнес Трошин, не зная, что ему теперь делать.
– Ой... ой, какая горькая-прегорькая, – с трудом переводя дыхание, выговорила Маша и, взглянув Трошину в лицо, вдруг рассмеялась.
В это время музыка смолкла, и к Маше, расталкивая гостей, подбежала с гитарой в руках запыхавшаяся Валентина.
– Мария, пожалуйста... все просят, все присутствующие! – закричала подруга, веселая и радостная, все еще возбужденная танцами.
– Ну что ты выдумала? – еле слышно промолвила Маша, умоляюще взглянув на Валентину. – Перестань. Перестань, пожалуйста!
– Нет, не перестану! Девушки, все идите сюда! Просите! У Марии такой голос!
Валентина схватила за рукав тракториста и подтолкнула его к Маше:
– Проси, Саша!
– Я, право... Я и гитару не помню, когда брала в руки, – сказала Маша, прижимая к пылающим щекам ладони.
– На гитаре не играете, пожалуйста – на баяне можно. Любую песню играть могу, – заулыбался захмелевший Саберкязев. – А зачем отказываться? Нехорошо отказываться! Народ просит!
– Послушайте, варвары рода человеческого! – со смехом проговорил Трошин. – Ну что вы привязались к Марии Григорьевне? Возможно, она и на самом деле сейчас не может... Давайте-ка что-нибудь вместе споем, а?
– Все, все будем петь! – закричала чертежница.
– Споем по любимой песне каждого, – продолжал бурильщик, стараясь отвлечь от Маши всеобщее внимание. – Согласны? Тогда назовите кто-нибудь свою самую любимую... Или начнем лучше с хозяйки.
– Вот выдумал, – засмеялась Валентина. – Наоборот, гостям все внимание.
Но девушки окружили Семенову и наперебой стали просить, чтобы она назвала свою любимую песню.
– Я сегодня получила с фронта письмо... от Бориса Русина, – с волнением сказала Валентина. – Многие из вас, надеюсь, его помнят. Он техником на промысле работал.
Семенова на секунду смолкла, потупив глаза, и снова заговорила:
– У нас у всех есть на фронте и родные, и близкие, и товарищи. Давайте споем фронтовую и представим себе хоть на минуту... будто они все тут, вместе с нами!
– Фронтовую! – гаркнул тракторист.
– Споем «Играй, мой баян», – предложила одна из девушек.
И все дружно запели:
С далекой я заставы,
Где в зелени дом и скамья...
Потом Валентина подошла к Трошину:
– А уж теперь, Федя, твоя очередь! Не отвертишься!
– Ох, попался! – взмахнул руками бурильщик. – Да уж ладно. Только сначала немного истории. Случилось это, когда я был мальчишкой, лет четырнадцати. Не помню, зачем я тогда пришел на Волгу. Скорее всего, купаться. Стоял теплый летний вечер – как пишут в романах. Уже стемнело. Волга была такая тихая-тихая, даже вода не колыхалась у берега. Забыл совсем сказать... Я ведь из этих мест. Из Царевщины. Рядом с нашим селом Царев курган, а напротив, в Жигулях, Ширяево. Ну вот... Хорошо все представляю, будто вчера было. На берегу костер горел, а возле него во всем белом девушка и юноша. Девушка молоденькая, сама эдакая хрупкая, а коса длинная, тяжелая, во всю спину. Она смотрела на огонь... смотрела большими, чуть грустными глазами и пела. А юноша лежал немного в стороне от девушки и лениво бросал в костер хворостинки. Они не слышали, как я подошел совсем близко и осторожно опустился на остывающий песок... такой приятно прохладный, Девушка пела негромко, проникновенно и трогательно. Когда она кончила, ее спутник встал и медленно-медленно пошел к лодке. А девушка еще долго сидела, как будто ничего не замечая вокруг себя. Потом она вздохнула и тоже поднялась. Юноша помог девушке войти в лодку, и они поплыли на ту сторону – оба грустные и молчаливые. А я еще долго сидел неподвижно и как завороженный глядел на затухающий костер, на тихую Волгу с маячившей вдали лодочкой, а в ушах все звучала песня – грустная и трогательная. И почему-то до слез было жалко девушку.
Трошин замолчал.
Маша украдкой глянула на бурильщика.
«А он похудел. И глаза запали, и щеки ввалились... Не легко, видно, приходится на девонской буровой», – с участием подумала Маша.
– Федя, золотко, – сказала Валентина, прижимая к груди гитару, – скажи скорее, не мучай...
– Я люблю многие песни, – задумчиво проговорил Трошин, – но та, которую услышал в далекий памятный вечер на берегу Волги, всегда как-то особенно сильно волнует... Как сейчас вижу грустную девушку в белом, костер... гаснущие на лету искры...
Маша вдруг шагнула к подруге и выхватила у нее гитару. Опустившись на подставленный кем-то стул, она прикоснулась к струнам легкими и чуткими пальцами и запела:
Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету.
Нас с тобой никто не встретит,
Мы простимся на мосту.
Все, что было дальше, Маша помнила смутно... Вскоре она осторожно прокралась в кухню, стараясь быть незамеченной, кое-как оделась и выбежала в сени.
Вокруг было, темно и глухо, с Волги порывами дул резкий, по-зимнему студеный ветер.
Маша шла торопливо, не разбирая дороги, часто попадала в лужи, затянутые ледком. Наконец Маша остановилась, огляделась по сторонам, стараясь определить, куда же она забрела.
«Вот это... это столовая, – с удивлением подумала она, всматриваясь в тускло освещенные окна кирпичного здания. – Но как я сюда попала? Мне же надо совсем в другую сторону».
Она повернула назад. В это время из темноты раздался тревожный голос:
– Мария Григорьевна?.. Это вы, Мария Григорьевна?
И тут же показался Трошин в своем длинном пальто нараспашку.
Федор осторожно и молча взял Машу под руку. Когда они остановились у калитки Машиного дома, Федор заглянул Маше в глаза и, запинаясь, сказал:
– Я многое отдал бы за то, чтобы вы были счастливы.
– Спасибо, – чуть слышно промолвила Маша. И тут же торопливо распахнула калитку...
– Я так поздно... Ты, Катюша, наверно, спала? – спросила Маша невестку, отпиравшую ей дверь.
– Нет, – ответила Катерина. – Я писала. А батюшка и ребята давно завалились... Из книги, Мареюшка, списывала. Ты на досуге посмотри, я, поди, наврала много.
В комнате на столике лежали раскрытый учебник и листик бумаги из ученической тетради, весь исписанный крупными ровными строчками. В глаза Маше бросилось «т», до смешного неуклюжее, раза в два больше других букв. В левом углу листа расплылось чернильное пятнышко.
Расстегивая на груди мелкие пуговки, Маша наклонилась над детской кроваткой и поцеловала крепко спящего сына.
В дверь заглянула Катерина.
– А я, Мареюшка, забыла со стола убрать, – шепотом проговорила невестка.
– Иди спи, Катюша. Я уберу, – ответила Маша, стараясь как можно дольше снимать платье, чтобы Катерина не видела ее лица.
– Я теперь не скоро усну, – мечтательно протянула Катерина, осторожно притворяя дверь.
Маша подошла к стулу, чтобы повесить на его спинку платье, но взгляд неожиданно скользнул по фотографии мужа, и она выронила из рук платье. Каким-то далеким и чужим показалось сейчас Маше лицо Павла.
«Павлуша, Павлик! – беззвучно шевеля губами, прошептала Маша. – Ты был для меня самым дорогим, самым любимым, и я никогда... никогда тебя не забуду. Только почему у меня так смутно, так неспокойно на душе? Павлуша, родной, ну почему, почему тебя нет со мной?
И, вспоминая, как она убежала от Валентины, как ее провожал Трошин, такой внимательный и такой чуткий, и как ей, совсем растерявшейся и оробевшей, было приятно опираться на его сильную руку, Маша бросилась на кровать и горько-горько заплакала.







