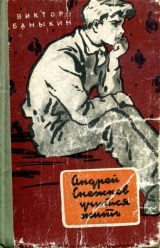
Текст книги "Андрей Снежков учится жить"
Автор книги: Виктор Баныкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
В середине ноября выпал первый снег. А потом начались морозы – трескучие, январские. Но сегодня в полдень вдруг оттеплило, осел снег, и на потускневшей дороге появились темные пятна. И хотя весь день ни разу не показывалось солнце, во всем чувствовалось весеннее оживление, а от сизо-красных веток вербовника пахло мартом.
Маша сняла белые пуховые варежки и, нагнувшись, захватила в горсть тяжелого, вязкого снегу.
«Весна... настоящая весна, да и только! – улыбалась она, сжимая тонкими пальцами податливый комок. – А у меня голова немножко кружится. Это, наверно, оттого, что на воздухе давно не была».
Она возвращалась из рабочего поселка, куда ходила в общежитие к заболевшему бригадиру вышкомонтажников Устиненко за нарядами.
Дорога тянулась мимо горного склона, полукругом обступающего пустырь. Эта остроребрая гора с разросшимися у подножия дубками и голая у вершины чем-то напоминала крыло беркута. Она надежно защищала поселок от суровых, пронизывающих ветров, частенько гулявших зимой по Волге.
Маша смотрела по сторонам и вспоминала... Ведь это было совсем-совсем недавно, всего лишь в прошлом году. Она лазала по склону горы, держась рукой то за гибкие кустики бузины, то за белые камни, вросшие в землю, и рвала фиалки, желтую ветреницу, сиреневые колокольчики, трогавшие ее своей непритязательной простотой. Где-то рядом собирала первые весенние цветы Валентина Семенова, подруги часто перекликались, и Маше было весело и радостно.
Дома Маша поставила букет в голубую с белыми лилиями фарфоровую вазу; когда вечером пришел с работы уставший Павел, он сразу заметил в комнате цветы и весь просиял в улыбке...
Воспоминания о молодой любви, о первых месяцах замужества так захватили и взволновали Машу, что она даже не слышала, как кто-то ее окликнул. Это был Трошин.
– Мария Григорьевна!.. А я вас сначала и не узнал, – как-то растерянно и смущенно сказал бурильщик, подойдя к Маше. – Вас что-то не было видно. Вы, кажется... болели?
– Чуть ли не месяц пролежала. Сегодня первый день на работу вышла.
Незаметно для себя они пошли дальше уже рядом и некоторое время не знали, о чем говорить.
– А нынче такой день... совсем весенний! – вырвалось вдруг у Маши.
– В ночь, вероятно, метель начнется. Рано в этом году зима нагрянула.
– А почему метель?
– Дымок из труб понизу стелется. Быть непогоде.
– Вы так говорите, будто сотню лет живете, – сказала Маша, улыбаясь.
У Трошина дрогнули обветренные губы, и он засмеялся.
– Моему деду сто лет. Не верите?
– Нет, почему же?.. Да вы и сами сотню годков проживете.
– Меньше не собираюсь! – весело щуря глаза, спутник Маши закончил: – Меньше мне никак нельзя!
– Доживете до старости и будете рассказывать внукам сказки?
– А чем наше время не сказочное? Лет через пятьдесят вот об этих наших днях легенды сложат!
– Да, возможно, – задумчиво проговорила Маша.
Ей вдруг стало грустно и как-то не по себе... Она не замечала ни шустрых воробьев, скакавших по дороге итак близко подпускавших к себе, что можно было разглядеть на их серых взъерошенных грудках черные точки, ни пятнистого теленка с курчавой шерсткой на лбу, бегавшего по огородам, ни белой полосы за Волгой, медленно поднимавшейся от горизонта вверх по небу.
Трошин тоже замолчал, и Маша была благодарна ему за это.
Вышли на широкую, просторную улицу. Маше показалось, что никогда раньше она не видела в Отрадном столько детей.
Они играли в снежки, катались на лыжах, возили друг друга на салазках, и на улице было шумно и весело.
Возле колодца, невдалеке от конторы, Маше и Трошину встретилась молодая женщина с полными ведрами воды на коромысле. Впереди женщины шла маленькая девочка. Прижимая к животу старую глиняную крынку с отколотым краем, в которой плескалась вода, девчурка смотрела на мир ясными, радостными глазами.
Маша сошла с дороги и встала.
– Посмотрите, какая она хорошенькая, – сказала Маша бурильщику.
Увидев пробегавшую мимо черную лохматую собаку, девочка закивала ей головой. Старая крынка выскользнула из рук, ударилась о землю и разлетелась на мелкие черепки.
Голубые ясные глаза, только что радостно и доверчиво смотревшие на мир, вдруг затуманились, наполнились слезами. Обильные и прозрачные, они в два ручья потекли по розовым пухлым щекам, и казалось, что ничем нельзя будет утешить девочку в этом ее детском горе.
– Ну перестань, моя ласковая, ну перестань! – уговаривала женщина дочь, гладя ее по голове. – Дедушку Ивана попросим, он тебе – ух какие! – ведерки сделает. Такие ма-ахонькие-махонькие!
Глядя на Машу добрыми, грустными глазами, женщина терпеливо продолжала:
– Ну перестань, перестань, ласковая! Посуда, доченька, к счастью, говорят, бьется. Может, от папки весточку вскорости получим.
Пошарив в кармане своей короткой шубки, Маша вынула граненый цветной карандаш.
– Хочешь, подарю? – сказала она, наклоняясь к девочке.
Девочка посмотрела на красную палочку и, все еще всхлипывая, протянула руку.
Получив карандаш, она засмеялась, запрыгала.
– Сколько лет вашей дочке? – спросила Маша женщину.
– Пятый годок пошел, – ответила та и взяла дочь за руку. – А ты, Зиночка, спасибо скажи тете.
У конторы Маша попрощалась с бурильщиком.
– Вы на промысел? – спросила она, уже взявшись за ручку двери.
– Пораньше лучше... до метели, – ответил Трошин и еще раз повторил: – Будьте здоровы. Не болейте.
Маша взглянула на небо.
Короткий ноябрьский день пожух и посерел. И по мере того как темнел воздух и все вокруг приобретало дымчатую, унылую однотонность, огромная туча, уже нависшая над деревней, становилась все белее и белее. Было все еще тихо и тепло. Где-то громко кричали вороны, а на стоявшей в соседнем дворе голой березе с опущенными ветвями резвились синицы.
В коридоре конторы Машу уже поджидала Валентина Семенова.
– Мария, – зашептала подруга, обдавая Машу крепким табачным запахом. – Когда ты успела завести себе такого интересного ухажера?
От жгучего любопытства и волнения продолговатое синюшное лицо Валентины покрылось вишнево-сиреневой сыпью.
– Какого ухажера? – обомлела, ничего не понимая, Маша.
– Ты меня тронутой считаешь? – обиделась подруга. – Будто мы не видели в окна. Мы все стояли и глазели, как он тебя до конторы провожал.
– Да это же Трошин, бурильщик из бригады Хохлова, – беспомощно разводя руками, сказала Маша. – И как вы... и как ты могла такое подумать! До ухажеров ли мне сейчас... с ребенком.
– Ну, тоже мне! – Валентина хохотнула. – Не прикидывайся казанской сироткой! Такого красавца... дурехой будешь, если упустишь!
И она, даже не взглянув на побледневшую Машу, направилась к двери с табличкой «Бухгалтерия», что-то громко, по-мужски насвистывая.
VМаша поднимала голову, прислушивалась.
На улице начиналась вьюга. На старые тополя в палисаднике вихрем налетал бешеный ветер и безжалостно трепал их, пытаясь пригнуть к земле. Деревья качались, скрипели, но не поддавались ветру. Рассерженный, он уносился куда-то в горы, и тогда все вокруг затихало.
Отодвинув занавеску, Маша глядела на легкие лиловые пушинки, в косом луче света вдруг загоравшиеся радужными искорками, и задумчивые глаза ее начинали блестеть, и по лицу скользила смутная, неясная улыбка.
«Вот и на самом деле собирается буран, – думала Маша. – Этот Трошин как наворожил».
Снова налетал ветер, подхватывая с земли снег, и яростно бросал пригоршнями в окно. Стекла жалобно звенели, осыпанные белой пылью.
Маша сидела на своем любимом месте у окна, а прямо перед ней на столике, покрытом кружевной скатертью, ярко горела лампа.
Ровный желтоватый свет ласково ложился на рукоделье, разостланное у Маши на коленях, на кроватку, стоявшую у перегородки, между столом и дверью, и не мешал думать.
«Нынче закончу, уж немного осталось», – говорила себе Маша, проворно работая иглой.
Она смотрела на темно-синий шелковый лоскуток с вышитыми по нему белыми ромашками и пыталась представить уставшего солдата с молодым открытым лицом, который после многочасового боя торопливо достает из кармана шинели скатанный в трубочку кисет. Все еще ожесточенный и хмурый, солдат развернет кисет, мельком взглянет на него и вдруг по-мальчишески улыбнется обветренными, жесткими губами. И заставят улыбнуться его эти вот простенькие ромашки. Глядя на них, он вспомнит далекую родимую сторонку, стариков родителей, любимую девушку... А когда закурит и бережно спрячет кисет, может быть, помянет добрым словом и ту неизвестную, которая с такой любовью и старанием вышивала его.
Стоило лишь почудиться, что в кроватке начинал шевелиться ребенок, как Маша уже забывала про все и с трепетным волнением приподнимала белую легкую простынку и подолгу смотрела на сына. И сердце ее наполнялось большой, горячей нежностью, какой она никогда еще не испытывала раньше.
Было уже поздно, но в доме Фомичевых еще никто не ложился.
В горнице, рядом с комнатой Маши, Егор готовил уроки, а на кухне Катерина затевала в квашне тесто, негромко и протяжно напевая:
То не ласточка-касаточка
Вкруг тепла гнезда увивалася...
«Опять Катерина начинает... О Константине все тревожится, – сокрушался Дмитрий Потапыч, бросая на сноху косой взгляд. – Экий эти бабы народ чувствительный».
Старик сидел посреди кухни под висячей лампой и подшивал валенки.
С начала ноября в горах на заготовке дров для пароходства работала бригада бакенщиков. Дмитрия Потапыча назначили бригадиром лесорубов, и он теперь почти каждый день возвращался домой в сумерки.
Пообедав, старик ненадолго забирался на печку «прогреть косточки», а потом принимался за какое-нибудь дело.
– И чего это тебе не лежится, батюшка? – говорила с укором Катерина. – Отдыхал бы себе. Чай за день-то намаялся. Не молодой.
Поглаживая поясницу и посмеиваясь, Дмитрий Потапыч отвечал:
– У меня душа молодая...
На лавке возле Дмитрия Потапыча примостился Алеша. Не спуская с деда глаз, мальчик спрашивал:
– А какая же, дедушка, белка из себя?
– Да совсем обыкновенная, – не спеша говорил старик и, поплевав на пальцы, черные от вара, брался за дратву. – Маленькая да юркая, а хвост большой, пушистый. Я сперва ее и не разглядел, когда к дереву подошел. А обушком постучал по стволу, белочка тут и прыгнула на соседнюю сосну. А потом на другую. И поминай как звали!
Дмитрий Потапыч и Алеша не заметили, как мимо них с большой глиняной квашней медленно прошла Катерина.
Поставив квашню на край печки и уже не сдерживая больше слез, она, задевая плечом за стену, подошла к постели и, опустившись на нее, прижала к мокрому лицу жесткие ладони.
...Константин уехал из Отрадного в конце сентября 1941 года. Недели через три от него получили первое письмо. Константин сообщал, что его определили в саперы, а их часть стоит недалеко от Сызрани. И Катерина, до этого часто просыпавшаяся по ночам, наконец заметно успокоилась.
А вскоре от Константина получили еще письмо. Так же как и первое, оно было коротко, в несколько строк:
«Жив-здоров. Находимся на прежних позициях, задание командования выполняем успешно, о чем и сообщаю».
И уже все следующие письма Константина заканчивались этими же словами.
Дмитрию Потапычу письма от сына были, не по душе.
– Надо немцев; бить, а они, мужики здоровенные, в тылу отсиживаются, – ворчал старик.
А Катерина, с неприязнью посматривая на свекра, думала: «Павла вот уж нет... Не хочешь ли ты теперь, чтобы и второй сын головушку сложил?»
Она в сердцах хватала со стола письмо мужа и уходила на кухню, где долго еще сердито громыхала ухватами. Всегда добрая и отзывчивая, в эти минуты Катерина люто ненавидела свекра.
Всю зиму от Константина приходили письма, и Катерина стала уже привыкать к мысли о том, что муж где-то недалеко и вне опасности и, возможно, и дальше не случится с ним ничего плохого. Но как-то в мае Константин неожиданно сообщил, что их часть отправляется «на новые позиции», намекая о фронте, и для Катерины снова началась тревожная жизнь, С этого времени дорогие сердцу короткие весточки от мужа она получала все реже и реже.
Теперь Дмитрий Потапыч часто говорил:
– Как-то там наш солдат поживает? Поди, мосты разные делает да окопы роет... Дело нужное, на войне без этого не обойдешься!
«И что это я, глупая, расплакалась? – спрашивала себя Катерина, вытирая фартуком глаза. – Может, ему чуть прихворнулось, вот и задержался с весточкой-касаточкой. Время ведь вон какое – не лето красное... Метель не на шутку разбушевалась, того и гляди крышу сорвет».
А на улице и в самом деле было метельно. С пронзительным завыванием и разбойничьим посвистом носился по крышам, ветер, ломился в закрытые ворота, громыхал о стену рабочей столовой железной вывеской и ради потехи наметал выше завалинок, по самые наличники, снежные сугробы.
Но вот Катерина выпрямилась, поправила волосы. Прислушалась.
«Вроде к нам кто-то стучится в сенную дверь? Или мне померещилось?» – спросила она себя, но не успела встать, как из горницы показался Егор.
– Алешка, перестань! – цыкнул он на брата, заливавшегося смехом, и с непокрытой головой, необутый, в одних лишь пестрых шерстяных носках, выскочил в сени.
Возвратился Егор с бакенщиком Евсеичем, приятелем Дмитрия Потапыча. Маленький шустрый старик вкатился в избу снежным комом. Размахивая шапкой, даже не поздоровавшись, он закричал:
– Что вы тут, ядрена мать, приуныли?
Распахнув шубу, с которой на пол падали белые хлопья, распространяя вокруг приятно свежий, пресный запах только что выпавшего снега, Евсеич схватился руками за бока и оглядел всех веселыми, по-молодому задорными глазами:
– Немцев под Сталинградом наши окружили!.. Пляшите, черти полосатые!
Новость эта всех так обрадовала, так ошеломила, что в первую минуту никто даже слова не вымолвил.
А потом все сразу засмеялись, заговорили, перебивая друг друга. Давно у Фомичевых не было такого шумного веселья, как в этот вечер. А непоседливый Алеша, забравшись за печку, кидал в Егора валенки и победно выкрикивал:
– По немцам-фашистам – огонь!
Дмитрий Потапыч попросил Катерину пошарить в буфете: не найдется ли там по стопочке? И та, расторопная и улыбчивая, принесла из горницы и поставила на стол неполную бутылку вишневой наливки.
Принимая от хозяина рюмку, Евсеич посмотрел через нее на свет и, щурясь, сказал:
– За наших бойцов, удалых молодцов!
Машу тоже уговорили выпить, и она чуть прикоснулась губами к рюмке.
– Было бы можно, все выпила бы и еще попросила! – со смехом сказала Маша.
Ее лицо, все еще бледное и осунувшееся, но даже сейчас не потерявшее своей обаятельной миловидности, чуть зарумянилось.
Катерине, взглянувшей в этот момент на Машу, невестка показалась той прежней хорошенькой, свежей девушкой, какой она была на свадьбе около двух лет тому назад.
Наступило время кормить ребенка, и Маша ушла к себе в комнату. А он уже барахтался в пеленках, морщил покрасневшее от натуги лицо и вот-вот готов был расплакаться.
Она взяла на руки сына.
«Он такой слабый и беспомощный, – думала Маша, – а я его люблю, люблю и люблю!»
Через полчаса, снова уложив сына в кроватку и заботливо укрыв его теплым одеяльцем, Маша подошла к темному окну. Над скованной морозом землей в непроглядной мгле бушевала непогода, и жутко было даже представить себе, что кто-то, возможно, бредет сейчас по бездорожью, пронизываемый ледяным ветром, то и дело отирая с лица озябшей рукой хлопья таявшего снега.
«Может, и под Сталинградом такая же вот погода?» – неожиданно подумала Маша и прислонилась горячим лбом к холодному стеклу.
Немного погодя, забывшись, она сказала вслух:
– А что сейчас делается на буровых в Яблоновом?
И Маша долго еще стояла у окна, взявшись руками за переплет рамы и крепко-крепко, до боли в деснах, стиснув зубы.
VIВсю ночь по Отрадному гуляла шальная метель. А с неба хлопьями валил и валил густой снег, и как ни пытался буянистый ветер разметать его в разные стороны, эта работа ему была не под силу. На рассвете, когда все стихло и ударил мороз, оказалось, что вся деревня утонула в рыхлых, сыпучих сугробах.
За Волгой медленно всходило солнце, большое и багровое, а множество прямых столбов, поднимавшихся над крышами изб высоко в небо, заря опоясала алыми лентами, и они были похожи на колонны какого-то воздушного замка.
Но не это поразило Машу, когда, собравшись на работу, она вышла на крыльцо. Всей грудью вбирая в себя свежий холодный воздух, она посмотрела по сторонам и, увидев горы, вдруг замерла, широко открыв свои большие изумленные глаза.
Раньше впечатлительную Машу всегда так трогала природа, но после гибели Павла она стала совсем другой. В ней словно что-то замерло. Даже после родов, охваченная любовью к ребенку, Маша как будто все еще находилась в полусне.
И вот сейчас неожиданно с глаз точно спала пелена. И глядя на эти огромные горы с трепетно розовеющими вершинами, с трех сторон обступавшие Отрадное и так очаровавшие ее своим сиянием, Маша подумала о том, что окружающая природа по-прежнему была все такой же, как и при Павле, и на душе стало и радостно и больно.
Спускаясь по ступенькам, пронзительно потрескивающим от мороза, Маша увидела выходившую из коровника Катерину.
– Мареюшка, обожди! – крикнула Катерина и заспешила к ней навстречу, держа в слегка отставленной в сторону руке тяжелую дойницу.
Невестка остановилась перед Машей, обдавая ее приятным, смешанным запахом парного молока и сена, и, кивнув на сверток, который та прижимала к груди, спросила:
– Ты уж подарки несешь?
– Подарки, – ответила Маша. – Кисеты, пару теплого белья да шерстяной свитер.
– Постой тут, я сейчас, – сказал Катерина и гулко застучала по ступенькам подошвами солдатских ботинок.
Через минуту она выбежала из сеней, волоча за собой большой, чем-то набитый мешок.
– Смотри только батюшке ни-ни, – шепотком зачастила Катерина. – Тут Костенькин полушубок. Тот, что перед войной купили... И надевал-то всего раза два, на праздники.
Маша посмотрела на невестку удивленными глазами.
– Только бы вернулся, Мареюшка. Тогда новый наживем! – Катерина вздохнула, и разрумянившееся лицо ее покрылось паутиной мелких морщинок. – Я помогу тебе, донести до конторы, а с Колечкой пока Алешка побудет.
– Ну, что ты! Совсем и не тяжело, – сказала Маша, поднимая с земли мешок.
Сотрудницы бухгалтерии встретили Машу шумными возгласами:
– О наступлений наших под Сталинградом слышала?
– Девушки, да у Машеньки целый мешок подарков!
– Покажи скорее, что принесла.
Бесцеремонно расталкивая всех, к Маше подошла Валентина Семенова.
– Представься нынче всю ночь не спала. То плакать начну, то смеяться, – закричала подруга и чмокнула смущенную, улыбающуюся Машу в губы.
* * *
Маша уже совсем поправилась. Быстрая утомляемость, легкие головокружения, которые она испытывала в первое время после болезни, вскоре исчезли, и Маша чувствовала, как с каждым днем к ней все больше и больше возвращаются силы.
И завтракала и обедала она теперь хорошо, расхваливая Катерину за ее умение вкусно готовить. Во всем находила она что-нибудь привлекательное, новое: и в сверкании снежных нетронутых сугробов, и в пронзительно щемящем голубоватом пятнышке на небе, вдруг появившемся между рыхлыми серыми тучами, и в улыбке Коленьки, с ее помощью сделавшего по комнате первые четыре шага и очень довольного этим.
Давно никто не видел Машу такой жизнерадостной, такой непоседливой. А ей все чего-то хотелось исключительного, какой-то живой, большой работы, которой она могла бы по-настоящему увлечься и отдавать все свои молодые силы.
Возвращаясь домой из конторы, она подолгу нянчилась с мальчиком, помотала Катерине по дому.
В этот вечер после обеда Маша мыла полы, а потом, закончив уборку, отдыхала. Перед ужином к ней зашла Катерина.
– Садись, Катюша, – предложила Маша. – Читаю вот роман «Сестра Керри». О бедной американской девушке, о ее мытарствах. До чего же трогательно написано... ты представить себе не можешь!
– Хорошо тебе, Мареюшка! А я вот... Получу когда от мужа письмо и целый день мусолю его, – Катерина вздохнула, морща в горькой усмешке тонкие губы. – Рано пришлось в детстве школу бросить.
– А ты знаешь, Катюша, – заговорила Маша, порывисто вставая, – я тебе помогу учиться. Хочешь? Это не так уж трудно...
– Выдумываешь! Легко ли мне теперь... Годы-то не те, – перебивая невестку, сказала Катерина, расправляя на коленях пестрый фартук. – Как-то Егор меня уговаривал, да я отругала его тогда... чтобы не приставал!
Остановившись около Катерины, Маша ласково заглянула ей в лицо:
– А ты не бойся, не бойся, говорю тебе! Если будем заниматься, ну скажем, через день, то к маю ты и писать и читать хорошо научишься. Правду говорю!
– Возилась у печки с горшками и нужды не было в грамоте, – вздохнув, проговорила Катерина. – А на бакене стала с батюшкой работать заместо Кости... Приезжает старшина. А я одна дежурю. «Покажи, говорит, дневник. Что ты там о дежурстве записала?» А я глазами только моргаю. Совестно свои закорючки показывать. Или при закрытии навигации. Приказ привез старшина. Благодарственное слово про нас с батюшкой прописано, и подпись надо поставить. Батюшка хоть и не шибко письменность одолел, а все же расписался быстро, а я царапала, царапала...
Катерина снова вздохнула и тоже встала.
– Пожалуй, и ужинать пора собирать... Заговорились мы тут с тобой.
– Завтра, Катюша, – сказала Маша, – завтра и начнем. Возьму в библиотеке учебники для взрослых и заниматься будем.
– Разве и в самом деле попытать? – нерешительно спросила невестка и шепотом добавила: – Ты, Мареюшка, нашим-то ни слова. Мы с тобой потихоньку... а то еще просмеют!
* * *
Когда в субботу Маша шла с работы домой, было уже совсем темно.
Морозило, а с Волги задувал острый, колючий ветришко.
Маша спрятала в муфту руки и уткнулась подбородком в пушистый воротник.
У ворот ее поджидала Катерина.
– Мареюшка, касатка! Письмо ведь пришло. От Костеньки моего!
– Да что ты, Катюша? Вот как хорошо! – обрадовалась Маша. – Я тебе говорила... О чем же пишет Константин Дмитриевич?
– Наградили, Машенька, моего муженька! Идем скорее, почитай мне сама. А то Егорка, баловник, из школы все не воротился, и батюшка тоже пропал... Алешка – и тот где-то бегает. И ты как на грех что-то припоздала. Извелась вся, поделиться радостью не с кем!
– У нас комсомольское собрание было. Вот и задержалась на полчасика, – говорила Маша, едва поспевая за невесткой. – А как Коленька, Катюша?
– Все забавлялась с ним. Возьмет в ручонки мячик, кинет и смеется. Угомонился только что, – невестка протянула Маше угольником сложенное письмо. Заметив приставшую к нему хлебную крошку, Катерина осторожно отколупнула ее ногтем, улыбнулась. – Читай скорее.
Маше пришлось читать письмо тут же, даже не раздевшись, потому что взволнованная Катерина не хотела больше ждать ни одной минуты.
– «Как вы живете, все ли живы, здоровы? – читала Маша. – Я не писал долго по той самой причине, что не мог. А причина такая: у нас, у саперов, всю осень по горло работы: мы обеспечиваем бесперебойную переправу наших войск через Волгу. А какие сейчас дела под Сталинградом, вы знаете из газет и по радио. Прошу не серчать на меня за долгое молчание. Напишите про свои новости. Как растет сынок Павла, пропишите про учение Егора и что поделывает Алеша. Батюшку прошу почаще поглядывать на сруб дома. Чтобы ничего там не растаскали. Еще сообщаю, за исправное выполнение заданий командования я награжден медалью «За боевые заслуги». Кланяйтесь от меня всем знакомым и Евсеичу. Остаюсь ваш рядовой Константин Фомичев».
Маша положила на стол исписанный крупным почерком листик из ученической тетрадки.
Катерина провела ладонью по письму. Мелкие сухие морщинки, рано избороздившие ее лицо, разгладились, и она вдруг вся как-то расцвела, помолодела.
– Так бы, кажись, до утра сидела и слушала! – сказала она. – Пробеги-ка еще, Мареюшка, уж больно ты складно читаешь.
В это время в избу вбежал запыхавшийся краснощекий Егор в потрепанном, порыжелом пиджаке нараспашку и сбитой на левое ухо шапке. С шумом захлопнув дверь, он бросил на лавку стопку учебников и тетрадей, опоясанных полосатым шарфом, и, сверкая темными бусинами озорных глаз, возбужденно закричал:
– А я чего скажу сейчас вам! К апрелю во всех домах радио заговорит! А на промысел оборудование для новой электростанции присылают!
– Слышали, слышали... Опоздал со своей новостью! – улыбнулась Маша.
Катерина, оглядев с головы до ног сына, покачала головой:
– И в кого ты растешь непутевым? Ну, разве можно так ходить, долго ли простыть?
– Что ты, мам, мне жарко! – усмехнулся Егор, нетерпеливо сбрасывая с себя пиджак.
– Обожди раздеваться. Иди Алешку-пострела разыщи, – напуская на себя строгость, сказала Катерина. – Попрошу ужо Мареюшку написать отцу, как от рук оба отбиваетесь, тогда узнаете.
– А разве от папы письмо получили?
– Иди, тебе говорят!
– Нет, правда получили?
– Потом узнаешь! – Катерина взмахнула рукой и, не сдержавшись, засмеялась: – Жив наш отец, жив!
Егор, подхватив пиджак, бросился к двери. Проводив взглядом сына, Катерина вздохнула:
– Давно ли на руках пестовала?.. А теперь вон какие стали! Егор семилетку по весне закончит. И уж о работе на промысле поговаривает, а пострел Алешка будущей осенью в школу пойдет... Так и ты, Мареюшка, не заметишь, как большим станет Колечка!
Маша прикрыла рукой лежавшую на столе руку Катерины и, запинаясь, сказала:
– Хочу тебя попросить... Я так тебе обязана, Катюша! Тебе, конечно, надоело возиться с Коленькой...
– Тоже мне придумала, – перебивая Машу, покачала головой невестка. – Да я, Мареюшка, если хочешь знать, страсть как люблю нянчиться с маленькими! Меняю Колечке рубашечку или купаю когда, так и кажется, будто со своим вожусь.
– Посиди уж завтра с Коленькой, – снова заговорила Маша. – Завтра все наши комсомольцы на промысел пойдут. На днях новую скважину должны начать бурить. А рабочие-вышкомонтажники не успеют ее к сроку сдать, если им не помочь... Не могу же я дома сидеть в такой день, Катюша!
Катерина подняла на Машу глаза.
– Иди, ну разве мне жалко? Тяжелого смотри остерегайся поднимать. И от простуды берегись. А то долго ли опять свалиться. – Помолчав, она ворчливо добавила: – Тоже, начальники. Дите у женщины малое, а им иди, и знать ничего не хотят!
– Меня никто и не заставляет. Наоборот даже, – мягко сказала Маша. – Но пойми, Катюша... У меня ребенок, у Вали Семеновой мать болеет, а у третьей еще какая-нибудь причина найдется. Не поможем мы завтра монтажникам, тогда и буровая бригада не начнет вовремя бурение. А нефти сейчас требуется много. – Она поправила волосы и улыбнулась. – Ну зачем это я все говорю? Ты и сама все понимаешь!.. А Коленьку утром я покормлю грудью, а потом ты кашки манной сваришь. Ладно, Катюша?
– Ладно, ладно. Это ведь я так, – невестка махнула рукой. – Раздевайся... Вон и сорванцы наши, кажись, с дедушкой идут. Обедать сейчас будем.







