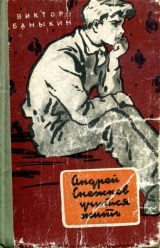
Текст книги "Андрей Снежков учится жить"
Автор книги: Виктор Баныкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Домой Маша вернулась уставшей, ей хотелось спать. Она умылась, но прежде чем лечь на кровать, взглянула в зеркало. Она очень подурнела. Лицо вытянулось, щеки опали, и на них уже не появлялись ямочки, даже когда она улыбалась. На лбу и висках проступали землистые пятна. Зато большие черные глаза с золотистыми искорками стали еще приметнее.
«Катя сказала, что перед родами со всеми так бывает, а потом пройдет...» – утешила себя Маша, укладываясь спать.
По крыше шумел, все усиливаясь, дождь. Было приятно лежать в мягкой чистой постели, и волнение постепенно улеглось.
«Получил Павлуша мое письмо или нет? – рассуждала Маша. – Пожалуй, нет. Девять дней прошло, как я послала ответ. А он-то, должно быть, с таким нетерпением ждет!»
Она улыбнулась. Отяжелевшие веки закрыли глаза, и ей показалось, что она снова плывет в лодке по зыбким волнам, которые так укачивают, что хочется спать...
...В контору Маша пришла ровно в девять. Она торопилась, чтобы не опоздать, и запыхалась. Лицо у нее горело, над верхней губой и на подбородке проступили капельки пота.
Маша украдкой взглянула в угол и увидела склонившуюся над бумагами лысину. Бухгалтер поднял голову и кашлянул в кулак. Потом снял очки и, тут же опять оседлав ими нос, встал из-за стола.
– Мария Григорьевна, – сказал он, обращаясь к Маше, и как-то неестественно сжал сухие костлявые руки.
«Неужели замечание сделает? – пронеслось у нее в голове. – И почему «Григорьевна»? Он всегда меня только по имени звал».
И так ненавистен был сейчас Маше этот человек, что она не попыталась скрывать своего чувства к нему, когда их взгляды встретились.
– Я должен выразить вам, Мария Григорьевна, – продолжал бухгалтер, – свое крайнее... – он остановился, подыскивая нужное слово, и пожевал губами, – свое глубокое соболезнование в постигшем вас горе.
– Не понимаю вас, Борис Львович, – в недоумении пожала плечами Маша.
В комнате вдруг наступила напряженная тишина, и мерное постукивание ходиков, обычно неслышное, теперь стало угрожающе громким.
– Разве вы не слышали последних известий по радио? – растерянно спросил бухгалтер и, не дождавшись ответа, повернулся к окну.
Дрожащей рукой он долго не мог попасть в карман, потом вытащил из него помятый платок и поднес к лицу.
– Голубушка, – прошептал он.
В глазах у Маши помутился свет, она схватилась рукой за спинку стула и мешковато опустилась на сиденье.
* * *
Под утро Константин разбудил жену.
– Ну, ты и спишь, – вполголоса сказал он, ощущая неприятную сухость во рту. – Мне сейчас такое приснилось... будто наш дом сожгли.
Моргая сонными глазами, Катерина посмотрела в измятое и бледное лицо мужа. Впервые за всю их совместную жизнь Константин показался ей некрасивым и чужим.
– Чего ты уставилась на меня? – спросил Константин. – Ох, я и напугался. Строил, думаю, строил, а немцы взяли сожгли.
– Какие немцы?
– Будто фашист в Отрадное пришел. Стою будто я на берегу, а из деревни баба бежит. «Дом твой, – кричит, – немцы подожгли. Они всю деревню хотят спалить!»
– С ума ты спятил! – сказала Катерина.
Константин лег на спину и, закинув за голову руки, уставился в потолок. Через час Катерина встала и ушла доить корову, а он все еще беспокойно ворочался, кутался в одеяло. Наконец он задремал и проспал до самого завтрака.
Ел Константин мало и через силу. Как только Катерина стала убирать со стола посуду, Константин сказал:
– Пойду посмотрю, что там плотники делают.
Когда он пришел на постройку, плотников возле дома не было.
– Бездельники, – сердито проворчал он. – Велел вчера крышу крыть, а они и одной доски не прибили.
Константин поднялся по ступенькам в дом. На усыпанном стружками полу сидели плотники. Перед стариками стояла бутылка с водкой и глиняная чаплашка.
– Жизнь, она штука серьезная, – философствовал беззубый Маркелыч, не замечая остановившегося на пороге Константина. – На вид так себе, – неприметный был человек, а, гляди, силу какую жизнь в него вдохнула. И нет его больше среди нас, а славу о себе вечную оставил... Наливай, Федосеич. Воздадим должную славу герою и иже с ним. Как это царь Давид сказал?
Маркелыч потрогал опухший багровый нос и, воздев вверх руку, торжественно начал:
– Славлю тебя всем сердцем моим...
Константин кашлянул. Маркелыч замолчал и повернул к двери голову. Другой плотник, старик Петров, протянул было руку за бутылкой, чтобы убрать ее, но не тронул и только вздохнул.
– Что же это вы, старики? – укоризненно спросил Константин. – Опять пьете?
Маркелыч поднял наполненную водкой чаплашку и протянул ее Константину.
– Помяни брата Павла, царствие ему небесное, – сказал старик, отводя в сторону тоскующий взгляд.
– Брата? – испуганно вскрикнул Константин, отступая назад. – Павла... убили?
Но ему никто не ответил.
– От Сергея тоже второй месяц писем нет, – вдруг глухо и подавленно сказал Маркелыч и сжал в кулаке бороду.
Константин непонимающе посмотрел на плотников и, подняв руку, стукнул чаплашкой о подоконник. Он старательно вытер о штанину облитые водкой пальцы и направился к выходу.
На крыльце Константин постоял, потеребил жидкую бороду.
– Вот тебе какая штука, – растерянно пробормотал он и стал медленно спускаться вниз.
Кончилась околица, а Константин все продолжал идти дальше по укатанной дороге, тянувшейся вдоль правого склона горы, снизу заросшего густым кустарником.
И чем больше он думал о брате, о войне, которая напоминала ему о себе все чаще И чаще, тем сильнее его начинало охватывать какое-то непонятное беспокойство. В голове у Константина беспорядочно возникали разные мысли, воспоминания. Он то принимался думать о наступающей осени и недостроенном еще доме, то почему-то вспоминал сестру бурового мастера Хохлова, которую он привез на лодке из Морквашей.
Константин так был занят своими размышлениями, что совсем не заметил, как он далеко ушел от деревни.
Навстречу приближалась лошадь, запряженная в двухколесную бричку. Она шла шагом, мерно помахивая головой, а сидевший в бричке мужик в пропыленных сапогах совсем, видимо, не собирался ее торопить.
Ленивое постукивание лошадиных копыт о землю и тарахтение ошинованных колес вывели Константина из задумчивости, и он поднял голову. В бричке сидел секретарь партийной организации колхоза Василий Зиновьевич.
«Вот еще... повстречался», – сказал про себя Константин и хотел было свернуть с дороги в кустарник, но Василий Зиновьевич его окликнул. Константин поморщился и остановился.
Лет десять назад Василий Зиновьевич работал старшиной бакенщиков. Однажды в дождливую и ветреную сентябрьскую ночь на посту Константина потух один фонарь, и он этого не заметил.
Строгий и требовательный к себе и людям, Василий Зиновьевич в ту ночь проверял бакены и обнаружил погасший фонарь. Он зажег его, приплыл на пост и спокойно сказал Константину:
– Я за тебя фонари зажигать больше не буду. Ты это учти.
А через несколько дней приказом по участку пути Константину был объявлен выговор. С тех пор Константин невзлюбил Василия Зиновьевича и всегда сторонился его.
Лошадь встала. Секретарь вылез из брички и пожал Константину руку.
– Куда это ты? – спросил Василий Зиновьевич, доставая из кармана брюк кисет с табаком.
– Да так... – замялся Константин и, не договорив, махнул рукой.
– Понимаю, – сказал Василий Зиновьевич и принялся старательно скручивать цигарку.
Наступившее молчание было неприятно Константину, ему показалось, что секретарь, занявшись папироской, о нем совсем забыл. Но вот Василий Зиновьевич закурил и, внимательно рассматривая покрывшийся пеплом кончик цигарки, неторопливо и глуховато сказал:
– Я нынче все утро только об этом и думаю. В поле поехал, а сам все об этом.
Он помолчал, плотно сжав тонкие губы и сощурив глаза.
– Да-а... Закрою глаза и вижу: обгоревший танк накренился набок, вокруг немцы валяются, а немного подальше еще четыре подбитые машины с фашистской свастикой.
Секретарь опять помолчал.
– Завхоз наш встретил меня в поле, говорит: «Пашка-то Фомичев, а? Кто бы мог подумать?» А я не удивляюсь. Советская власть на ноги поставила. Она парня вскормила.
Василий Зиновьевич бросил на землю окурок и, пристально посмотрев в лицо Константину, сел в бричку.
– Присаживайся, подвезу до дому...
– Спасибо, я пешком пройдусь, – сказал Константин и свернул на узкую тропинку, скрывавшуюся в кустарнике.
Он шел, сам не зная куда. Он не переставал думать о том, что смерть Павла это не какой-нибудь несчастный случай. Нет! Брат погиб на войне, он сражался с врагом, который хочет хозяйничать всюду на русской земле и даже вот здесь, на Волге!
«За народ головушку сложил. А я вот тут... дом себе строю», – Константин неожиданно почувствовал, как у него при этой мысли похолодели плечи и где-то глубоко внутри появилась тупая, сосущая боль.
Он остановился и, прижимая к левому боку ладонь, устало огляделся вокруг.
Начавшийся с раннего утра ветер срывал с деревьев листву и то кидал ее охапками на землю, то подбрасывал в синеющую вышину и багряно-золотыми тучами нес над лесом, над Волгой...
Константин стоял на тропинке, усыпанной светлыми листьями. Теперь даже в глухую темную ночь не заплутаешься в сентябрьском лесу.
А ветер все шумел и шумел, и листья все падали и падали, застилая землю причудливыми коврами.
И этот тревожно-шумливый листопад усиливал тоску и смятение, все больше и больше охватывающие душу Константина.
Константин тронулся дальше, начиная осознавать, что теперь, после смерти Павла, в его собственной жизни должны произойти какие-то перемены, но он никак не мог решить: что же ему надо делать?
Константин никогда не замечал красоты Жигулей, привыкнув к ним с детства, но почему-то сейчас, когда он вышел из сумрачных дубовых зарослей, подступающих к Молодецкому кургану с юга, и его взору вдруг открылись с головокружительной высоты необозримые пространства, он почувствовал, как сладостно защемило сердце.
Перед ним лежала Волга – тихая и светлая, с многочисленными в этом месте протоками – «воложками», омывавшими оранжево-зеленые острова и песчаные мели, а вдали до самого горизонта тянулись поля, перелески. Кое-где по берегу расположились деревни и села с еле приметными очертаниями домиков.
Серединой Волги шел буксир с караваном барж; буксир и баржи были похожи на детские игрушки, сделанные искусным мастером.
Веселы и приветливы были берега. А как нежна была бирюзовая даль реки, сливавшаяся на горизонте с чистым и высоким небом!
На самом ближнем острове, прямо перед Молодецким курганом, лежало полукругом озеро, точно оброненный кем-то назубренный серп. А на берегу стояли два багряных сверху донизу клена. В лучах заходящего солнца они казались огромным костром.
Взгляд Константина остановился на этих кленах. И ему вдруг показалось, что он видит, как ярким пламенем горит танк.
У Константина часто забилось сердце. Он шагнул в сторону обрыва и, вытирая со лба холодную испарину, сел на каменистый выступ. Какая-то неясная еще мысль настойчиво и властно начинала заполнять все его существо.
XIVВ этот вечер Дмитрий Потапыч не готовил ужина, он собирался в деревню и ждал на смену себе Константина. «Связался с этим домом и делать больше ничего не хочет», – думал с раздражением старик.
В сумерках из Отрадного приплыл Егор. Он кое-как замотал за уродливую корягу цепь от лодки и в-три прыжка одолел лесенку.
– Дедушка, – закричал он поднявшемуся со скамьи старику. – Отца тут разве нет?
– Сам видишь – нет, значит, нет, – сердито сказал старик.
Егор вытер рукавом рубахи лицо, взглянул на деда и вдруг в глазах его сверкнули слезы:
– Дедушка, дядя Паша...
Подросток не договорил и отвернулся.
– Что случилось, Егор? – старик больно взял внука за дергающееся плечо и так повернул его к себе, что у того назад откинулась голова.
...Дмитрий Потапыч очнулся поздним вечером. Он лежал вниз лицом возле домика и в ногах у него валялась сломанная вешка.
Когда уехал Егор и что он сам делал все это время, старик не помнил. Он сел и почувствовал боль в плече.
«Что со мной было?» – подумал он и разжал крепко стиснутую в кулак руку. На ладони лежали смятые стебельки травы, вырванные из земли с корнем.
– Травка, – сказал старик и бросил траву в сторону. Она была теперь мертвая и напоминала ему о смерти сына.
Старику захотелось встать. Но стоило ему подняться, как закружилась голова, и он почувствовал во всем теле такую слабость, словно ему пришлось прохворать несколько месяцев. Осторожно, держась за дверь, он вошел в домик и лег на кровать. Он все старался представить себе Павла, но перед глазами медленно проплывали совсем незнакомые лица. Особенно преследовал старика какой-то мужик с ехидно прищуренными глазами.
Дмитрию Потапычу подумалось, что ему близко знакомо это отталкивающее лицо, и он принялся вспоминать, где его видел. Но усилия его были напрасны... Наконец он устал и незаметно для себя уснул.
Было уже утро, когда он проснулся. Он вспомнил, что на бакенах еще не погашены фонари, проворно встали увидел, что рубаха у него разорвана от воротника до низа. И он ясно вспомнил все, что с ним было вечером, в часы безутешной скорби.
Вчера он не знал, что с собой делать, сейчас у него было тоже горе, оно будет и завтра, оно будет всегда, но оно уже больше не сможет его одолеть. Измученная душа Дмитрия Потапыча продолжала еще тосковать, но тоска эта уже начинала уступать место рассудку и мужеству.
Он спустился к берегу и посмотрел из-под руки на Волгу. Фонари на бакенах не горели.
«Кто их потушил? – подумал старик. – Константин? А где же он сейчас?.. Может, Евсеич?»
Он еще раз внимательно оглядел реку, но она в этот утренний час была пустынна и безмолвна, хотя и светило солнце.
Старик вернулся к домику и сел на свою любимую скамейку.
«Как там Мареюшка теперь? – вспомнил он о снохе. – Каково-то ей горемычной... Такая молоденькая – и вдова».
В дубняке, скрывающем крутую тропинку, которая вела на Молодецкий курган, послышалось шуршание листьев и приглушенное падение осыпавшихся камней. Дмитрий Потапыч оглянулся.
Показался Константин. Тяжелым, медленным шагом он направился к старику, сдернул с головы фуражку и опустился рядом с отцом на скамейку.
Старик посмотрел на широкую спину сына с прицепившимися к черной рубашке хвойными иголками и сказал
– Где это ты пропадал?
Константин кашлянул и ничего не ответил.
Дмитрий Потапыч достал из кармана трубку, но, вспомнив, что в кисете нет табаку, спрятал ее.
– Ты, батюшка, не гневайся на меня... Не могу я тут больше. Душа покой потеряла, – вдруг осипшим голосом сказал Константин и поднялся. – Хочу вместо Павла туда проситься...
Отец молча обнял сына и поцеловал.
С чувством какой-то необычной легкости спускался Константин по лесенке вниз. На последней ступеньке он задержался, поднял голову.
– Батюшка, – крикнул он, – у сруба дверь и окна досками забейте. Достроим, когда вернусь.
Дмитрий Потапыч стоял у обрыва и пристально смотрел на каменную дорогу, тянувшуюся вдоль самого берега.
Сын скрылся за оголенным выступом скалы, а он все еще смотрел на дорогу, часто моргал веками, и глаза его наполнялись слезами, и весь мир для него был как в тумане.
* * *
Врач боялся, как бы у Маши не начались преждевременные роды, но все обошлось по-хорошему, и на четвертый день ей стало значительно лучше.
Маша все еще ничего не ела. Когда вошла Катерина и поставила на стол тарелку куриного бульона и другую с ломтиком белого хлеба, пахнущего хмелем, Маша ни к чему не притронулась.
«Как нелепо, – подумала она, – Павлуши нет, а они все суетятся и беспокоятся... Ему вот ничего не надо. Его нет и больше не будет. Не будет!»
Маше вдруг показалось невероятным, немыслимым, что от любимого ею человека ничего, кроме воспоминаний, не осталось в жизни. И при этой мысли сжалось сердце и пересохли губы. Гитара на стене, спинка кровати и все другие предметы в комнате стали двоиться, казались нечеткими и смутными. Маша крепко зажмурила глаза, и по щекам потекли теплые струйки.
Она не вытерла их и так, не шевелясь, лежала долго, часто облизывая кончиком языка губы и, чтобы ни о чем не думать, повторяла какие-то нелепые, бессмысленные слова, возникавшие в больном воображении, пока сознание не поборол облегчающий, успокоительный сон.
Когда Маша открыла глаза, она увидела Авдея Никанорыча Хохлова.
Он вошел в комнату застенчиво и на предложенную Катериной табуретку сел осторожно, сначала потрогав ее рукой, будто боялся, что она под ним сломается.
Возле ног Хохлов поставил плетенную из соломы сумку, кашлянул в кулак и расправил большим пальцем усы.
Прошло минуты две, а мастер и не собирался говорить. Маше было невыносимо это молчание, и она безучастно и недружелюбно спросила:
– Какие новости на промысле, Авдей Никанорыч?
Хохлов поднял голову и, виновато улыбаясь, переспросил:
– Вы о чем, простите, не расслышал?.. Работаем, как же! Взяли новое обязательство – как только узнали о гибели...
Хохлов запнулся и покраснел. Не зная, как скрыть свою неловкость, он нагнулся к сумке и бережно вынул из нее макет буровой вышки.
– Пожалуйста, примите... Вроде как на память, – сказал он и снова покраснел.
У маленькой нефтяной вышки из гладко выструганных прутиков и палочек все было как у настоящей, большой.
Даже маршевые лестницы не поленился сделать мастер. Огибая вышку, они поднимались к самой вершине с площадкой, напоминающей скворечник. Над входом в вышку висела красная дощечка с надписью:
«Буровая № 5 имен Героя Советского Союза П. Д. Фомичева».
Маленькая вышка была чудесной работы, большую любовь и кропотливый труд вложил в нее бывалый мастер, и Машу глубоко тронул этот подарок. Порывисто приподнявшись с постели, она взволнованно сказала:
– Как вы добры ко мне. Я никогда не забуду... Никогда!
Мастер смутился и встал.
– Что вы... Вот уж право... – пробормотал он и стал искать фуражку.
Маша посмотрела ему вслед и подумала: «А он добрый, хороший и Павлушу, видимо, очень любил».
Неожиданно в раскрытое окно дунуло холодным ветром с пылью, и кто-то с яростью захлопнул створки. Испуганно вскрикнув, Маша соскочила с кровати.
На улице творилось что-то невообразимое..
Днем хмурилось небо, было душно, и хотя восток заволокли черные тучи, изредка рассекаемые змейками молний, а над дальним лесом на левом берегу Волги несколько раз нависал дождь, – все еще думалось, что гроза пройдет стороной.
Но к вечеру с востока потянуло холодом, подул ветер и черная туча стала быстро расти и приближаться.
Маша держалась рукой за косяк окна и широко раскрытыми глазами смотрела на улицу.
Впереди тучи неслись косматые седые вихри, они поднимали с земли столбы пыли, срывали с крыш сараев и коровников солому и крутили, подбрасывали ее вверх.
Уже где-то близко загромыхали сердитые раскаты грома, а на западе ярко светило летнее солнце, и горизонт был безмятежно голубой, без единого облачка, и от этого почему-то еще страшнее казалась приближающаяся гроза и еще тревожнее билось сердце.
А одинокая тонкая сосенка на Могутовой горе, терзаемая ветром, и белые голуби, в смятении носившиеся по черному, как ночь, грозовому небу, долго еще будут возникать перед Машиными глазами и бередить душу неясной, смутной тоской о том, что когда-то было и безвозвратно ушло в прошлое.
И Маша поняла, что прежнее все кончено и никогда, никогда больше не повторится, а впереди у нее трудная, тяжелая жизнь, но она верила, что придет время и снова наступит счастье и радость на русской земле.
«Павлуша! Как я хочу во всем быть такой, как ты! Я буду много-много работать и растить ребенка, твоего ребенка, – думала Маша. – А как я буду его любить!»
Ветер смолк, и на какую-то минуту все вокруг замерло в томительном ожидании. Маше показалось, что эта минута длится целую вечность. И вдруг пошел дождь – крупный и частый. Маша открыла окно, и в комнату ворвался бодрый, освежающий воздух, лицо и грудь обдало приятным холодком.
Она обернулась и увидела Алешу. Мальчик стоял посреди комнаты.
– А я думал, ты спишь, – сказал он и застенчиво улыбнулся.
Маша надела халат и усадила Алешу рядом с собой на кровать.
– Что же ты ко мне не приходил? – спросила она.
– Мать не велела. «Она, – говорит, – родить собралась...» Где же у тебя маленький?
– Его еще нет, Алешенька, но он скоро будет.
Мальчик насупил брови и вскинул на Машу строгие глаза:
– Ты смотри, только братишку роди, я девчонок не люблю. Ладно? – Он помолчал и добавил: – Мы нынче с тобой одни остались. Мать с Егором на бакен уехали деда сменить. Его на промысел звали, речь говорить... А мать совсем теперь вместо отца работать там будет.
Дождь незаметно смолк. По улице неслись бурные потоки грязной воды, и на гребнях ее возникали и лопались пузыри. Ребятишки в засученных до колен штанах уже смело перебегали ручьи и весело смеялись.
В горах курился розовый туман. Где-то далеко-далеко, вероятно еще за околицей, шло стадо, а хлопки пастушьего кнута, уже слышались в деревне.
– Пойдем корову встречать, – сказала Маша и встала с кровати.
– Я один встречу, а ты дойницу готовь, – решил мальчик.
Маша цедила сквозь ситечко парное молоко, когда стуча о пол сапогами, на кухню вошел Дмитрий Потапыч. Он шел неестественно прямо, аккуратно печатал каждый шаг, и лицо у него было строгое и бледное.
– Папаша, что с вами? – испуганно спросила Маша.
Старик хотел что-то сказать, но только махнул рукой и пошел к себе за печку.
Дмитрию Потапычу очень хотелось сказать снохе, что он любит ее так же, как любил Павла, сказать ей какие-то сердечные, ласковые слова, но он не нашел нужных слов. И он боялся еще, как бы Маша не подумала, что он говорит все это просто так, чтобы ее утешить.







