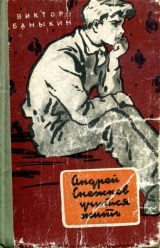
Текст книги "Андрей Снежков учится жить"
Автор книги: Виктор Баныкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
На солнечной стороне, под окнами, кое-где появилась первая травка, но ей было еще холодно, особенно ранним утром, и она от этого краснела. Радуясь теплу, ребята сбрасывали пиджаки и выбегали на улицу по-летнему. На колхозном гумне резвились телята.
Вот-вот должна была вскрыться Волга. Лед пучило, ломало, и по реке разносился шум и треск, будто где-то рядом стреляли из пушки. По Волге уже не ходили: на почерневшей дороге в двух местах образовались трещины, и между разошедшимся льдом плескалась синяя вода.
В полночь Дмитрия Потапыча разбудил протяжный гул, волной прокатившийся по Отрадному.
«Тронулась, должно быть», – подумал он и, накинув на плечи шубняк, вышел на крыльцо.
Было темно и холодно. Буянистый ветер ломился в ворота, хлопал оторвавшимся где-то ставнем, рвал у Дмитрия Потапыча полы шубняка. А с реки доносился монотонный, неумолкающий шум, как будто там невидимые жернова-гиганты перемалывали лед в порошок.
– Тронулась, матушка, – сказал Дмитрий Потапыч и, зябко поеживаясь, вернулся в избу.
Ложась в кровать, он подумал: «Обсохнет земля, и дом надо Константину строить. К осени поделю сынов, а то тесно стало».
...В эту ночь Маша разбудила Павла и взволнованно зашептала ему на ухо:
– Павлуша, он у нас будет...
Павел никак не мог понять спросонья, о чем ему говорит жена, и спросил осипшим голосом:
– Кто приедет?
– И дуралей же ты какой, – засмеялась Маша и легонько ударила мужа по лбу. – Ребеночек у нас будет, понял теперь?
Павел сразу очнулся и, порывисто притянув к себе Машу, горячо поцеловал ее в губы.
Они уже больше не спали и до самого утра перешептывались.
Собираясь на работу, Павел сказал:
– Скоро, Машенька, и праздник. Для меня этот день...
Он натянул сапог, притопнул подошвой и разогнулся.
– Курсы на днях кончаю, а в мае... – Павел передохнул и взволнованно добавил: – В мае, Машенька, я встану за тормоз!
Трое суток на Волге шел сплошной лед. На суводях кружило мелкие грязные льдины, и на них не спеша, надвигались огромные, иногда необычайно белые глыбы. Они все подминали под себя и плыли дальше – вызывающе грозные, не признавая весны, которой пока не под силу было их сокрушить.
Как-то на одной из таких льдин проплыл большой черный ворон. Он не шевелился и нельзя было понять. – живой он или мертвый.
Наконец лед пошел реже, мельче, и все чаще стали появляться на Волге светлые полоски воды.
На шестой день с утра Дмитрий Потапыч с Константином поплыли на свой пост ставить береговые бакены. А еще через два дня под вечер по Волге прошел первый пароход. И был это всего только буксир, а на берег высыпало много народу; все смотрели на него внимательно и улыбались, а мальчишки махали руками и подкидывали в небо фуражки.
Маша тоже стояла на берегу и неотрывно смотрела на пароход, на клубы густого черного дыма, стелившегося по воде, и у нее было тревожно и радостно на душе, как будто она должна была сейчас куда-то далеко поехать и впереди ее ждала новая, неизведанная жизнь.
Наступил май – последний месяц весны. Первые дни стояли ветреные, на небе появлялись белые барашки облачков, и когда они вдруг ненадолго закрывали солнце, становилось свежо. За Отрадным в овраге еще лежал кое-где потемневший, грязный снег, но по склонам уже разрослась яркая зелень и лиловыми звездочками зацвели хохлатки.
У подножия гор в кустарнике надсадно кричали птицы. Пока не слышно было соловья, зато зяблик звонко и задорно распевал свою коротенькую песню. Он выкрикивал ее порывисто, торопливо и заканчивал всегда одной и той же звучной нотой.
Потом настало тепло. После нескольких дней настоящей летней жары леса начали нарядно одеваться зеленью. Особенно хороши были березки с душистыми клейкими листочками. Лопались и распускались тугие почки у клена и липы, в подлеске зацвела черемуха. И лишь осина, обвешанная сережками, похожими на какие-то нелепые подвески, имела непривлекательный вид.
Однажды после работы Маша уговорила Валентину Семенову пойти с ней в лес за цветами. Домой Маша принесла букет фиалок, желтой ветреницы и синей медуницы.
Цветы она поставила в голубую с белыми лилиями фарфоровую вазу, и в комнате стало как-то светлее и просторнее, она наполнилась благоухающим ароматом весны.
Павел, вернувшись с промысла, вошел в комнату и, быстро взглянув на стол, протянул к жене руки:
– Машенька!
И, обнимая жену, горячо прошептал ей на ухо:
– Хорошая ты моя!
В середине мая мальчишки начали купаться, и белые их тела, издали казавшиеся особенно нежными и хрупкими, целыми днями мельтешили на берегу Волги, и было шумно от визга, смеха и всплеска сверкающей на солнце воды.
Наконец были наняты плотники, и через проулок, на пустыре, начали рубить сруб дома для Константина. Константин часто появлялся в деревне и суетливо бегал по пустырю, горячился, кричал, отдавал разные распоряжения, и сразу было видно, что пользы от него здесь мало и в плотничьем деле он ничего не смыслит. Плотники терпеливо выслушивали его противоречивые указания и все делали по-своему.
По воскресеньям Павел с Машей садились в лодку и поднимались вверх по Волге к Дмитрию Потапычу на пост. Нередко с ними увязывались и Алеша с Егором.
Возле Яблонового оврага Павел реже опускал весла в воду и чутко прислушивался к доносившемуся с берега шуму бурильных станков. Он улыбался и, указывая на вышку, снизу обитую новым тесом и сразу бросающуюся в глаза своей слепящей желтизной, говорил жене:
– Это наша. На тысячу метров бурение производим.
Маша смотрела на вышку, на белые, пухлые облачка пара, расстилавшиеся по берегу, и радовалась за Павла и завидовала ему, счастливцу, нашедшему себе такую работу, которой можно было так горячо увлечься.
«А у меня скучное занятие, – думала она, – никак что-то не влюблюсь в расчетные ведомости».
– У нас мастер хороший человек, – продолжал Павел, взмахивая веслами. – С ним легко, он насквозь дело знает.
– Это ты про Хохлова? – спросила Маша.
– Про него, Авдея Никанорыча.
– Говорят, у Хохлова характер не в меру крутой. Требовательный уж очень.
– Требовательный? Это верно! – согласился Павел. – И к себе и к подчиненным. А как же иначе, Машенька? В нашем деле без дисциплины нельзя. Авдей Никанорыч это понимает. Он душой и сердцем за нефть болеет.
Дмитрий Потапыч встречал гостей радушно. Он всегда поджидал их на берегу – высокий, прямой, в коротком сером ватнике и синей рубахе до колен. Из-под глубоко надвинутого на лоб картуза старик смотрел на подплывающую лодку и приветливо кивал головой.
Павел последний раз ударял веслами о воду, и лодка врезалась носом в шуршащую гальку. Алеша выпрыгивал на дощатые мостки и подавал деду цепь.
Дмитрий Потапыч привязывал лодку к черной дуплистой коряге и спрашивал:
– Солнышко не разморило вас?
К обеду старик варил вкусную уху из свежей рыбы Павел привозил бутылку водки, и они с отцом выпивали. Случалось, с левого берега наведывался Евсеич, и тогда за обедом было весело и шумно.
Потом Павел с Машей отдыхали где-нибудь в тени под деревом или бродили по оврагу, купались и грелись на солнце. А когда спадала жара, они плыли обратно в Отрадное, загорелые, бодрые, в приподнятом настроении.
Выплывали на середину спокойной полноводной реки. Павел складывал весла, и быстрое течение подхватывало лодку. Кругом было так тихо, что Маше порой чудилось, будто она слышит, как вздыхает вышедшая из берегов Волга.
Она глядела на заросшие лесом Жигулевские горы с дикими голыми скалами, местами грозно нависшими над рекой, на затопленный левый берег с могучими осокорями, высоко устремившимися к прозрачному небу, и у нее навертывались на глаза слезы.
Поездки к старику развлекали впечатлительную Машу, она их полюбила, и не было воскресенья, чтобы они с Павлом не побывали у старика в гостях.
VIIIНа третьей неделе июня, в выходной, молодые тоже были в гостях у Дмитрия Потапыча. Но к полудню у Маши почему-то разболелась голова, и домой они собрались раньше, чем всегда.
В Отрадное Павел и Маша приплыли засветло. На берегу их поджидала Катерина с заплаканными, красными глазами, и едва Маша взглянула на невестку, как сразу испугалась, сердце заныло в предчувствии какой-то неминуемой беды.
Не успела еще Маша сойти с лодки, как Катерина кинулась к ней и во весь голос завопила:
– Ой, касатка, ты моя бедная да разнесчастная...
– Катюша, что случилось? – закричала Маша.
Побледневший, растерявшийся Павел остановился посреди лодки с кормовым веслом в руке и не знал, что ему делать: оставить ли весло тут или идти с ним на берег.
Недалеко от лодки по пояс в воде стоял посиневший мальчишка. Прижав к груди руки и вобрав в плечи тонкую шею, он смотрел на Павла.
– Дяденька, война началась! – вдруг весело закричал мальчишка и бултыхнулся вниз головой в воду.
А через восемь дней Павла провожали в село Моркваши на пристань, где раз в сутки останавливался пассажирский пароход местной линии. День проводов Павла прошел для Маши быстро, словно в полусне. Она не плакала и внешне была спокойна, заботливо собирала мужа в дорогу и ни о чем не забыла, что следовало положить ему в вещевой мешок. И ей все думалось, что делает это она по какому-то недоразумению и Павел никуда не уезжает, а если и уедет, то ненадолго и скоро вернется, и все вещи, которые она собирала для него, придется раскладывать по своим местам.
Павел был рассеян и забывал, что ему надо делать. Он все ходил за Машей из кухни в комнату и обратно и смотрел на нее грустными глазами.
В Морквашах у пристани собралось много молодых мужиков и парней, с тяжелыми мешками, женщин, девушек и стариков, и все они громко разговаривали, суетились, бегали по берегу, распрягали лошадей. Возле телеги с поднятыми оглоблями однотонно вопила вполголоса баба, закрыв руками лицо, а у пристани, рядом с мостками, сидел подвыпивший конопатый мужик в новой суконной гимнастерке и начищенных сапогах и нескладно горланил:
Остался я в жизни мира,
Остался круглой сиротой...
Семейные давали женам советы, утешали их, холостые шутили с девушками, старики, приехавшие провожать сыновей, толковали между собой о разных хозяйственных делах, но никто не упоминал о войне, будто ее вовсе и не было.
– Тяжело, Дуся, сначала будет. Но духом не падай, – говорил жене молодой загорелый колхозник с черными густыми усиками. – Главное, старайся и машину береги, У меня трактор всегда работал как часы.
В другом месте смущенный мужик гладил по плечу всхлипывающую женщину и уговаривал:
– Ну, перестань... Эх ты, дурочкина дочь! Слышишь – побью фашистов и приеду. Куда же я денусь?
Говорил он не спеша и рассудительно, словно собирался в луга косить траву.
После митинга к Дмитрию Потапычу подошел знакомый старик из Валов.
– Сыночка провожаешь, Дмитрий Потапыч? – спросил он, протягивая Фомичеву шершавую руку с крепкими узловатыми пальцами. – Которого это ты?
– Младшего, Павла. Константина не трогают, он на особой статье, как бакенщик.
– А я двоих сразу. Погодки они у меня, – старик достал табакерку и, прежде чем открыть ее, постучал ногтем по крышке. – Да-а, Потапыч, дела... Второй раз на нашем с тобой веку Россия с немцем схлестывается... Побьем, как есть, зачем только зря лезет, проклятый!
Свечерело, а парохода все не было. Потом объявили, что он опаздывает, придет ночью, и Дмитрий Потапыч с Катериной собрались домой. Павел советовал и Маше пойти с ними, но она осталась.
Павел сидел с женой у самого берега на большом пористом камне и перочинным ножом сдирал с гибкого прутика кожицу – шершавую снаружи и влажно-гладкую внутри.
– Тебе пиджак на плечи набросить? – спросил Павел, продолжая орудовать ножом.
– Что ты, тепло, – Маша вздрогнула и теснее прижалась к мужу.
И они снова долго сидели молча. Вдруг Павел бросил в воду прут и с досадой ударил себя по коленке рукояткой ножа.
– Машенька, – в отчаянии сказал он, – я карточку твою на столе забыл.
Пароход пришел под утро. Когда он вывернулся из-за горы, на притихшем было берегу опять поднялся шум. Мимо пробежала, спотыкаясь о гремящие голыши, баба.
– Микола, а Микола! Куда же ты делся?
Стал собираться и Павел. Он зачем-то развязал вещевой мешок, и, склонившись над ним, снова принялся затягивать веревочку. Маша заглянула мужу в лицо и на глазах у него увидела слезы.
– Павлуша... – прошептала она осекшимся вдруг голосом.
Павел выпустил из рук мешок, притянул жену к себе и жадно стал целовать ее в полуоткрытые губы. Потом он вскинул на плечи мешок, схватил пиджак и, не оглядываясь, побежал к пристани.
В Отрадное Маша пришла на рассвете. Дорога была не длинной, но она еле тащила ноги, и шедшие позади женщины обгоняли ее. Маша почувствовала, наконец, всю усталость от последних беспокойных дней, и ей захотелось спать.
Дверь в сени открыла Катерина.
– Уехал? – спросила она и посмотрела на горы с туманно-синими склонами. От подножия гор через всю деревню протянулись густые тени.
– А мне сон сейчас какой приснился, – обернувшись к Маше, улыбнулась Катерина и тут же смущенно замолчала.
Маше утром надо было идти на работу, и она попросила невестку разбудить ее в восемь часов.
Она прошла в горницу, расстегивая кофточку, распахнула дверь в комнату и тут увидела на полу черепки голубой с белыми лилиями фарфоровой вазы. На мгновение Маша замерла на месте с расширенными от ужаса глазами, потом схватилась руками за волосы и, пробежав по хрустевшему под ногами фарфору к убранной кровати, упала ничком в постель.
Маша вдруг поняла, что она давным-давно любила Павла, даже раньше их знакомства. Когда она еще совсем не знала его, он часто появлялся в ее девичьих снах, и от волнения она просыпалась среди ночи и прижимала к груди смоченную слезами подушку.
– Павлуша, Павлик, – шептала Маша искусанными в кровь губами.
И чем шире раскрывалась перед ней ее большая любовь к Павлу, тем яснее становилось для нее, что он уехал и, может, никогда уже не вернется. Сердце замирало от горя, и ей казалось, что оно сейчас остановится.
IXКаждый день Маша ждала писем. Собираясь утром на работу, она с надеждой думала о том, что сегодня, может быть, придет долгожданное письмо. Маша жила этой надеждой, и когда ей становилось невыносимо тяжело крутить ручку арифмометра или щелкать на счетах, она говорила себе: «Потерпи, дурочка, уж два часа, скоро конец работы. А дома письмецо от Павлуши». Но время, как нарочно, тянулось медленно.
– Катя, письма нет? – замирая от волнения, спрашивала она невестку, когда приходила домой.
Потом Маша уже не стала об этом спрашивать. Мельком взглянув в лицо Катерины, она шла в свою комнату, садилась перед окном и брала со стола маленькую фотографию мужа. Маша нарочно не носила фотокарточку с собой в сумочке. «Если не будет письма, – говорила она себе, – буду разговаривать с Павлушей».
Когда они поженились, Павел просил Машу съездить в Ставрополь и сфотографироваться вдвоем. Она почему-то стеснялась и уговорила его отложить эту поездку до весны. А весной тоже не собрались, и теперь она очень огорчалась, что не послушалась в свое время мужа.
Она подолгу смотрела на подстриженного молодого мужчину с едва приметными стрелочками белесых бровей, совсем не похожего на того, которого она так любила, и глубоко вздыхала.
Каждый день ей открывалась какая-нибудь новая, хорошая черта в характере мужа, раньше ею не замеченная, и любовь к нему – большая и сильная – все возрастала.
Приходил Алеша и звал ее обедать. Маша смотрела на мальчика, не понимая, что ему от нее надо. Когда же он опять повторял свое приглашение, она вставала и покорно шла за ним на кухню.
Как-то вечером, после комсомольского собрания, на котором обсуждался вопрос о помощи фронту, к Маше подошла одна из девушек, вместе с ней посещавшая зимой кружок кройки и шитья.
– А что, если нам, Машенька, – заговорила девушка, – таким заняться делом... Если нам опять всем собраться в кружок? И после работы, в вечерние часы, шить белье для госпиталей? Что ты на это скажешь?
– Ну, конечно, конечно! Это даже... здорово будет! Пойдем-ка с секретарем посоветуемся, – горячо откликнулась Маша.
А спустя неделю кружок уже приступил к работе. В клубе не оказалось свободной комнаты для девушек, тогда Маша, посоветовавшись дома с Катериной, заявила:
– Давайте-ка, подружки, разобьемся на три-четыре группы и будем работать на дому, у кого посвободнее. Вот у нас вполне можно собираться одной группе.
– У нас тоже можно! – сказала девушка, работавшая на промысле оператором.
– И у нас. Мы только с мамой живем, а дом просторный, – раздался еще один голос.
И вот в доме у Фомичевых бойко застучали три швейные машины. За ними сидели, наклонив головы, Маша, Валентина Семенова и Матильда Георгиевна, жена бухгалтера, худая, с пышными седеющими волосами.
Катерина, закончив уборку по дому, тоже помогала: обметывала петельки, пришивала пуговицы. Работали по два-три часа каждый вечер.
Уходила домой Матильда Георгиевна, за ней начинала собираться Валентина. Маша провожала подругу до калитки и, недолго постояв у ворот, прислушиваясь к вечерней тишине, снова возвращалась в дом и садилась за машинку.
За работой ее меньше беспокоили тревожные мысли о Павле.
– Хватит, Мареюшка, кончай, – говорила Катерина. – Пора на покой.
– А ты иди, ложись, Катюша, – отвечала Маша, не поднимая головы от шуршащего коленкора. – Я еще с полчасика посижу...
Маша уже не могла носить платья, пришлось сшить халат из пестрого сатина с мелкими цветочками, купленного весной предусмотрительным Павлом. Халат пришелся ей по вкусу, но она страшно конфузилась ходить в нем на работу.
Спала она плохо и чутко. Малейший шорох будил ее. Лопалось пересохшее дерево гитары, издавая тихий жалобный стон, или по завалинке пробегала кошка – она уже просыпалась и после этого не могла скоро уснуть.
Иногда, в выходные дни, Маша бывала на посту у Дмитрия Потапыча. У старика за последнее время заметно испортился характер, но к Маше он по-прежнему относился ласково.
Старик стал ворчливее, придирчивее и строже к себе и другим. Он работал теперь больше, чем прежде, часто делал промеры фарватера на своем посту, в изобилии заготовлял вешки и крестовины на случай обрыва наносом или плотом бакена, экономил керосин и аккуратно раз в неделю проводил с Константином травление реки.
Дмитрий Потапыч суетился с утра до позднего вечера и за работой, казалось, забывал о Павле. Но когда он ложился спать, тоска о младшем сыне возвращалась снова, и он подолгу метался на кровати. Он видел кошмарные сны и часто просыпался измученный, весь в поту.
Константин по-прежнему был занят постройкой своего дома, он каждый день ездил в деревню. Излишнее усердие старика в служебных делах и работе сердило его.
– К чему, батюшка, все это? Каждую неделю попусту дно реки тралим, а за все время одну корягу выловили, – недовольно сказал как-то он, уставившись на порыжевшие носки сапог, давно не видевшие дегтя.
– Так по инструкции положено, – строго ответил Дмитрий Потапыч, продолжая обтесывать топором комель у молодой осины.
– А другие так не делают, – равнодушно ответил Константин. – Мало ли что можно там написать, в бумагах-то этих...
Старик опустил топор и с минуту сердито смотрел на сына.
– Время сейчас какое? Мы с тобой как бы на военной службе находимся!.. Вдруг караван на карчу налетит и авария случится? А караван в Горьком ждут, он нефть туда везет. Что ты на это скажешь?
Константин втянул шею в худые плечи и больше уж ничего не говорил. Дмитрий Потапыч изо всей силы принялся стучать топором.
А Константин сидел и думал, где ему достать железо для голландки. Он так был занят постройкой дома, что ему даже некогда было проводить на пристань брата.
– Посиди, куда торопишься, – сказал тогда за обедом Павел, подавая Константину стакан водки.
– Плотники меня ждут. Гвоздей надо им отнести, – ответил тот и, опорожнив стакан, торопливо пожевал кусок вяленой рыбы и вылез из-за стола.
– Давай простимся, брательник, – сказал Константин.
Павел подошел к нему, и они поцеловались.
У Константина вдруг стало больно и тоскливо на душе. Он посмотрел на Павла, и ему захотелось крепко прижать его к своей груди. Он поднял руки, но смутился и, не сказав больше ни слова, вышел в сени.
Константин оброс сивой бородой, редко ходил в баню и все сердился на плотников, что они тянут с постройкой. Вначале у него работали три плотника: старик Петров и бывший псаломщик Маркелыч с сыном Сергеем. В июле Сергей ушел воевать, и остались одни старики. Маркелыч начал выпивать, дело пошло хуже. У сруба не было еще потолка и крыши. Не хватало леса на косяки, двери и перегородки.
Но дом получался хороший, ладный, и Константину доставляло большое. удовольствие ходить вокруг сруба, похлопывать ладонью по гладким пахучим сосновым бревнам с янтарными капельками теплой смолы.
Дмитрий Потапыч не раз советовал сыну заколотить на время сруб. «Пока нет Павла, – говорил он, – всем хватило бы места и в одном доме». Но Константин не слушался. Он хотел жить в своем доме.
* * *
Маша и Катерина с ребятами обедали, когда Константин грузным, тяжелым шагом вошел в избу и, ни на кого не взглянув, стал неторопливо снимать брезентовую куртку.
– Вот и отец к обеду явился, – сказала Катерина и, поспешно вскочив с табуретки, легкой походкой прошла в чулан за тарелкой.
Константин повернулся лицом к окну, посмотрел на руки – большие, темные от загара и въевшейся в поры грязи, отколупнул с ладони рыбную чешуйку, сверкнувшую жемчужной матовостью, и сел за стол.
– А мы тебя еще вчера ждали, – говорила Катерина, ставя перед мужем тарелку с вкусно пахнущим супом. – Я уж хотела Егора на бакен посылать. Что, думаю, там у них?.. Смотри, не обожгись, суп горячий.
– Батюшка все выдумывает, – нехотя и ворчливо сказал Константин и подул на ложку. – Ему даже во сне карчи покою не дают. Замучил совсем работой. А нынче старшина явился с новой выдумкой.
Он опустил ложку и с раздражением хлопнул ладонью по краю стола.
– Просто покою нет! На соседнем участке баба работает. Муж ее воевать ушел. Так баба эта собирается рыбы наловить пятнадцать пудов и безо всякой платы сдать ее для армии. Ну и валяй, если тебе хочется. А наш старшина по-другому рассудил. Нам, мужикам, говорит, зазорно хуже бабы быть. Она, говорит, хорошее дел придумала.
Константин нахмурился, почесал переносицу.
– А ты ешь, не расстраивай себя, – сказала Катерина.
– Утром у конторы слышал... По радио передавали про один город – названия не запомнил, – как немцы в него ворвались и над жителями издеваться стали, – сказал Егор.
– А дома взорвали и в церкви конюшню устроили, – проговорила Маша, и на лбу у нее собрались молодые морщинки.
Катерина покачала головой, вздохнула.
– Ну, что это на белом свете делается? – спросила она. – И как только земля таких иродов носит!
Константин ничего не ответил. Молча доел суп и пошел спать.
* * *
Через полтора месяца после отъезда Павла Маша получила наконец от мужа письмо.
Вначале шли поклоны родным, затем Павел сообщал, что не писал так долго нарочно: еще уезжая из дому, он дал себе слово послать письмо только после боевого крещения. Все это время он очень беспокоился о ней, тосковал и однажды чуть не нарушил своего слова. Павел советовал жене беречь себя, в ее положении это особенно нужно, и не волноваться. Он водитель мощного танка и в первом же бою их экипаж подбил две фашистские машины. После того как закончился бой, писал Павел, он был принят в большевистскую партию. Это был очень большой и радостный для него день, память о котором сохранится в его душе навсегда. Павел просил Машу обязательно выслать ему фотографию и написать, как идут дела на промысле, особенно в бригаде бурового мастера Хохлова. А письмо заканчивалось такими словами:
«За нашу землю русскую, за тебя, милая Машенька, и за будущее наше я жизни своей не пожалею. Твой Павел».
Маша была так взволнована этим дорогим для нее письмом, что в этот день никак не могла собраться с мыслями, раз пять начинала писать ответ, но у нее ничего не получалось, и она рвала бумагу.
«Завтра встану пораньше и до работы напишу», – решила она.
Вошла на цыпочках Катерина с крынкой в руках и почему-то шепотом спросила:
– Парного молочка, Мареюшка, не желаешь? Ты уж теперь не горюй, а поправляйся.
И Маше неожиданно захотелось парного молока. Она с наслаждением выпила целый стакан и подумала: «Почему я раньше его не пила, ведь оно такое вкусное!»
Собираясь уходить, Катерина сказала:
– Больно уж я о своем печалюсь. Возьмут его туда – в момент пропадет. Совсем мужик по этой части неспособный – курице голову отрубить боится.
Рано постаревшее лицо Катерины избороздили мелкие сухие морщинки. Ее светлые, тихие глаза смотрели печально и, казалось, что вот-вот из них закапают слезы. Маше стало жалко невестку.
– Катюша, успокойся, – ласково проговорила она. – Константина Дмитриевича не возьмут, он и здесь нужен.
Спать Маша легла в сумерках, тут же заснула и за всю ночь ни разу не просыпалась. Наутро она встала рано, бодрая, повеселевшая; распахнула окно, прибрала постель и села писать мужу письмо.
Нужно было много рассказать Павлу о своих чувствах, раньше таившихся где-то в глубине души и казавшихся такими неопределенными и непонятными даже ей самой. Маша так разволновалась, что, когда кончила писать и посмотрела в зеркало, щеки ее горели ярким румянцем, уже давно не появлявшимся у нее на лице.
Потом Маша долго разглядывала свою девичью фотографию, на которой она была совсем подростком, с распущенными косами и смутной улыбкой на полуоткрытых губах.
Она вздохнула и, все еще не отрывая от карточки взгляда, потянулась за ручкой. Сбоку исписанного листа она сделала приписку:
«Посылаю, Павлуша, свою карточку. На ней я куда интересней, чем сейчас. Боюсь, что разлюбишь, когда вернешься. Целую тысячу раз. Твоя Машенька».
По дороге на работу Маша зашла на почту и, прежде чем опустить письмо в голубой ящик, внимательно перечитала на конверте адрес. А, когда опускала конверт, у нее мелко дрожала рука и приятно замирало сердце.







