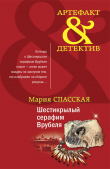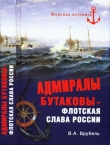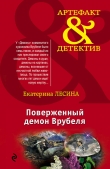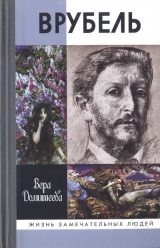
Текст книги "Врубель"
Автор книги: Вера Домитеева
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц)
Как раз об этом в письме Михаила Врубеля: «Мы читаем сообща (Папаша, Мамаша и я) „Один в поле не воин“ Шпильгагена». И тут же предложение сестре: «Если ты его тоже читала, то я могу тебе прислать в следующем письме, если хочешь, портрет главного героя романа – Лео, так, как он мне представляется».
Каким ему представлялся Лео Гутман, эта личность великого ума, великой воли, этот прирожденный вождь, одинокий и трагически гибнущий герой? Разумеется, личным идеалом. Родители могли сколько угодно вторить справедливому выводу автора о пагубности эгоизма и невозможности переменить мир в одиночку. Их старшего сына – в этом-то, зная произведения Врубеля, можно быть уверенным – вдохновляло именно одиночество героя, смело и рискованно возвысившегося над затхлой средой.
Придется все-таки пунктирно пересказать фабулу, ибо при всей декларативности центрального образа (вернее, именно благодаря ей) здесь четко обрисован тот архетип титана-одиночки, который будет постоянно воодушевлять творчество Врубеля. Недаром еще не знавший термина «архетип» и предлагавший чрезвычайно перспективную гипотезу устойчивых литературных формул, Александр Николаевич Веселовский в своей университетской лекции 1870 года, не смущаясь сопоставлением Эсхила со Шпильгагеном, отмечал, что в образе Лео у современного автора угадывается античный Прометей.
Сюжет Шпильгагена: бедный воспитанник барона, угрюмый крестьянский сирота Лео презирает лицемерного благодетеля и всех его домочадцев, выделяя лишь еще одну баронскую воспитанницу – гордую Сильвию. Попытка смирить свой мятежный дух религией Лео не удается. Под влиянием местного идеалиста-демократа он примыкает к восстанию селян во время революции 1848 года. Бунт подавлен, и юный Лео бежит за границу. Затем он появляется взрослым, совсем другим: теперь это врач необыкновенного ума, блистательный оратор и неотразимый светский кавалер. Вновь встреча с Сильвией, страстный роман. Барон тем временем обуржуазился, застроил свое поместье фабриками, крестьяне превратились в угнетенный пролетариат, в массу, инертную без руководящей идеи великого человека, коим, естественно, выступает Лео. В борьбе за справедливость он становится политиком. Пытается убедить либеральную буржуазию опереться на рабочий класс, но безуспешно. Тогда ставка на короля, который может привлечь рабочих для противостояния буржуазным олигархам. Красота Сильвии позволяет Лео проникнуть в придворную среду, король им очарован, дает ему деньги выкупить баронские фабрики, дарит роскошную виллу, однако не решается назначить правительство реформаторов. Дабы усилить влияние на монарха, Лео готов, пожертвовав любовью, жениться на дочери важного генерала. Сильвия с горя бросается в воду, пролетарии не в силах конкурировать с капиталистом и поджигают ненавистную фабрику, король умирает, а Лео, погрузившись в мрачное отчаяние, гибнет на дуэли. Такой вот актуальный Прометей – мученик идеи, успевший бросить искру рабочего движения.
Шпильгаген в образе своего Лео активно использовал яркие черты личности Фердинанда Лассаля, что было хорошо известно, добавляло роману политической остроты и весьма способствовало его популярности. Возможно, Врубелю тоже был небезынтересен реальный прототип героя, возможно, в его рисунке даже отразилась на редкость эффектная внешность основателя немецкой социал-демократии. Только уж не демократия и пролетарские союзы вдохновляли юного художника, а в первую очередь линия бурной личной жизни благородного деспота Лассаля-Лео.
Рассказывая о многочисленных рисунках на литературные темы, об «элементах живописи, музыки и театра», ставших «с ранних лет жизненной стихией брата», Анна Врубель обошла молчанием элемент романтический. А в том, что этот элемент имел значительное место, сомневаться не приходится: всю жизнь друзья подтрунивали над Врубелем, практически не выходившим из состояния очередной безумной влюбленности. Неясно, отвечал ли он взаимностью на детское обожание Верочки Мордовцевой, но уже в гимназии, куда ученики поступали с десяти лет и к старшим классам обзаводились усиками, а кое-кто и бородкой, Врубель конечно же прошел весь путь сердечных горестей и радостей, которыми будоражили душу Артема Карташева гимназистка Манечка, деревенская Одарка, горничная Таня и т. д. Чувственный компонент, надо полагать, был не последним во врубелевских мечтах о студенческом будущем вдали от бдительных очей Александра Михайловича и Елизаветы Христиановны (в их среде, между прочим, даже слово «влюблен» считалось пошлостью).
Юноше, окончившему Ришельевскую гимназию с золотой медалью, открывалось много сияющих дорог. О поприще профессионального художника тогда не помышляли ни родители, ни даже сам вчерашний гимназист. Единственно достойным признавался путь в университет. Но где, какой? Тут кроме профессуры и состава научных дисциплин приходилось учитывать финансовый лимит большого многодетного семейства, жившего на отцовское жалованье военного юриста и вынужденного регулярно держать жильцов-пансионеров. Проживание сына в чужом городе потребует расходов, которых не покроешь студенческой стипендией.
На помощь пришел Николай Христианович, готовый предоставить племяннику свой петербургский кров и стол. Молодой дядюшка-приятель «Жоржа» Вессель уже год учился на столичном юридическом факультете, туда же решено было определиться Михаилу.
«Я очень и очень рад предложению дяди Коли. Мною овладел in gens desiderium Petropolis [2]2
…потомственная привязанность к Петербургу ( лат.).
[Закрыть]! Подальше, в самом деле, от этой Одессы…»
И восемнадцатилетний Врубель уехал в желанный Санкт-Петербург.
Глава третья
КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ
Тринадцать юридических дисциплин, разделенных на три группы предметов.
В первой – общетеоретические: «Энциклопедия права» (суть юридических и политических наук, а также их философии) и «Римское право» (его эволюция, догматика, византийская версия). Вторая группа – исторический аспект важнейших древних и новых законодательств. Третья – право во всех конкретных отраслях: государственное, гражданское, уголовное, финансовое, полицейское, международное, церковное… Плюс криминалистика, плюс получение практических навыков делопроизводства, подготовки документов судебного следствия и т. п.
Почему Врубель решил изучать все это? Прежде всего, семейная традиция, но вообще, как пишет Александр Бенуа, тоже в свое время и фактически вместе со всеми будущими мирискусниками проследовавший из гимназии прямиком на юридический факультет, «так полагалось». Считалось, «что и тем, кто вовсе не собирались посвятить себя специально юриспруденции, „не бесполезно для жизни приобрести познания, преподававшиеся на юридическом факультете, что предметы, изучаемые на нем, служат продолжением все того же общего образования“, а диплом, полученный на государственном экзамене юридического факультета, „отворял все двери“ – иди служить куда хочешь».
В результате юридический факультет Санкт-Петербургского университета гордится именами многих учившихся здесь гигантов отечественного искусства, в том числе таких, как Михаил Врубель и Александр Блок. Степень успехов и прилежания знаменитых студентов при этом не уточняется.
Блок, например, уже на втором курсе, где вынужден был заниматься второй год, отчаянно затосковал, в письме отцу (29 октября 1901 года) просил понять, что «почувствовал свою полную неспособность к практическим наукам» и «возымел намерение перейти на филологический». Четвертью века раньше (весной 1876-го) Врубель тоже писал своему отцу подобное письмо с той только разницей, что объяснял позорную необходимость еще на год остаться на втором курсе не органическим отказом от правоведения, а напротив – осенившей его «не совсем красивой на первый взгляд, но зато практичной» мыслью упрочить свои знания и повысить оценки, дабы «иметь при выходе известное количество баллов для кандидатского диплома, без коего несть спасения».
Практичная идея не выручила. Проучившись в университете на год больше положенного срока, заключительной конкурсной работы Врубель не написал и диплом кандидата права не получил, вышел с более чем скромным званием «действительного студента».
Кочующее по разным текстам восхищение Врубелем, который блистательно окончил сразу два (а то и три) гуманитарных факультета, – чистейший миф. Основана легенда, видимо, на сообщении Константина Коровина, для чьих мемуаров, как и для живописи, характерны яркий широкий мазок и небрежение мелочной дотошностью. Тем не менее Коровин умел с изумительной точностью схватывать главное. Пусть студент Врубель не радовал профессоров отлично выученным предметом, пусть вялая подготовка студенческого бала тревожила его сильнее, чем экзамены, что «грозят своей страшною реальностью», но знания – знания, нужные ему, – он впитывал прекрасно и действительно кроме факультетских, обязательных, ходил слушать лекции по программам историков, филологов. При его темпераменте даже удивительно, что ему удалось дотянуть до конца, пройти весь курс унылых юридических наук. Должно быть, дисциплина заботливого, но весьма строгого домашнего воспитания еще не выветрилась.
Многозначительно обронив насчет неких необходимых лично ему знаний, надо бы пояснить, в чем он вообще тогда нуждался. А это балы, пирушки, вечеринки, болтовня до рассвета, хохот, шумные молодежные дебаты и прочие способы «пожуировать настоящим» – весь опыт студенческой вольницы, в котором только и возможно было выяснить, куда направлен, к чему от природы приспособлен его восприимчивый ум. Определить индивидуальные внутренние эквиваленты, как выразился бы сегодняшний психолог.
Конечно, Врубель злоупотреблял чрезмерно снисходительным присмотром дядюшки; замечательный теоретик педагогики Николай Вессель в собственной воспитательной практике допускал немало промашек, не сумел гармонично развить даже собственных, склонных к безвольной праздности детей. Но Врубель-то был не ленив. И одно дело штудировать Платона, когда ты «неблагообразно» остался на второй год и под страхом провала долбишь тексты несданных общетеоретических дисциплин, другое – самому и для себя читать, например, те же сократические диалоги, упиваясь мудрым афинским остроумием. Одно дело солидно рассуждать о социально-экономической доктрине Пьера Прудона у любимых отцовских родственников Арцимовичей (где не нравилась «кислая» мадам Арцимович), совсем другое – дискутировать о довольно плоских эстетических тезисах основателя анархизма с насмешливыми образованными барышнями, которые «отзывчивы ко всяким интересам, волнующим молодежь», которых всегда много в доме у бабушки, «умеющей не стеснять шумливых увлечений молодежи». Или разбирать трактат Готхольда Лессинга «Лаокоон», обсуждать границы живописи и поэзии, отправившись веселой молодой компанией («la grande Comitée», – шутит Врубель, то есть большим советом, своей требовательной комиссией) в поход по залам Академии художеств.
Кстати, Лессинг, определяя специфику пластического и поэтического, отдавал предпочтение «более широкой», способной развернуть образ во времени поэзии, а Врубель той поры? Находил он уже нечто, что ставит немую статичность живописи с ее возможностью мгновенно и цельно охватить картину мира выше прочих искусств, или пока тоже признавал первенство литературы и даже сам пробовал писать стихи, прозу, некие эссе? Кто, прочтя письма Врубеля, усомнится, что такие пробы производились и будоражили его волнением, не сравнимым с тоскливым беспокойством перед грудами нераскрытых законоведческих томов.
Заниматься на юридическом факультете действительно было трудно, выдерживали далеко не все. К примеру, поступивший сюда тремя годами раньше Врубеля автор «Гимназистов» Гарин-Михайловский, не сдав энциклопедию права, вынужден был оставить университет, пойти учиться на инженера. А Врубель все же кое-как одолевал, сваливал с плеч экзамен за экзаменом. И нельзя полностью согласиться с его отцом, горевавшим впоследствии о бесплодном пребывании сына в университете, о пяти даром потерянных годах. Извлек ли Михаил Врубель что-нибудь ценное лично для себя из юридических наук – сомнительно, но не зря назывался факультет первоначально «философско-юридическим», традиция такого подхода к обучению юристов сохранялась. Еще один фрагмент воспоминаний Бенуа: «…из некоторых предметов, „наименее судейских“ и „наиболее общих“, мы почерпнули для себя пользу несомненную. Эти познания дисциплинировали наше мышление, познакомили нас с различными философскими системами. Если до того мы ознакомились, благодаря классическому образованию, с Платоном, с Аристотелем, то теперь мы узнали и Декарта, и Локка, и Лейбница, и Канта, и Гегеля, и Шопенгауэра».
Вот эту сторону занятий Врубель воспринял прекрасно. В университетские годы его отчетливо и сильно повлекло к философии.
Неубедительно? Ничего себе философ – то бегает по театрам, то по музеям бродит с барышнями, то на домашнем балу проплясал до четырех утра, и все ему недосуг осуществить заявленное в письме родителям главное свое стремление «заняться как следует». Но, читая у страшно серьезного гимназиста «я положил себе за правило отвечать как можно обстоятельнее и логичнее на вопросы, которые задаешь себе по поводу разных явлений в жизни», невольно улыбнешься, а на студенческие сообщения о Лессинге и Прудоне вперемешку со спектаклями и вечеринками улыбка иного рода: приятно, что художник с молодости задумался о смысле творчества, не смущался собственной независимой позицией – «я в этих прениях чуть не один defend la cause [3]3
…защищаю тезис ( фр.).
[Закрыть]„искусства для искусства“, и против меня масса защитников утилизации искусства».
И что с того, что на экзамене по государственному праву Александр Дмитриевич Градовский – светило, поборник защищающего личность беспристрастного гражданского закона, – осведомившись, где сейчас Александр Михайлович Врубель (переведенный к тому времени из Одессы в Вильно), не смог поставить сыну хорошего знакомого оценку выше четверки. Есть высшее, высочайшее право, о котором у зрелого, умудренного Пушкина:
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
– Вот счастье! вот права…
А. С. Пушкин «Из Пиндемонти» (1836).
И почему же, в самом деле, несовместимы глубина мысли и радость? Что-нибудь да обозначает устойчивое выражение «духовные радости». «Веселую науку» предложит будущий кумир Врубеля среди мыслителей, «гениальный немец» Фридрих Ницше.
А тогда, в университетские годы, гением философии, вызвавшим личный и самый пристальный интерес, стал для Врубеля Иммануил Кант. Но сначала все-таки о студенческой жизни, потребовавшей философских осмыслений.
Рьяно заинтересовавшись теорией эстетики, сам Врубель в пору пребывания на юридическом факультете творчеством занимался мало. Виновником, «совершенно отвлекшим меня от занятия искусством», он в своей поздней краткой автобиографии неопределенно назовет Санкт-Петербург. Слишком много головокружительной, впервые вкушаемой вольности, слишком много впечатлений от всего, включая богатейшие собрания картин.
Реакции у него бывали сильные. Анне Врубель помнились их совместные, сразу после его приезда из Одессы посещения Эрмитажа, в том числе «одно, когда, в силу, очевидно, крайнего напряжения внимания и интенсивности впечатлений, с братом в конце обхода зала сделалось дурно».
Хотя время от времени он все же рисовал. Сюжеты прежнего направления. «На темы из литературы, как современной, так и классической, – рассказывает сестра. – Тут были тургеневские и толстовские типы (между первыми вспоминаются Лиза и Лаврецкий из „Дворянского гнезда“, между вторыми „Анна Каренина“ и „Сцена свидания Анны Карениной с сыном“), „Маргарита“ Гёте, шекспировские „Гамлет“ и „Венецианский купец“, „Данте и Беатриса“, „Орфей перед погребальным пламенем Эвридики“ и он же, оплакивающий ее, и, вероятно, еще много других…» Кое-что (совсем мало) из перечисленных рисунков сохранилось, особенно часто репродуцируется композиция «Свидание Анны Карениной с сыном». Что ж, выразительно, но с точки зрения графических достоинств это произведение еще, так сказать, «доврубелевского» периода в искусстве Врубеля. Очень похоже на стиль тогдашних журнальных иллюстраций: донельзя романтично, даже мелодраматично, и весьма тщательно отделано.

Свидание Анны Карениной с сыном. Бумага, карандаш. 1878 г.
Редкий пример натурной, причем автопортретной сцены в чудом сохранившемся наброске с изображением лежащего на диване друга Саши Валуева и себя, сидящего рядом. Момент неких волнующих полночных прений. Саша Валуев – тоже студент, обоим еще нет и двадцати. Рискнем предположить, что сообща решавшийся в компании «вопрос о значении и цели пластических искусств» здесь, в этом ночном юношеском разговоре, был все-таки не на первом месте.
У Николая Христиановича Весселя, давшего приют Михаилу Врубелю, проживал тогда еще один студент – приехавший из Омска учиться инженерным наукам Петя Капустин, приятель, как бы даже родственник молодых Врубелей (он приходился племянником великому химику Менделееву, с которым у Анны и Михаила тоже имелась некоторая родственная связь по материнской линии Басаргиных). Так вот Капустин в письме Анне Врубель не без насмешливости доложил, что ее братец Миша, побывав на оперном спектакле «Гамлет» с участием гастролировавшей в Петербурге всемирно знаменитой Христины Нильсон, исполнился безумного восторга от солистки – «Нильсон для него теперь предмет всех разговоров и помышлений».
Присоединившись к сонму обожателей шведской певицы, исполнявшей в опере Амбруаза Тома партию Офелии, и не имея средств на корзины роз или драгоценные сувениры, оставалось прибегнуть к испытанному – изобразительному – выражению потрясенных чувств. Правда, нет сведений и о том, сделал ли Михаил Врубель во время ее гастролей в феврале 1875-го, учась на первом курсе университета, «какую-то картину», удалось ли ему, как собирался, поднести свой дар артистке. Зато хорошо известны неоднократные варианты «Гамлета и Офелии» в его живописи следующего десятилетия. Известно также, что пролог – волшебный голос, льющийся со сцены, а вслед за тем глубокая страстная влюбленность – совершенно на драматургический лад повторится, отзовется в его судьбе полнозвучным развитием этого мотива.
Жизнь Врубеля поразительно насыщена симметрией повторов и совпадений; экономная в наборе первоэлементов, она на удивление богата узором их вариаций. Отблеск гармонии сфер в бытии избранника небес? Или сама способность ощущать несокрушимо гармонический строй универсума выстраивает рисунок судьбы без лишних завитушек?
Наверное, другие эпизоды университетских лет тоже намечали силовые линии расширявшегося личного пространства. Скажем, впечатления, связанные с семейством Валуевых, у которых Врубель долгое время буквально дневал и ночевал. Увы, в части документальных свидетельств об этой почти десятилетней дружбе с трудом наскребаются какие-то крохи. Из переписки Врубеля и его родни (Анне Врубель, учившейся на курсах с дочерью Валуевых, тоже был хорошо знаком этот радушный дом) возникает общий контур состоятельного столичного семейства с обаятельным интеллигентно-богемным оттенком. Видится очень увлекавший молодого Врубеля стиль жизни: череда музыкальных вечеров, литературных викторин, живых картин, любительских спектаклей, ужины с беседами чуть не до рассвета… Хотя многие элементарные моменты остаются неясными.
Счастье, что есть Интернет. Никакими архивными изысканиями не удалось бы наткнуться на интервью журналиста с живущей сегодня представительницей интересующего семейства, причем как раз правнучкой врубелевского друга Саши Валуева. Учился он, оказывается, не в университете, а, как и оба его брата, в Институте инженеров путей сообщения (то есть никак уж не «сокурсник» Врубеля, каковым его принято аттестовать). Чем ценно это уточнение? А тем, что, стало быть, сокурсником Саши являлся поминавшийся недавно Петр Капустин, чья сестра, Надя Капустина, была среди первых девиц, допущенных к учению в Императорской Академии художеств, и это, в свою очередь, нам проясняет, как молодежная компания под валуевским кровом пополнилась художниками, – факт, в жизни Врубеля сыгравший огромную роль. Попутно выяснилось, что писательница, автор когда-то очень популярных, предназначенных для юношества биографий великих людей, Анна Петровна Валуева-Мунт, это жена Павла Валуева, старшего брата Саши. Расшифровались наконец инициалы их отца – звали его Михаил Павлович, до службы в таможне он служил на флоте. Решился не дававший покоя вопрос: имел ли этот М. П. Валуев какое-либо родственное отношение к министру внутренних дел, графу Петру Александровичу Валуеву, крупному государственному деятелю, не чуждому также изящной словесности и отмеченному в энциклопедиях, посвященных двум главным русским поэтам, ибо встречался с Пушкиным, был знаком с Лермонтовым, посещавшим его дом? Выяснилось – имел; хотя и довольно дальнее, но кровное.
Гостеприимному особняку «врубелевских» Валуевых на 5-й линии Васильевского острова тоже доводилось принимать безусловных гениев. В конце 1870-х тут часто бывал Модест Мусоргский, подружившийся с Марией Павловной Валуевой еще тогда, когда хозяйка дома носила девичью фамилию Юдина. Мусоргский охотно играл в ее гостиной на рояле, не щадил клавиши и пел, а в предпоследнюю свою зиму он даже на некоторое время поселился здесь. В ту пору и Михаил Врубель нередко гостевал в этих стенах. Общались? Разумеется. Насколько тесно? Ну, в пределах очевидной разницы лет и положения. В посвященном Врубелю мемуарном очерке киевского музыканта Яновского отмечен разговор с художником о композиторе, что «пришелся ему по душе»: «…коснулись Мусоргского. Тут Врубель стал припоминать свои встречи с Мусоргским, с которым он был когда-то знаком, рассказал о том, что в Петербурге на Владимирском проспекте есть старый ресторан, что в этом ресторане (знаменитый „Давыдка“, тут завсегдатаем бывал и Достоевский) долгое время сохранялся стол, испещренный нотными записями и набросками Мусоргского».
До «дружбы» уставшего жить композитора с веселым студентом-юристом, что иной раз слетает с разгоряченных перьев, дело, конечно, не могло дойти, но избыток горячности тут понять можно. Встречи молодого Врубеля с Мусоргским! Мусоргским, уже сочинившим «Картинки с выставки», «Бориса Годунова», «Хованщину» и трагически догоравшим от невзгод, алкоголя, непонимания его музыки, своих безудержных страстей. В чертах характера двух этих гениев, их специфичном способе существования, крутых перепадах творческой энергии и непростых отношениях даже с самым благожелательным окружением немало общего – здесь дорог был бы каждый штрих живых контактов. Однако нет этих штрихов. В наиболее надежном источнике материалов о врубелевских настроениях – лакуна. После февраля 1875-го ни одного письма сестре до апреля 1879-го.
Обидно. Те самые годы, когда Михаил жил вдали от Анны (сестра уехала в Оренбург, получив место педагога тамошнего Николаевского женского института) и ему было чем с ней поделиться, когда ему случилось в первый раз выехать за границу, когда происходило превращение нерадивого студента-юриста в одержимого художника.
Относительно посланий из Парижа и Швейцарии, откуда «брат писал полные интереса письма, сопровождая их текст набросками пером» в мемуарах сестры краткое пояснение – «письма эти, к сожалению, не сохранились». Но первая заграничная поездка Врубеля состоялась летом 1875 года, и об отсутствии писем следующих трех лет никаких комментариев. Тоже, надо понимать, пропали. Крайне аккуратная и методичная Анна Александровна сама такое дорогое сердцу сокровище потерять не могла. Куда же они подевались? Конечно: война 1914 года, две революции, затем Гражданская война – катаклизмов хватало. Российская империя исчезла невесть куда, не то что какие-то там письма. Смущает только избирательность пропажи. Ну, предположим, заграничные письма со ставшими уже очевидной большой ценностью рисунками Врубеля мог выманить или просто выкрасть какой-нибудь страстный поклонник творчества художника, либо азартный коллекционер, либо трезвый торговец раритетами. Всех их в конце 1920-х годов немало бродило по коридорам петроградского Дома искусств, где в комнате нижнего этажа поселилась, принимала визитеров, давала частные уроки и умерла престарелая сестра Михаила Врубеля. Зачем, однако, гипотетический делец или ценитель искусства прихватил несколько конвертов с текстами без зарисовок и почему именно эти? Объяснений и тут сколько угодно: случайно, второпях, лежали в одной связке, кого-то ужасно интересовал именно этот вот период. И все-таки… А вдруг то была жертва во имя брата, именно ради светлой памяти о нем? Не могло ли так сложиться, что вернейшей наперснице пришлось выступить в роли ответственного и решительного цензора? Не могла ли сестра и друг из неких высших соображений надежно скрыть, где-нибудь отдельно хранить вредящий чем-либо фрагмент эпистолярного наследия?
Версия первая – политическая.
На рубеже 1910–1920-х годов, когда готовился к изданию первый сборник врубелевских писем, авангард еще шел в ногу с послереволюционной идеологией (во всяком случае – фразеологией), а Врубель уже был причислен к буржуазному модернизму, отягощенному мистикой. Конечно, ситуация в стране пока недозрела до арестов и ссылок за неправильные эстетические вкусы. Однако издавать переписку «мистика, эстета-декадента, хотя и наиболее глубокого в мировом искусстве», как в начале 1920-х определял Врубеля авторитетный критик А. В. Бакушинский, уже следовало с оглядкой.
Сделаем отступление. Опасное увлечение Врубелем позднее не последней долей вины отзовется в судьбе репрессированного Николая Тарабукина, организатора «группы по изучению творчества Врубеля» при Государственной академии художественных наук (ГАХН). Тарабукину, к счастью, удалось уцелеть в лагере, даже выпустить потом свою книгу о художнике. Еще ужаснее судьба Дмитрия Саввича Недовича, известного переводчика Ювенала и Гёте, одного из организаторов самой ГАХН, сделавшего там интереснейший доклад «Демонизм и Врубель», позже от безвыходности или излишней самонадеянности затеявшего зловещие игры с теософией, мистикой и НКВД. В 1946-м Недович был арестован и через год умер от истощения в бутырской тюремной больнице.
А что, если кроме несозвучной эстетики в тех врубелевских письмах имелась и откровенная идейная реакционность? Политических страстей Михаил Врубель всегда брезгливо чурался, но взгляд на жизнь отечества имел вполне определенный, полагая главной угрозой для России хамство.
– Хамство, – говаривал он, – энергия безвкусного глупца погубит страну.
Это в зрелые годы, а что уж в русле подобной тематики мог бы наговорить (написать) близким студент Врубель, с его «страстишкой блеснуть красноречием», представить нетрудно. И если нечто в этом роде имело место в пропавших письмах, тогда загадка их исчезновения объяснима и даже сохраняется надежда вдруг отыскать их в чьем-нибудь личном архиве.
Версия вторая – этическая.
Мастера Серебряного века, в отличие от правил предыдущей культурной эпохи, своей личной жизни не скрывали, напротив, почитая биографию артиста его главным творческим произведением, подробно разворачивали перед публикой персональные сплетения аполлонического света и дионисийских темных страстей. Дружно признавшее во Врубеле пророка символизма новое поколение нисколько не смутил бы некий неправедный аспект его существования, как раз это и привлекло бы повышенное внимание. Могли ли содержаться в письмах сестре какие-то упоминания беспутных похождений Врубеля? Очень даже. В самой изящной, деликатной и остроумной форме, разумеется, полунамеками (из которых знатоки тут же достроили бы полновесно пикантные сюжеты), но могли. Какие приключения, например, разнообразили ту его первую заграничную поездку, о которой сестра в мемуарах лишь коротко обмолвилась: «…сопровождал в путешествие за границу одного юношу с матерью, для занятий с первым латинским языком»? Могла ли Анна Врубель, при ее совершенно другом понимании интереса к искусству, не расценивать излишнее любопытство к жизни ее брата оскорбительной пошлостью? Могла ли она допустить, чтобы какой-то материал для сплетен (или ультрасмелых трактовок врубелевских образов) оказался не то что в печати, но хотя бы в руках иначе воспитанных аналитиков творчества?
Версия третья, самая простая – обсуждаемых писем никогда не существовало, за эти три года Михаил Врубель ни разу не написал сестре.
А такое возможно? Возможно и такое. В его письмах родителям еще более долгий перерыв. Подчеркнем – письмах, настоящих письмах с рассказом о себе. Поздравительные отписки в канун Рождества либо ко дню именин не в счет, Врубеля там не больше чем в листках отрывных календарей.
Доверительное отношение к сестре не растаяло: позже ей снова будут поверяться надежды, радужные планы, печали самокритичных выводов. Потребность и несомненное умение словесно оформлять потоки своих переживаний, размышлений тоже остались при нем. Значит, если временно отпала надобность в беседах с главной его конфиденткой, вывод единственный – появилась другая хорошая аудитория. Изрядную ее долю составляла, естественно, новая молодежная компания, только у молодых ровесников есть неприятная привычка перебивать, насмешничать и, не дослушав, выкладывать свои мнения, а Врубель любил порассуждать со вкусом, развернуть мысль каскадом сладостного остроумия. Слушатели, способные внимательно и с удовольствием, отчасти даже умилением, оценить игру ума и небанальный запас знаний в пространных монологах студента, нашлись.
Искусительный Санкт-Петербург впрямь заметно «отвлек» как от искусства, так и от родни. Однако Михаил Врубель не бездельничал, ограничиваясь лишь вялой учебой, чтением любимых философов да энергичным участием в студенческих увеселениях. Выбранный в пику моде щеголять демократичной внешней небрежностью дендизм обходился недешево. Стипендию Врубель не получал (несколько раз его даже формально исключали ввиду не внесенной в срок платы за учебу и скверной успеваемости), суммы скромных отцовских субсидий мгновенно улетали на прачку, букеты и прочий жизненно необходимый джентльмену обиход, так что он регулярно подрабатывал репетиторством и гувернерством. И это важная страница его опыта – проживание по разным семьям в качестве гувернера. Собственно, в плане приобретения специальности здесь главный положительный итог его университетских лет. Юрист из него не получился, зато гувернер вышел прекрасный, что неоднократно выручало потом в трудные периоды.