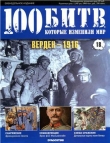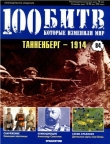Текст книги "Последний год"
Автор книги: Василий Ардаматский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)
Итак, дом петроградской охранки на углу Александровского проспекта и Мытнинской набережной. В то время, о котором наш рассказ, главным человеком в этом здании был генерал-майор отдельного корпуса жандармов Константин Иванович Глобачев. Прежде чем в начале 1915 года оказаться на этом посту, он занимал высокие жандармские должности в Гродно, в Варшаве, в Нижнем Новгороде. Но царь запомнил его по службе в Польше, где имя Глобачева было окружено всеобщей ненавистью.
Потом он получил назначение в жандармское управление Нижнего Новгорода, затем год проработал в Севастополе и оттуда в начале 1915 года был переведен в Петроград.
И в Нижнем и в Севастополе он действовал энергично, ожесточенно, беспощадно. Когда началась война и газеты трубили о патриотическом единстве и воодушевлении русского общества, Глобачев продолжал хватать людей по малейшему подозрению. Дело дошло до того, что севастопольский губернатор послал в Петроград жалобу, в которой писал, что «действия жандармского управления вызывают в городе вредное общему духу раздражение».
Не сыграла ли эта жалоба свою роль в назначении Глобачева в Петроград, где в это время уже требовалась сильная и беспощадная рука?..
В петроградской охранке окна кабинета Глобачева выходили во двор. Тоже, наверно, из предусмотрительности. Но от этого в кабинете и днем было сумрачно, поэтому окна и днем бывали зашторены, и громадную комнату заливал яркий свет трех люстр, а на письменном столе стояла еще лампа-прожектор, направленная на дверь, благодаря чему каждый входивший в кабинет видел самого Глобачева очень смутно. Во время допросов этот прожектор направлялся в лицо арестованного. И был заведен такой порядок – выезжая откуда бы то ни было в охранку, Глобачев сообщал об этом своему адъютанту, тот шел в кабинет, зажигал полный свет и проверял каждый угол, после чего не выходил из кабинета до появления начальника…
В сложной петроградской обстановке Глобачев быстро разобрался и поначалу избрал для себя довольно хитрую стратегию и тактику. Должность его официально называлась «начальник отдела по охране общественной безопасности и порядка в г. Петрограде». Приняв отдел, он сразу же обнаружил там серьезную для себя опасность – охранка была втянута в карусель, перешвыривания дел, касавшихся шпионажа. Глобачев изымает из недр охранки все подобные дела и этим отводит от себя ответственность за безрукую борьбу со шпионажем и высвобождает значительные силы охранки для борьбы с революцией.
Во всем, что касалось борьбы с революционной крамолой, на Глобачева можно было положиться. Он любил говорить: я эту опасность не только умом сознаю, всей своей шкурой чувствую…
Пока министром внутренних дел был Хвостов, охранка действовала вполне самостоятельно, но с приходом на этот пост Протопопова положение изменилось. Новый министр подключал охранку ко всем своим интригам, и Глобачеву скрршя зубами приходилось вести разработку великосветских салонов, организовывать слежку за министрами, политическими деятелями и даже за иерархами церкви. Охранка стала той самой лупой, через которую Протопопов и царица так любили рассматривать всякого, кого они считали своим противником. Однажды, получая от Протопопова фамилию очередной «жертвы под лупу», Глобачев не выдержал, сказал, что охранка занимается бог знает чем и кем на радость главным врагам трона. На это Протопопов сухо заметил, что прямые указания ее и его величества следует выполнять беспрекословно.
Ну что ж, решил Глобачев, значит, каждый сотрудник охранки должен работать в два раза больше. Сам он появлялся на службе раньше всех и уходил позже всех. Все рабочее время его кабинет напоминал штаб большой воинской части, ведущей длительное нелегкое сражение. Все стараются как могут, но Глобачев работой охранки недоволен. Ему кажется, что и в Варшаве и в других местах дело шло лучше, там подчиненные понимали его с полуслова и считали за честь безукоризненно выполнить любой его приказ. А здесь у него полно столичных умников, у которых, видите ли, есть собственные мнения, а послушаешь их, видишь, что их рассуждения только к тому и ведут, чтобы меньше работать. В Варшаве он таких, не думая, гнал в шею, а тут, кого ни тронь, у него опасная родня за спиной. А в Петрограде, как нигде, революцию надо бить монолитным кулаком, а не растопыренной пятерней…
Только что его кабинет покинул один из таких умников, ротмистр Калимов – какой-то двоюродный племянник жандармского генерала Курлова. Работает в группе, разрабатывающей цитадель революции – Путиловский завод, но что ему ни поручалось, все провалено – упустили большевичку, пронесшую на завод подстрекательские листовки, не опознали большевиков, ночевавших у провокатора, при наблюдении явочной квартиры смутьянов прозевали там сходку… Что это? Неуменье? Нераденье? А может, саботаж? Ведь сам Протопопов сказал ему на днях, что многовато арестов и что это раздражает общество… Но нет, на подобные замечания он реагировать не будет…
В кабинет без предупреждения вошел грузный полковник Остафьев – любимец Глобачева. Он вызвал его сюда из Варшавы, и был он из тех работящих охранников, кто разделял главную тре-вогу начальника, действовал решительно и безоглядно.
– Все арестованы и доставлены в тюрьму, – пробасил Остафьев, садясь в кресло и отдуваясь. – Но нелегко было. Всех брали в одночасье.
– Что дал обыск?
– Маловато, – вздохнул Остафьев. – Но для завязки кое-что есть.
– Допросами руководи сам. Я ни минуты не сомневаюсь, что все эти так называемые рабочие, включенные в военно-промышленный комитет, на самом деле негласная агентура большевиков. – Глобачев помолчал, думая. – Иначе зачем им было нужно без ведома комитета болтаться по петроградским заводам, а потом там на сходках шла болтовня о положении в военной промышленности. Вот что, – оживился Глобачев, – дай задание всем, кто ведет следствие по фабричным бунтовщикам, чтобы спрашивали про этих рабочих комитетчиков. Попробуем обвинить их в разглашении военных тайн.
– Все-таки зря мы не арестовали и нашего агента из комитета, он бы давал показания, какие нам необходимы. А сидя вместе с ними, продолжал бы их разработку.
– Что об этом говорить? – вздохнул Глобачев. – Белецкий уперся, на министра ссылался – нельзя, мол, оставить комитет без агента. Ладно. Так скольких же взяли?
– Всего вместе с комитетскими сорок два, но я уверен – нитки потянутся в разные стороны и возьмем еще не меньше тридцати.
– Ладно. А если кто не будет годен для суда, сошлем в административном порядке.
– Между прочим, один из комитетчиков, некто Ежов, может не дотянуть до суда. У него чахотка на пределе.
– Сам околеет – тоже неплохо. А пока жив, допрашивайте.
– Ясно. Но тут есть еще один нюанс – наш агент, который был при этом Ежове, сблизился с другом Ежова, а это знаете кто? Керенский.
– Великолепно! Этот крикун меня весьма интересует.
– А по-моему, балаболка.
– Не скажи, его речи в Думе всегда поднимают муть вокруг власти.
– Не знаю, не знаю… А знаешь, что говорит агент? Что его можно завербовать.
– Ни в коем случае. Подобные ветрогоны в одну минуту могут поставить нас под удар. А агента на него нацель. И придется тебе в конце этой недели взять на себя Путиловский…
– Что там?
– По-моему, бунт – абсолютная реальность. Остафьев помолчал, угрюмо смотря, и сказал:
– Да… Наперегонки идем – кто кого успеет обойти.
– Я все чаще вспоминаю ту ночь в Варшаве в девятьсот пятом, когда свихнулся подполковник Русанов. Помнишь?
– Но он слаб был, наш Русанов…
– Как он кричал: «Мы их не переловим! Они нас повесят…» Они помолчали, будто вместе прислушались к той далекой варшавской ночи.
– А переловили же… – неопределенно, не то вопросительно, не то утвердительно, произнес Остафьев.
– Вот что… – вернулся в сегодняшний день Глобачев. – Приготовь-ка письмо нашим людям по месту каторги этого… Прохорова. Надо, чтобы его там как следует приголубили…
Спустя несколько дней Глобачев был на докладе у Протопопова. Он тщательно подготовил доклад и хотел заразить министра своей тревогой, но тот слушал его с рассеянным видом, ковырял спичкой в ухе и потом рассматривал извлеченное… Глобачев с трудом подавлял вскипавшую в нем злость и, не закончив доклада, воскликнул:
– Ваше превосходительство, я плохо сплю оттого, что мое ведомство делает слишком мало в рассуждении великой опасности, грозящей трону слева!
– Размер этой опасности я сознаю, – хмуро сказал Протопопов. – Но следует помнить, что мы действуем не в безвоздушном пространстве, а в реальном обществе, а это механизм сложный. Когда власть усиливает пресс, происходит как бы сжатие пружины. И чем больше власть давит, тем сильнее сопротивление… Вот вам факт буквально сегодняшний. Вы арестовали какого-то Ежова, и мне уже звонил по этому поводу Керенский.
– Это понятно, они друзья, – вставил Глобачев.
– Нет, не то важно. Этот горлопан кричал мне по телефону, что Ежов смертельно болен, что он не удивится, если узнает, что мы начали арестовывать покойников, и так далее…
– Могу дать справку – как только я узнал, что Ежов тяжело болен, я распорядился его освободить… – сказал неправду Глобачев.
– Да? Вот это замечательно, – обрадовался Протопопов и, извиняясь, начал искать в записной книжке чей-то телефон. Нашел. Позвонил и сказал:
– Передайте, пожалуйста, Александру Федоровичу, что звонил Протопопов – человек, о котором он мне говорил, освобожден. Да, да…
Положив трубку, он повернулся к Глобачеву и с виноватой улыбкой сказал:
– Пожары надо тушить, когда огонь еще не охватил дом. Протопопов хотел этой мелкой философией о сжатой пружине прикрыть нечто абсолютно личное, что ему было подороже самочувствия государства и общества. Он знал, какое возмущение среди его думских коллег вызвало его назначение, а все они обладали достаточно злыми языками, чтобы всесветно ославить его как министра, благословившего массовый террор. Но этот нехитрый ход его мыслей Глобачев прекрасно разгадал и ешил идти напролом. В конечном счете, если ему не позволят делать то, что он считает кровно необходимым для трона, делать ему в охранке нечего и пусть его лучше уволят…
– Ваше превосходительство, мысль о пружине, которую вы высказали, мне понятна, – начал он спокойно и никак не подчеркивая двусмысленности своей фразы. – И насчет пожара тоже. Действительно же, его тушить надо, пока он не охватил весь наш дом. Но сейчас вопрос стоит так, что все русское общество может оказаться погребенным под обломками пожарища, вызванного революционным взрывом. И так как общество механизм не только сложный, но и стоглаво умный, оно нас поймет и поддержит. Надо только ему все прямо объяснить. Я уже не говорю, что мы с вами служим государю и трону, избранным большевиками главной своей целью.
Протопопов молчал. Искал удобный поворот этому опасному для него разговору. Государство… большевики… все это, конечно, важно, но для него сейчас самое важное – удержаться на этом высоком посту, а для этого он должен предусмотреть все обстоятельства…
– Давайте договоримся так… – заговорил он наконец. – Вы продолжайте свое святое дело. Все, что вы начали при моем предшественнике, доведите до необходимого конца. А в будущем мы будем вместе советоваться, как шагать дальше. Я, вы, новый начальник департамента полиции– мы будем вместе выверять свои действия во всех аспектах. Не возражаете?..
– Ладно… – с трудом произнес Глобачев свое любимое словечко и, понимая, что аудиенция окончена, встал.
– Я искренне желаю вам успеха в вашем трудном, но крайне необходимом государству деле… – Протопопов протянул ему руку через стол, и, так как стол был громадный, рукопожатие у них получилось неловким, скользящим…
Глобачева все более угнетало ощущение, что вся его работа идет вхолостую. Ну не совсем вхолостую, но без ясно видимых эффектных результатов. Чего стоил один Петроградский комитет большевиков! Сколько раз его накрывали полностью, не говоря об арестах отдельных его деятелей, не раз брали связи комитета, в тюрьму и на каторгу отправлены десятки комитетчиков, а не далее как вчера полковник Садчиков, занимающийся этим проклятым комитетом, снова явился к Глобачеву с сообщением, что комитет опять действует.
Но это ощущение появилось у Глобачева не вчера, а гораздо раньше, еще в конце лета, и он хорошо помнит в связи с чем…
Началось с удачи – на Старо-Невском накрыли давно запримеченного, но ловко ускользавшего большевика. Накрыли в момент, когда он проверял отремонтированный им стеклограф и для пробы печатал несколько экземпляров листовки. Глобачев помнит даже его фамилию – Прохоров.
Деваться Прохорову было некуда, и он подписал показания, в которых сознавался, что он социал-демократ, большевик, что стеклограф его личная собственность и что на нем он собирался печатать листовку, которую у него отобрали при аресте. Но дальше начинались «но» – он не назвал организацию, в которую входил, не назвал сообщников и утверждал, что текст листовки сочинил сам. В то, что он большевик-одиночка, Глобачев не верил, таких вообще не бывает. Лгал Прохоров и насчет листовки, текст которой он наверняка от кого-то получил, а как раз она была очень важная. Приближался второй судебный процесс над военными моряками в связи с бунтом на линкоре «Гангут». Листовка, изъятая у Прохорова, призывала рабочих Питера провести всеобщую стачку протеста против суда. Большевики очень опасно использовали и первый суд, призвав армию включиться в борьбу с самодержавием.
Прохорова допрашивали самые опытные следователи охранки, но к первым своим показаниям он не прибавил ни слова. Попробовали на него нажать, но и это ничего не дало – он молчал и грозил отказаться от подписанных им показаний. Глобачев принял решение передать дело в суд, но перед тем захотел сам поговорить с подследственным – а вдруг он все-таки передумал и расколется…
Утром к нему привели Прохорова. Было ему лет сорок. Рослый, плечистый, он стоял перед его столом, прочно расставив массивные ноги в простых дегтярных сапогах, и смотрел на него с каким-то веселым любопытством – дескать, интересно, что этот генерал придумал? Глобачеву говорили, что он вообще весельчак, на допросах острит, смеется. Ну что ж, Глобачев видел и таких…
– Вы, Прохоров, делаете большую ошибку, – наставительно, но мягко начал Глобачев.
– Да, да, так глупо завалиться со стеклографом в руках, – легко согласился Прохоров.
– Я о вашем нежелании дать показания, – уточнил Глобачев.
– Но после той главной моей ошибки все остальное – чепуха, – с оттенком печали ответил Прохоров.
– Хорошо, чепуха… – покачал головой Глобачев. – Она будет вам стоить лишних пять, а то и семь лет тяжелой каторги, – на печаль печалью отозвался Глобачев.
– Дайте мне хоть столетнюю каторгу, я и глазом не моргну – отбуду там от силы год, ну два и вернусь, – весело и убежденно произнес Прохоров.
– Могу вас огорчить – за последние годы оттуда никому бежать не удавалось… – Глобачев закурил папиросу и подвинул коробку на край стола – Курите?
– С удовольствием, – улыбнулся Прохоров. Он подошел к столу и, неловко орудуя большими, заскорузлыми пальцами, извлек из коробки папиросу. – Тогда уж и огоньку, если можно… – Глобачев подвинул к нему спички. Прохоров с наслаждением на лице сделал долгую затяжку и вернулся на прежнее место. – Насчет побегов у вас, извините, неточные сведения. Но я-то имел в виду не это – меня из каторги выручит революция.
– Не смешите меня, Прохоров, – по-дружески попросил Глобачев. – Вся ваша революция сидит в Крестах и дробит камни на каторге.
– Ой, не так это, – покачал головой Прохоров. – Разрешите притчу сказать?
– Что еще за притча?
– Про ястреба… – с лукавой улыбкой начал Прохоров. – Один ястреб, значит, решил переловить всех птиц в перелеске. Но откуда ни возьмись орел. Момент, и нет нашего ястреба… – Прохоров помолчал, глядя с интересом на жандарма – дошло до него или не понял? И заключил – Так что пока есть орел, никакой ястреб всех птиц не переловит. Для ясности: орел – это наша партия… большевики.
Глобачев помолчал, подавляя злость, и рассмеялся:
– Когда будете на сорокаградусном морозе дробить камни или валить лес, расскажите эту притчу каторжникам… они вам темную сделают… Однако у меня нет времени слушать ваши притчи, последний раз говорим вам: сообщники – и каторга наполовину короче.
– Ну как же можно? – удивился и огорчился Прохоров. – Вы хотите, чтобы я отправил на каторгу тех, кто должен меня освободить. Зачем же вы из меня дурака строите?
Прохорова увели. Глобачев вернулся к своим делам, мимолетно подумав только о том, что вместе с Прохоровым изъята и опасность появления большевистских листовок о судебном процессе, а это уже немало.
Увы, когда в октябре начался суд, Петроград наводнили те самые «прохоровские» листовки, и на целых три дня жизнь столицы была парализована всеобщей стачкой, в которой участвовало более ста тысяч человек. Положение сложилось столь грозное, что было решено приготовленные смертные приговоры не выносить…
И тогда вот и появилось у Глобачева то самое ощущение бессилия. Вдобавок его бесило, что министр Протопопов и начальник департамента полиции сумели втянуть его во множество мутных, или, как он выражался, крысиных, дел, весьма далеких от той главной и грозной опасности, которую он не переставал чувствовать. Мало того, постепенно в эти крысиные дела он вынужден был втянуть и многих своих сотрудников, а от этого удары охранки по главной опасности становились слабее и все чаще запаздывали…
Вдруг кто-то в департаменте придумал написать и отпечатать в типографии письмо к рабочим с призывом во имя победы над врагом прекратить смуту. Подпись под письмом – «Патриоты России», а распространять письмо приказали через агентов охранки, действующих среди рабочих. Чушь. И опасная чушь… Или за тысячу верст в Николаеве не могут справиться с забастовкой, остановилось строительство военных кораблей, и ему приказывают послать туда своих самых опытных агентов. Но тут хоть главная цель. Но в Петрограде-то с этой же целью не лучше. Получая приказ о Николаеве от самого Протопопова, Глобачев сказал об этом, а министр рассердился:
– Послушать вас, так Петроград населен одними большевиками.
– Ваше превосходительство, их сотни, тысячи! – воскликнул Глобачев.
– У страха глаза велики, – проворчал Протопопов.
– Они возникают, как клопы, повсюду! – энергично заговорил Глобачев. – Мы уже обнаружили их среди интеллигенции, даже среди ученых. Не далее как вчера мой агент из Политехники сообщил, что некий профессор Тимирязев изволил выразиться, что монархия – это анахронизм, который пора сдать в археологический музей.
– Ничего, ничего… – недовольно хмурясь, ответил министр. – А агентов отправьте в Николаев немедля…
Пришлось отправить… А то вдруг приказ из департамента – срочно внедрить агентуру в среду анархистов, там-де зреет серьезная опасность. Пришлось внедрять. А оказалось, анархистов тех восемнадцать человек и ничего у них там не зреет, так как главное их занятие – ночные грабежи под флагом экспроприации буржуев. Всего дела для двух расторопных полицейских…
А чего стоит такое еще дело… Явный проходимец Мануйлов, пригретый самим премьер-министром Штюрмером, испугался, что некий господин Пец хочет отбить у него любовницу, опереточную диву Лерму. И ему, начальнику охранки, отдают приказ немедленно арестовать соперника Мануйлова как пособника немцев. И он производит арест, занимается следствием. Подозрения не подтверждаются. Вокруг ареста возникает шум, и после этого ему же поручают найти способ «мягко» закрыть дело, освободить арестованного, но сделать это так, чтобы он не мог встречаться с опереточной… Черт знает что ему суют, мешая делать главное!
Злясь на все это, Глобачев втайне прекрасно понимал, что все отвлечения охранки все же не главная причина его устойчивых неудач, но ему хотелось иметь хоть какое-то оправдание, когда его спросят, почему охранка не справляется со смутой…
А к концу шестнадцатого года Глобачев чувствовал себя на ощупь бредущим в каком-то безысходном лабиринте. Он делал все, что мог, но агентура давала все более ясные и тревожные сведения, что в Петрограде назревает восстание, что в него собираются вовлечь не только фабричных, но и солдат на фронте.
Поздним декабрьским вечером, когда Глобачев сидел в своем кабинете над необыкновенно тревожной сводкой агентурных данных, бесшумно вошел адъютант:
– К вам цоднимается генерал Спиридович…
– Сразу же проводите ко мне, – распорядился Глобачев. А этому что от него надо? Но он давно читал книгу Спиридовича об опасности социал-демократии и считал, что об этом они думают одинаково. Мелькнула мысль: не воспользоваться ли тем, что Спиридович начальник личной охраны царя, чтобы передать свою тревогу в Царское Село?..
Спиридович вошел со словами:
– По-прежнему ночами не спит одна бедная охранка… Они поздоровались.
– Что бедная, это точно, – усмехнулся Глобачев, направляя лампу-прожектор в сторону.
– Не дают денег? – поднял брови Спиридович, садясь в кресло.
– Не дают нормально работать, – тихо произнес Глобачев и, видя, что гость на его слова не реагирует, решает сделать прямой ход – Неужели у вас, в Царском Селе, некому сказать государю, что, если не сделать все, что надо, сегодня, завтра будет поздно?
– Некому, Константин Иванович… Некому, – еле слышно ответил Спиридович, смотря в пространство.
– А вы? Еще когда вы били в колокол…
– Я завтра уезжаю в Ялту.
– Неужели он едет отдыхать? – потрясенно спросил Глобачев.
– Я еду без него, – усмехнулся Спиридович. – Еду к месту своего нового назначения – править городом Ялтой.
– Что случилось?
– Долго рассказывать, Константин Иванович… Знаете, зачем я к вам зашел? Узнать, прежний ли вы Глобачев или…
– Или, Александр Иванович, – тихо ответил Глобачев и повторил – Именно или…
– Я никого не хочу винить, – помолчав, сказал Спиридович. – Значит, так ей, России, Константин Иванович, и надо.
Они молчали. Было слышно, как шуршит бьющий в зашторенные окна метельный снег.
– А ведь еще можно! Можно! – вдруг воскликнул с тоской Глобачев. – Я же выявил все их берлоги. Дайте мне сегодня полк. Один полк! И развяжите руки! Я бы такую варфоломеевскую ночь устроил! Утопил бы эту большевистскую ораву в ее собственной крови! – Глобачев тихо выкрикивал фразу и каждый раз бил по столу сжатым до белизны кулаком. Потом уронил руки плетьми по бокам кресла и выругался матерщинно – длинно и яростно.
Снова молчание. Вой метели за окнами. Спиридович зябко поежился в кресле:
– В общем, сам бог отправляет меня в Ялту. Новую Помпею увижу издали. Так что мне лучше, чем вам.
– Я не пойму одного – неужели государь ничего не помнит? – с яростью спросил Глобачев. – Совсем недавно был у меня Нижний. Сормово! Это же бастион левых. Губернатор в штаны наклал – не совладаем! А я там такой сенокос устроил! Под корень брал! Под корень! И стало тихо.
– И сейчас там тихо? – с оттенком иронии спросил Спиридович.
– Так на мое место дурака послали, – вздохнул Глобачев. Спиридович встал, прошел к окну и, приоткрыв гардину,
смотрел в замороженное стекло.
– Нет, Константин Иванович… – заговорил он, не оборачиваясь. – Сейчас, по-моему, уже поздно. Косить надо было начинать куда как раньше. Как с той первой революцией покончили, надо было передохнуть малость из хитрости и снова косы в руки. Эта социал-демократическая зараза живуча. У нее идея соблазнительная – бить богатых. Бедных-то легионы, и у них против богатых зло застойное. Большевики на этой злобе всю свою карусель и крутят. Против этой заразы лекарство одно – страх. А страх в один день не посеешь. Кроме того, большевики пролезли на фронт к солдатам, а тех уже ничем не испугаешь, у них в руках винтовки.
– Бог ты мой, сколько раз я докладывал об армии. – Глобачев выхватил из груды синюю папку, раскрыл ее. – Вот… Еще в прошлом году идея у меня была – в каждом полку выделить одного надежного офицера и сделать его нашим представителем. Оставить ему воинское жалованье и от нас дать полсотни. И закоротить его прямо на военно-полевой суд. Представляете, какая пошла бы косьба! Так где этот проект утопили? Вот, пожалуйста, заключение министерства финансов! В текущем году подобные ассигнования не предусмотрены… Ну скажите, зачем наш министр полез в министерство финансов? Он же каждый год миллион кидает на поддержку верных газет. Кому нужны эти газеты? А тут полез к финансистам. Чушь! Безответственность! Тупость!
Спиридович быстрыми шагами вернулся к столу:
– Что ваш министр, Константин Иванович, когда сам царь не понимает этой смертельной для него опасности. Он же больше боится Родзянко с Гучковым. Если хотите знать, скажу между нами: я уезжаю только потому, что слишком настойчиво пытался открыть ему глаза на угрозу социал-демократической революции. В нашем последнем разговоре об этом он заявил, что монархия и Россия – это одно целое и никто никогда эти понятия не разъединит. Он окружен праздными сановниками, карьеристами, дураками, они заслоняют от него реальность и вовлекают его в свои эгоистические интриги. А царица тут первый и главный заслон, потому что ей он свято верит во всем по сей день. Не далее как сегодня утром я с ними прощался, был позван к завтраку. У обоих на лицах все еще траур по Гришке. Я решил ни с чем не считаться и сказал ему: ваше величество, не гневайтесь, но я обязан сказать вам – нет более грозной опасности, чем социал-демократия с ее идеями. Царица пальцы к вискам прижала, говорит: дайте же ему отдохнуть, ради бога, и сами отдохните получше в благословенном Крыму, а когда мы там будем, приходите к нам запросто в Ливадию. А он добавил: там, говорит, мы и вернемся к разговору о ваших социал-демократах. О ваших – так сказал. Вот и весь разговор.
– Ужас… Ужас, – прошептал Глобачев и вдруг с яростью спросил – А знаете, где сейчас революция? – Он показал на дверь – Рядом! За дверью! Вплотную!
– Да-а-а, – после долгого молчания вздохнул Спиридович. – Здесь у вас я сейчас оставляю последнюю свою надежду.
– Все-таки я еще немножечко верю, – тихо сказал Глобачев, вставая. – Вдруг блеснет разум там, в Царском Селе, и тогда за нами не станет…
Спиридович покинул охранку далеко за полночь. Шагал неторопливо по темным улицам Петрограда, пиная сапогом комья снега…
До революционного взрыва оставалось полтора месяца…
Как встречал русский царь 1917 год, установить не удалось. Есть только одно свидетельство и то через третьи руки – воспоминания некой дамы, почему-то скрывшейся за инициалами Н. Н., опубликованные в русском эмигрантском «Журнале для всех». Там есть место, где она приводит следующие строки из письма лейб-медика Е. С. Боткина ее мужу: «В ту, обычно сияющую огнями ночь дворец был погружен во мрак и уныние. Вскоре после наступления Нового года я пошел к Ним, чтобы поздравить, я так всегда делал. Он, Она, дочери Ольга и Татьяна играли в домино, последнее время они очень полюбили эту игру. В соседней комнате стояла елка с потушенными свечами, там никого не было. Наследник уже спал. Я поздравил Их, и Они поздравили меня. Странно и даже нелепо звучали привычные слова «С новым счастьем». Я еще, как врач, пожелал им крепкого здоровья, на что Он ответил с улыбкой, что на слабое здоровье Он пожаловаться не может. Но никакого другого разговора не получилось. Им, наверное, хотелось продолжать игру, и я вскорости ушел…»
Известно, что в рождественские дни вся царская семья присутствовала на ежевечернем церемониале вручения у елки подарков нижним чинам царскосельского гарнизона. Сначала царь с наследником проводили парадный смотр и поздравляли строй с рождеством Христовым, а затем великие княжны вручали подарки.
Газеты об этом ритуале писали скупо, а многие вообще обошли его молчанием – слишком тяжко было на Руси, чтобы восторгаться этим действом, не нужным ни царю, ни солдатам, ни тем более измученному народу. Более того, оказывается, эти подарочные представления тревожили охранку. Поначалу комендант царскосельского дворца генерал Воейков решил эту рождественскую церемонию проводить в Александровском дворце, где проживала царская семья, и избрал для этого голубой зал. Туда уже и елку затащили, как вдруг… генерал Воейков получает грозную бумагу из охранки. В ней говорится: «…размеры зала (96 * 6 аршин) создадут обстановку, когда августейшая семья окажется всего в 30–35 шагах от массы, что абсолютно недопустимо. В качестве одного из заменяющих вариантов можно предложить манеж Конюшенной части…» Туда и была срочно перетащена елка…
Номера петербургских и московских газет, вышедшие 1 января 1917 года, навевали в лучшем случае грусть, а то и просто отчаяние. Так, в газете «Биржевой день» ее редактор С. Касторский поместил статью под заголовком «Жизнь без надежды» и для цензора после этих слов – знак вопроса – дескать, все, что в статье, это не утверждение, а всего лишь предположение. Но, как говорится, хрен редьки не слаще… Читаем, представив себе, как это читалось в те дни… «Многие думали – хоть бы не кончалась эта новогодняя ночь никогда и не наступало утро во всей его устрашающей наготе. Спросите у докторов – они скажут вам, как небывало часты сейчас самоубийства – люди не хотят просыпаться… Не просыпаться… не просыпаться…»
А вот «Московским ведомостям» все нипочем – в номере от 1 января 1917 года читаем: «Одним словом, благодарение богу, Россия вступает в Новый год при многих благоприятных предзнаменованиях, смягчающих неизбежно трудные условия нынешнего времени…»
И снова только большевики ясно видели происходящее и говорили народу правду. Вот пожелтевшая от времени листовка Московского бюро РСДРП – она появилась на улицах, на собраниях накануне Нового года. В ней точная характеристика монархии: «…отжившее свой век правительство является образцом бездарности и низости. Дворцовые интриги, захват власти проходимцами и изменниками, предательство и провокации стали обычным делом правящей шайки…» Точнее не скажешь… О пролетариате в листовке говорится, что его возмущение «растет, массовое революционное движение неизбежно. И правительство и буржуазия спешат отвести от себя руку пролетариата… Революционная борьба за демократическую республику, открывающая путь к последней борьбе – к борьбе за социализм, – вот его цель…»
Что же касается самого царя, то его неведение о происходящем уже вышло за пределы элементарного понимания. 23 февраля (!) 1917 года он отправляет из Ставки письмо царице, в котором ни слова о политике и событиях. Все письмо о чисто семейных делах. Есть в нем и такое:
«Мне очень не хватает получасового пасьянса каждый вечер. В свободное время я здесь опять примусь за домино. Эта тишина вокруг гнетет, конечно, если нет работы…»